
|
|
Оксана Юрьевна Захарова
Русский бал XVIII — начала XX века. Танцы, костюмы, символика

Вместо предисловияКнига доктора исторических наук, профессора О.Ю. Захаровой в первой части «История бального церемониала в России» продолжает открывать читателю особый мир, невиданный и пока что недостаточно изученный мир бального церемониала.
История России петербургского периода непредставима без балов. Но свечи, кавалеры и дамы, мазурка — все это наши самые общие представления о больших и малых «вечерних собраниях обоего пола для пляски» (такое определение дано балу в словаре Даля).
А ведь «пир с женщинами» Петровской эпохи не похож на празднование «времен очаковских и покоренья Крыма» и уж совсем далек от бала середины XIX века.
Во второй части книги «Балы в русской поэзии и прозе XIX–XX вв.» представлены сцены балов и танцевальных вечеров в русской литературе, которые помогут читателю представить поэтический мир бальной культуры XIX–XX вв.
Ценность хрестоматии состоит в том, что в ней содержатся не только произведения классиков русской литературы, но и фрагменты о балах в произведениях русских писателей и поэтов, недостаточно известных широкому кругу читателей, а именно: М. Загоскина, А. Бестужева-Марлинского, В. Соллогуба, А. Плещеева, Е. Ростопчиной, Н. Листова, К. Веригина, Н. Гумилева, А. Цветаевой.
Оригинальность материала, документальная основа, уникальные иллюстрации, часть из которых публикуется впервые, в совокупности делают проведенное исследование О.Ю. Захаровой неоценимым вкладом в российскую церемониальную культуру, что является актуальным для возрождения национального самосознания и российской культуры.
Не претендуя на полный охват произведений русской литературы о балах, автор не оставляет надежды, что у читателей появится интерес к творчеству и произведениям замечательных русских писателей.
Данное издание О.Ю. Захаровой продолжает тему высокой церемониальной культуры русских балов в ранее опубликованных ее книгах: «История русских балов», «Балы пушкинского времени», «Власть церемониалов» и др.
Книга может быть рекомендована в качестве дополнительной учебной литературы для преподавателей и учащихся высших и средних учебных заведений.
Доктор философских наук,
профессор филологического факультета МГУ
Искржицкая И.Ю.
Удивительное переплетение эпох и судеб, политики и культуры, взглядов и симпатий. Погружение в историю бальной культуры России, основанное не только на исторических документах, но и на литературных источниках, дается в книге известного ученого, писателя, искусствоведа Оксаны Юрьевны Захаровой. Это серьезный исследовательский труд, впервые комплексно рассматривающий такую форму общественной жизни, как бал, с точки зрения строгого церемониала.
Бальная культура — это культура общества, это социальное и политическое явление, имеющее глубокие исторические корни. В России балы получили широкое развитие с эпохи Петра I и послужили отправной точкой в формировании европейского мировоззрения. Балы проходили и в царских резиденциях, и во дворцах вельмож, и в губернских собраниях, и в имениях крупных помещиков. Это был регламентированный ритуал, где каждая деталь поведения и костюма играла свою роль. Это был своеобразный театр жизни, театр представления, в котором разыгрывались и вершились судьбы народов, плелись тончайшие кружева европейской политики, создавалось общественное мнение. В этом театре существовали различные жанры, подчинявшиеся определенным правилам. Здесь трагедия могла дойти до фарса, но комедия никогда не превращалась в балаган. На балах представляли высшему обществу молодых девиц. Выходу в свет предшествовали годы обучения этикету, манерам, танцам.
Автор рассматривает и анализирует почти все известные литературные описания бала. Читатель встретится с отрывками из таких произведений, как «Арап Петра Великого» и «Евгений Онегин», «Война и мир» и «Анна Каренина». Тщательно подобранные фрагменты из произведений И. Тургенева, И. Бунина, А. Куприна, М. Цветаевой и других русских поэтов и прозаиков позволяют в полном объеме увидеть ретроспективу этого феномена.
Особого внимания заслуживает тщательность описания бытовавших в различные исторические эпохи танцев, исполняемых на балах. Анализ социальных предпосылок возникновения контрдансов, менуэта, полонеза, мазурки, вальса, французской кадрили, польки приводит к неожиданным выводам. Найденные в архивах материалы по восьмидесяти трем котильонам, популярным в середине XIX века, дают более полное представление о хореографической культуре светской России, заставляют отнестись к балу и как к институту хореографической моды. Это ценно еще и потому, что бальная хореография являлась общекультурной составляющей жизни высшего света. Только бал мог дать охранные грамоты тому или иному танцу и тем самым делал его популярным.
Однажды взяв книгу в руки, вы будете возвращаться к ней постоянно. В этом кроется некая тайна всех произведений Оксаны Юрьевны Захаровой.
Елена Преснякова,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры хореографии РАТИ — ГИТИС,
заместитель декана балетмейстерского факультета
РАТИ — ГИТИС
История бального церемониала в Росии
ВступлениеЧем больше потрясений происходит в политической жизни государства, тем резче изменения в формах и бытовых условиях жизни и тем дальше отодвигаются от современных поколений прошедшие эпохи. «Современное общество легко и развязно отрекается от недавних еще законов жизни, с презрением и насмешкой машет рукой на прежний бытовой уклад и умышленно разрывает всякую связь с родным прошлым» — эти слова Е.Н. Опочинина, опубликованные на страницах печати в 1909 году, удивительным образом созвучны сегодняшнему времени. Между тем, чтобы «осмотрительнее и вернее идти вперед, хорошо иногда припоминать, откуда идешь».[1]
Культура любого общества многослойна, и русская культура всегда существовала не только как единое целое. Каждое сословие имело свои права и обязанности, свою грамматику поведения, свой язык, свой кодекс нравственных правил.
В российской истории различия в культурной жизни сословий особенно ярко проявляются с конца XVII столетия. «Петру, — писал академик Д.С. Лихачев, — бесспорно принадлежит смена всей «знаковой системы» Древней Руси. Он переодел армию, переодел народ, сменил столицу, перенеся ее на Запад, сменил церковнославянский шрифт на гражданский, он демонстративно нарушил прежние представления о «благочестивейшем» царе и степенном укладе царского двора»[2]. Хорошо между тем известно, что среди отечественных историков принята как идеализация, так и очернительство Петровской и последующих эпох. Как отмечал Ю.М. Лотман: «XVIII — начало XIX века — это семейный альбом нашей сегодняшней культуры, ее «домашний архив», ее «близкое-далекое»[3]. В создании своеобразного «архива» российской культуры этого периода доминирующая роль принадлежит дворянскому сословию. Долгое время существовало негативное отношение ко всему, к чему приложен эпитет «дворянский». Между тем это жизнь среды, к которой принадлежат А.В. Суворов, К.И. Брюллов, П.А. Столыпин, П.И. Чайковский, М.П. Лазарев и многие другие имена, прославившие Россию на весь мир. Чтобы освоить и понять духовное наследие прошлого, необходимо хорошо знать различные грани жизни тех, кто создавал это наследие. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи, руководствуясь определенными нравственными правилами.
Передовому российскому дворянству была присуща следующая система взглядов: монархическая власть незыблема; дворяне — посредники между верховной властью и народом; любые реформы не должны нарушать целостную систему государства, его реальные потребности. Какими бы ни были личные воззрения современников на действия властей, истинный патриот должен служить Отечеству на любом поприще. Честное выполнение обязанностей, возложенных императором, — основа жизненной позиции. Успехи в карьере — своеобразная оценка принесенной пользы за время службы. Но ключевое понятие мироощущения — честь, нравственная ответственность перед памятью предков и последующими поколениями. Эти принципы закладывались в основу системы воспитания в большинстве дворянских семей.
В России не было парламентской или иного вида полемики, в которой высказывали свои взгляды представители различных общественных групп. Узнать о том, что происходило в стране, о настроениях в обществе и при дворе, можно было только в столичных салонах и гостиных, на приемах, танцевальных вечерах и балах, где собирался высший свет Петербурга и Москвы.
Видный военный деятель России Н.А. Епанчин считал, что жизнь в светском обществе — это «…жизненная школа, которую следует так же пройти, как и школу семьи и учебную школу».[4]
Как вспоминал князь С.Е. Трубецкой, для его отца, философа, князя Е.Н. Трубецкого, светское времяпрепровождение было настоящим страданием. Евгений Николаевич любил заниматься наукой в своем кабинете, слушать музыку и проводить время в тесном семейном кругу. «Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкало его на путь общественного служения, к которому, по существу, у пап? было мало вкуса, но тут он не щадил ни сил, ни времени».[5]
Светские ритуалы, к числу которых относятся и балы, и танцевальные вечера, были своеобразным актом общественного представительства дворянина. К тому же для молодого поколения бал — это место, где, по словам П.А. Вяземского, «…мы учились любезничать, влюбляться, пользоваться правами и вместе с тем покоряться обязанностям общежития. Тут учились мы и чинопочитанию, и почитанию старости».[6]
Бальный ритуал сравним с законченной по смыслу художественной фразой. Грамматика бала, как и других светских ритуалов, составлялась при дворе императора.
Особые правила, регламентирующие жизнь двора, начали складываться еще в Древнем Риме, в период укрепления императорской власти. Византийский император Константин ввел титулы, которые были обязательны при обращении к знатным лицам. Каждый придворный участвовал в церемониях, выполняя строго определенные функции.
В Средние века сформировался новый социальный институт двора. Двор — это сообщество людей, зависящих от могущественной особы. Главной функцией двора являлось поддержание престижа монарха. Каждый придворный обязан был помнить, что его поведение — от манеры держаться и говорить до способа выезжать из дому — должно соответствовать его положению в обществе.
Следует выделить интересное воспоминание графа А.Р. Воронцова, что императрица Елизавета Петровна разрешала бывать детям при дворе в приемные дни. Это давало им возможность с ранних лет незаметным образом познавать школу политики. К тому же будущий государственный деятель должен уметь свободно и достойно держать себя в обществе, иметь хорошие манеры, а эти качества закладываются уже в детстве.
Фрейлина высочайшего двора, дочь великого русского поэта Ф.И. Тютчева, — А.Ф. Тютчева отмечала в своих воспоминаниях, что во время воскресной службы, находясь в храме, маленькие члены императорского дома, младшему из которых не было еще трех лет, стояли молча и неподвижно в течение всей длинной воскресной службы. «Я никогда не понимала, как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, которого никогда нельзя было бы добиться от ребенка нашего круга; однако не приходилось прибегать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить их к такому умению себя держать, оно воспринималось ими с воздухом, которым они дышали»[7]. Благородное поведение — признак благородной души и просвещенного ума.
Общение — форма творчества. Помимо языка звуков существует язык взгляда, жеста, покроя костюма. Манеры — внешняя оболочка внутренней природы человека. «В манерах отражаются добродетели», — говорил Сидней Смит.
Придворный этикет строжайшим образом регламентировал дворцовую жизнь. Заранее было установлено, кто сопровождает монарха, как проходят высочайшие выходы, церемонии аудиенций, балов, обедов. Он же приобщал людей к определенной социальной группе, выражал содержание принципов нравственности и с течением времени становился ритуалом, состоящим из сложной системы детально разработанных правил учтивости.
Просветители XVIII столетия рассматривали придворный этикет как средство власти. Не случайно в период Великой французской революции беспощадно искоренялись старые нормы взаимоотношений. Так, к примеру, в письмах следовало писать не «ваш покорный раб, слуга» и т. п., а «ваш согражданин, брат, друг, товарищ» и т. п. Вместо обращения на «вы» декретом от 8 ноября 1793 года было введено обращение на «ты». Депутат Шалье внес в Конвент проект постановления о республиканских формах вежливости, одежде, обычаях. «Республиканская вежливость, — говорилось в проекте, — вежливость самой природы». Этим она противопоставлялась изысканной вежливости аристократии, учтивость и элегантность которых «культивировались тиранами для того, чтобы импонировать и властвовать».
Как справедливо отмечают в своем исследовании «У истоков этикета» А.К. Байбурин и А.А. Топорков: «Наказание за несоблюдение правил этикета имеет индивидуальный характер и может последовать незамедлительно; невыполнение же ритуальных предписаний должно сказаться на будущем благополучии всего коллектива».[8]
В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг — нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это все переменилось. Французский кадриль заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты ci-devant, un homme[9] стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны».
У деятелей тайной организации декабристов Союз благоденствия «витийство на балах» входило в установку общества. В конце 40-х годов Петрашевский бывал в Дворянском собрании и клубах, на маскарадах «…с единственной целью заводить знакомства для узнания и выбора людей».
В начале XX столетия революционно настроенные студенты, посещая балы, не участвовали в танцах, тем самым противопоставляя себя приглашенным офицерам. Отказ от участия в танцах, экстравагантный костюм, вызывающие манеры были знаковым символом оппозиции XIX — начала XX века.
Ритуальное поведение, в отличие от бытового, требует использования специальных приемов для поддержания статуса партнеров по общению. В ритуале существует главенствующая система принципов. Это явление в жизни общества, преследующее преимущественно символические цели. Ритуал подчеркивал силу и величие династии, вековые устои правящего дома, каждый член которого обязан был помнить, что «люди с властью и с богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство».[10]
История русских баловИстория бального церемониала берет начало в древности. Любопытные сведения о первых балах содержатся в «Танцовальном словаре…». В частности, там говорится, что Сократ был удостоен похвалы философов последующих поколений за то, что танцевал на балах с «Афинскою церемониею». В то же время Платон заслужил их порицание, отказавшись танцевать на балу, «который давал Сиракузкий Король». Строгий Катон, подобно господину Журдену, счел за долг «предаться достойным посмеяния наставлениям Римского танцмейстера».[11]
В начале XI века упоминания о балах встречаются в описаниях французских турниров. В XII–XIII веках особой изысканностью отличалась придворная жизнь Лотарингии и Тюрингии. Быстро распространяясь по Франции и Германии, балы стали любимым развлечением европейских стран, длительное время сохраняя элитарный характер.
Балы подразделялись на простые, маскарадные и публичные. Простой бал — «простая пляска, требующая немногих шагов и приятств, приобретенных добрым воспитанием, составляет всю цель этих спектаклей. В торжественных случаях удобное прибежище для людей без воображения».
На публичных балах не было, как ныне, «много великолепия без искусства, великих пышностей без замысла и расточительности без увеселения».
Во время балов хозяева развлекали приглашенных театральными представлениями, носившими зачастую политический, агитационный характер. Одним из таких представлений в 1454 году был «Пир фазана», в песнях и диалогах которого прославлялись христианская церковь, рыцарская добродетель, доказывалась необходимость Крестовых походов.[12]
Средневековые рыцарские турниры заканчивались балами, на которых исполнялись танцы-шествия. Собравшиеся на пир проходили перед хозяином, демонстрируя себя и свои костюмы. Во время танца с факелами в первой паре шествовал рыцарь — победитель турнира, эта пара вела колонну, выбирая фигуры и направляя движение танцующих.[13]
На бальном церемониале каждый должен был продемонстрировать владение определенным комплексом сословных норм. На балах Людовика XIV придворный этикет соблюдался особо строго. Для короля Франции дела государственные превыше всего, но при этом Людовик XIV не стремился превратить двор в подобие ханжеского сообщества, демонстрирующего свое презрение к развлечениям. Приемы Людовика XIV были не только изысканны и роскошны, но и прекрасно организованы. Людовик XIV был горячим приверженцем придворного церемониала, составленного при Генрихе III.
Основные правила проведения бального церемониала XVII века были следующие: на большом королевском бале могли присутствовать только принцы и принцессы крови, герцоги, герцогини, пэры, придворные дамы и кавалеры; придворным не полагалось сидеть в присутствии его величества, кавалеры размещались за дамами; король открывал бал с королевой или с первой принцессой крови. После поклонов король и королева начинали танцевать бранль, которым открывались придворные балы времен Людовика XIV. Исполнив свой куплет, король и королева становились сзади выстроившихся пар, каждая из которых танцевала бранль по очереди. И так происходило до тех пор, пока их величества вновь не становились первыми.[14]
Затем исполнялись гавот и менуэт. По окончании менуэта король садился. Отвесив низкий поклон королю, принц подходил к королеве или к первой принцессе и приглашал танцевать с ним менуэт.
После этого королева приглашала другого кавалера, которому по окончании танца указывала его новую партнершу. После менуэта кавалер с поклоном оставлял свою даму и садился. Дама приглашала другого кавалера, и так продолжалось до завершения бала. Если партнер отказывался танцевать один раз, ему не следовало танцевать в продолжение всего бала.[15]
Его величество мог изменить порядок танцев, о чем сообщал танцующим через камер-юнкера. Подобную церемонию следовало соблюдать на публичных и частных балах того времени.
В России первое упоминание о бальном церемониале мы встречаем в описаниях придворной жизни времен правления Лжедмитрия I. На свадебном пиру Лжедмитрия звучал оркестр Станислава Мнишека, что сообщало торжеству отпечаток европеизма. В заключение торжества царь предложил гостям потанцевать. Бал открыли С. Мнишек и князь Вишневецкий. За ними последовали и другие.[16]
Придя к власти, Отрепьев стал высокомерен и заносчив. Уже само проведение самозванцем невиданных до этого при русском дворе церемониалов было вызовом обществу. Отрепьев не только не пощадил традиции русского боярства — на одном из балов он пришел в гнев оттого, что польский посол посмел надеть шапку во время танца. Царь объявил, что прикажет снять шапку вместе с головой у того, кто последует примеру посла. На том же балу после каждого танца гости были обязаны кланяться государю.[17]
Падение Лжедмитрия не дало балам укорениться в русской культурной жизни. Они вернулись в придворную жизнь уже при Петре I. Петровская Россия была страной с иным стилем жизни господствующего класса. Бал — одна из первых новых форм общественного церемониала.
По мнению ряда исследователей XIX века, одной из причин введения Петром I светских праздников была его уверенность в том, что «ничто более обращения с женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа»[18]. Другая же причина заключалась в стремлении Петра Алексеевича сблизить все сословия общества, для чего и устраивались праздники. Многочисленные успехи русской армии в этот период давали к тому повод, впоследствии особенно торжественно отмечались четыре победы русского оружия: 27 июня — в память о Полтавской битве; 9 августа — взятие Нарвы; 28 сентября — сражение под Лесной; 18 октября — победа под Калишем.
Указ от 26 ноября 1718 года устанавливал правила поведения на неслыханных дотоле собраниях мужчин и женщин, названных ассамблеями; некоторые пункты этого указа гласили:
«1. В котором дому имеет ассамблея быть, то надлежит письмом или иным знаком объявить людям, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и женскому.
2. Ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее пополудни не продолжается.
3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать <…>.
4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не ранее и не позже положеннаго времени; также тут быть сколько кто похочет, и отъехать волен, когда хочет.
5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить или унижать, также церемонии делать вставаньем, провожаньем и прочим, отнюдь да не держат под штрафом великаго орла, но только при приезде и отъезде поклоном почтить должно».[19]
На ассамблеях полагалось присутствовать всем высшим чинам, включая обер-офицеров, а также знатным купцам и приказным, начальным мастеровым людям. Лакеям не разрешалось входить в апартаменты, где веселились приглашенные.
Первая ассамблея состоялась у генерал-адмирала Апраксина, вторая, через день, — у тайного советника Толстого. Ассамблеи повторялись всю зиму по три раза в неделю.
На первых ассамблеях танцы воспринимались собравшимися как повинность, после исполнения которой участники стремились как можно меньше общаться между собой и по окончании фигур расходились в разные стороны. Петр Алексеевич не только указами, но и личным примером стремился заставить дворян принять новый способ общения. Делал это царь с присущими ему упорством и энергией, он посещал почти каждую ассамблею, иногда сам распоряжался танцами, выделывая, по словам камер-юнкера в свите герцога Голштинского Берхгольца, такие «каприоли», которые составили бы честь лучшим европейским балетмейстерам того времени.[20]
Берхгольц в своем дневнике дает описание церемониального танца, которым открывался один из балов того времени. Так же как в английских танцах, танцующие вставали в две линии, кавалеры напротив дам. Сначала музыканты играли «род погребального марша», во время которого кавалер и дама первой пары делали реверансы своим соседям и друг другу, потом брались за руки и, выполнив «круг влево» (во время которого кланялись зрителям), возвращались на свое место. Другие пары одна за другой делали то же самое. По окончании этого танца музыканты начинали играть польский. И если в первом танце исполнители часто не попадали в такт музыке, то теперь они танцевали с особым усердием. После польского исполнялись менуэты и англезы. А затем десять или двенадцать пар связывали себя носовыми платками, и каждый из танцующих, по очереди, идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Дамы особенно любили этот танец. Они выполняли свои фигуры не только в зале, но и в других гостиных, саду и даже на чердаке. Причем музыкант со скрипкой шел в начале процессии.
На свадебных балах прощальный танец исполняли пять пар, маршал с жезлом танцевал впереди, и все следовали за ним. Польский начинался тотчас. Во время этого танца все шаферы держали в руках восковые свечи, с которыми провожали танцующих в спальню невесты.
Праздники того времени часто завершались фейерверками, полными политических аллегорий. Зажигались они летом на специальных баржах, которые стояли на Неве, напротив Летнего сада. Во время празднования Полтавской победы был зажжен такой фейерверк: «На двух столбах сияло по короне; между ними горящий лев; он коснулся одного столба, и тот опрокинулся; затем лев перешел к другому столбу, покачнул его так, что и этот готов был упасть, но тогда из горящего орла, который словно парил над ними, вылетела ракета, ударила во льва и зажгла его; он разлетелся в куски и исчез, а наклоненный львом столб с короною поднялся и снова стал прямо».[21]
Аллегорический смысл состоял в том, что русский орел побеждает шведского льва, который потряс короны двух союзников Петра Великого — Польши и Пруссии.
После смерти Петра I ассамблеи прекратили свое существование, но балы давались довольно часто, причем, по отзывам современников, вид подобных празднеств был значительно облагорожен. До царствования Екатерины Великой существовал такой обычай: хозяин дома, где давался бал, выбирал прекрасную даму, поднося ей букет цветов; затем она отдавала цветы одному из кавалеров, назначая его хозяином будущего бала. Накануне кавалер посылал этой даме веер, перчатки и цветы, с которыми она приходила на бал.
Елизавета Петровна всегда была украшением балов и других празднеств, даваемых при дворе. «7 мая 1729 года в память восшествия на престол государя (Петра II. — О. З.) был большой бал. Царевна, под предлогом нездоровья, не явилась на него, а на другой же день выздоровела».[22]
Не прийти на подобное торжество означало бросить вызов обществу и самому императору. Для Елизаветы Петровны это был рискованный шаг, грозивший поссорить ее с племянником. Отказ от светского праздника мог привести к заточению в монастырь. И кто знает, может, так бы и случилось, если бы 19 января 1730 года император Петр Алексеевич не скончался от оспы.
При императрице Анне Иоанновне придворные праздники отличались особым великолепием и приобрели более европейский вид. Торжества по случаю коронации императрицы поразили современников грандиозной пышностью. «Вы не можете вообразить, — писал английский посланник, — как великолепен здешний двор с новым царствованием, хотя в казначействе нет ни одного шиллинга. При всеобщем безденежье куртизаны входят в неоплатные долги, чтобы делать великолепные наряды к маскарадам».[23]
Только в январе 1732 года после целого ряда торжеств императорский двор возвратился в Санкт-Петербург. На придворных собраниях снова блистала дочь Петра Великого — Елизавета Петровна. Супруга английского посланника при русском дворе леди Рондо, подробно описывая утреннюю аудиенцию китайского посла при дворе Анны Иоанновны, отмечала, что на вопрос императрицы: «Какая дама здесь прелестнее всех?» — китайский посол отвечал: «Смотря на небо в звездную ночь, можно ли сказать, которая звезда более блестит?» Но, видя, что ответ не пришелся по нраву Анне Иоанновне, он поклонился великой княжне Елизавете Петровне и сказал: «Из числа всех этих прелестных дам я почитаю эту прекраснейшею, и если б только у нея были не так велики глаза, то никто бы не мог взглянуть на нее и после жить. Во всякой стране свои понятия о красоте: по нашему вкусу у великой княжны прекраснейшие глаза». Ее величество спросила посла: «Из всего того, что ты здесь видишь, что более всего поражает тебя несходством с обыкновениями твоей страны?» — «Видеть женщину на престоле», — отвечал он».[24]
Этикет при дворе императрицы был довольно строг. Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, прежде чем явиться к Анне Иоанновне, требовалось обратиться с просьбой о приеме. В день своего рождения Елизавета Петровна, приняв у себя во дворце поздравления и подарки, вечером отправлялась на бал к императрице: устроить его у себя она не имела права.
14 июля 1739 года с необычайным великолепием состоялась свадьба племянницы Анны Иоанновны — принцессы Анны Мекленбургской с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, который жил при дворе с 1733 года. Более года продолжалась работа над экипажами и платьями, предназначенными для этой церемонии.
В августе следующего года у Анны Леопольдовны родился сын, названный Иоанном, который вскоре был объявлен наследником русского престола.
Елизавета Петровна необычайно любила устраивать балы-маскарады, слава о которых разнеслась по всей Европе. Все увеселения делились на разные категории, причем каждый раз строго определялось, в каких костюмах должны быть дамы и кавалеры. Особенно популярны были при русском дворе маскарады, которые устраивались два раза в неделю: одни — для двора и тех лиц, кого императрица приглашала лично, другие — для шести первых классов и «знатного шляхетства».
Каковы бы ни были условия маскарадов, являться на них следовало обязательно. Отказ расценивался как оскорбление августейшей особы или как вызов. При этом условия не всегда приходились по нраву гостям. Так, в 1744 году императрица приказала явиться на маскарад мужчинам без масок, в огромных юбках на фижмах и причесанными по последней дамской моде. Дамы, соответственно, облачились в мужские костюмы. Такие переодевания приносили удовольствие, пожалуй, лишь самой императрице, которая была ослепительно хороша в костюме кавалера. Настроение остальных присутствовавших было далеко не праздничным. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам».[25]
При всем этом на «маскированных балах» церемониал выполнялся весьма строго, что зачастую делало подобные собрания излишне чопорными, а веселость — искусственной. В танцах принимали участие не все приглашенные. Большинство гостей выступали в роли зрителей и в обыкновенных платьях наблюдали за танцующими.
Превратимся и мы в зрителей одного из маскарадов, устроенного во время торжеств по случаю венчания Екатерины Алексеевны с герцогом Голштинским, будущим императором Петром III. Маскарад был целиком построен на исполнении четырех кадрилей. Это означает, что четыре группы танцующих, по двенадцать пар каждая, в разноцветных домино исполняли танец в той части зала, которая была заранее отведена для каждой группы. Кадрили не могут смешиваться, о чем танцоров предупреждали при входе в зал. Каждая кадриль отличалась от других цветом бальных туалетов, тоже определенным заранее. Первую группу танцующих пар возглавлял великий князь Петр Федорович; домино этой группы розового и серебряного цветов. Вторую кадриль открывала Екатерина Алексеевна с маршалом Ласси; их цвета — белый и золотой. Во главе третьей группы танцующих шествовала мать великой княгини Голштин-Готторпская принцесса Иоганна-Елизавета в бледно-голубом с серебром (цвета ее кадрили). Наконец, четвертая кадриль — дяди Екатерины Алексеевны, принца, епископа Любекского, — в желтом с серебром.
Балы и маскарады поражали даже законодателей подобных празднеств — французов, считавших, что превзойти балы в Версале невозможно. Секретарь французского посольства де ла Месселиер сообщал в своих посланиях на родину: «Красота и богатство апартаментов невольно поразили и нас; но удивление вскоре уступило место приятнейшему ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало еще одно зрелище: все шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, состоявший из 80 музыкантов. Великий князь с великою княгинею подал пример танцам. Вдруг услышали мы глухой шум, напоминавший нечто весьма величественное. Двери внезапно отворились настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в большую залу. Воцарилась всеобщая тишина.
Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря с нами по-французски, как говорят в Париже».[26]
На балах, маскарадах и других празднествах зачастую решались государственные вопросы.
На маскарадах Екатерины Алексеевны веселились представители различных сословий. Каждый желающий мог получить билет в придворной конторе, причем, хотя для купечества и отводился отдельный зал, никому не запрещалось переходить из одной гостиной в другую и принимать совместное участие в танцах. На всех приглашенных должны были быть маскарадные костюмы, маски — по желанию.
На Новый год и до Великого поста устраивалось несколько придворных маскарадов, не уступавших в своем великолепии подобным празднествам времен Елизаветы Петровны. Чтобы убедиться в этом, отправимся вслед за приглашенными на так называемый «всесословный маскарад при дворе».
«Двадцать роскошно иллюминованных комнат дворца были открыты для публики. Посредине одной из зал, в которой обыкновенно давались придворные балы, устроено место для танцев особ высшего полета, огороженное низкой решеткой. Другая изящно убранная зала овальной формы, называемая «большой зал Аполлона», отведена для танцев лиц, не имеющих доступа ко двору, мещан и т. п. Остальные комнаты — где подавался чай и разныя прохладительныя — были заняты карточными столами. Все переполнилось громадной толпой, которая постоянно двигалась взад и вперед. Гостям предоставлено было на выбор — оставаться в масках или снять их. Представители дворянства явились в домино, лица низшего сословия в русских национальных костюмах, несколько приукрашенных. Это была как бы выставка одежд, носимых в данное время обитателями Российской империи, что представляло такое разнообразие пестрых фигур, какого не создала самая причудливая фантазия в маскарадах других стран. Многие купчихи были украшены дорогим жемчугом, расколотым для большего эффекта на половинки».[27]
Примерно около семи часов вечера в зале появилась императрица в сопровождении восьми дам и восьми кавалеров, составлявших «кадриль Екатерины Алексеевны». Екатерина шествовала впереди, опираясь на руку Разумовского. Императрица и сопровождавшие ее дамы были в пышных греческих костюмах, а кавалеры — в роскошных римских одеяниях с шлемами, щедро усыпанными алмазами. Взоры присутствующих были прикованы к герцогине Курляндской, графине Брюс и княгине Репниной; среди кавалеров выделялись Иван Чернышев и Потемкин. Императрица, обойдя несколько комнат и зал Аполлона, села играть в карты. Часть публики последовала за ней, разместившись на почтительном расстоянии от карточного стола. Около одиннадцати часов вечера императрица, как обычно, удалилась с маскарада, окончившегося после полуночи. Зачастую Екатерина Алексеевна просила принести ей записку с именами первого приехавшего и последнего покинувшего маскарад, то есть особо любящих повеселиться. Умение сочетать приятное с полезным высоко ценилось в то время, и некоторые празднества использовались для обличения распространенных пороков общества. Перед началом публичного маскарада, состоявшегося в декабре 1764 года, гости могли наблюдать несколько специально разыгранных картин следующего содержания:
«1. Шестнадцать человек петиметров[28]: у каждого в руке по маленькому зеркалу, в которое он беспрестанно смотрится и сам собою любуется; в другой руке бутылка с лоделаваном, которым он себя опрыскивает. За ним едет коляска, в которой петиметр сидя убирается и с парикмахером своим советуется, как бы к лицу убраться; перед ним и позади него лакеи держат зеркала.
2. Везут комнату, в которой сидит доктор. Около его шестеро больных, для которых он пишет рецепты. Позади везут аптеку, в которую он посылает слугу своего за лекарствами, и сам, выходя на крыльцо, всех уверяет, что хотя больные и перемрут, однако перемрут по самым точным правилам медицины. Восклицает ежеминутно: «Нет, нет лучше науки и важнее, как медицина!»
3. Везут комнату, в которой за столом сидят комедианты, ужинают с знатными господами и поют песни. Господа обходятся с ними запанибрата и разговаривают о любви.
4. Идут четыре человека педантов; рассуждают об науках, все неправильно и некстати, и сердятся на новых философов, которые разуму последуют.
5. Едут в комнате картежники, играют в карты, с распухшими лицами, которые показывают, что они ночей пять уже не спали; от проигрышу бесятся.
6. Идут шестеро скупых и едят сухой хлеб; за собой несут сундуки и оглядываются беспрестанно, чтобы не унес их кто; заглядывают в них и любуются деньгами»[29]. Получив таким образом необходимые нравоучения, приглашенные могли начинать веселиться.
Императрица Екатерина Великая особенно любила маскарады. Кроме больших балов и приемов в Эрмитаже маскарады давались при дворе каждую пятницу в особых залах для дворянства (в галерее) и для купечества. На этих балах собирались нередко около 500 масок.
Роскошь эрмитажных праздников, по словам современников, напоминала нередко волшебные сказки. На знаменитом празднике «Азора, африканского дворянина», данном императрицей в честь рождения первого внука, в залах дворца были изображены громадные вензеля, буква «А» (Александр) из настоящих бриллиантов и жемчугов.
Не следует полагать, что маскарады были настолько популярны в высшем обществе, что вытеснили другие празднества, в том числе и балы. При дворе бал устраивался каждое воскресенье. Интересным представляется замечание Л. Энгельгардта о том, что императрица следовала на празднество в таком же сопровождении, как и в церковь. Перед входом в зал Екатерине Алексеевне представлялись и целовали руку дамы. Бал открывался менуэтом: великий князь с великой княгиней, за ними — придворные и офицеры гвардии в званиях не ниже полковника. Наиболее распространенными танцами были «польские» и контра-дансы. «Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особливого покроя парадных платьях, а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны были быть в башмаках. Все дворянство имело право быть на оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах».[30]
Императрица садилась играть в карты с заранее выбранными партнерами, которых приглашали камер-пажи. Великий князь тоже играл, но за отдельным столом. Примерно через два часа музыка затихала. Государыня откланивалась и покидала бал, а после нее спешили разъехаться все приглашенные.
Великий князь Павел Петрович давал балы по понедельникам в Петербурге, а по субботам — на Каменном острове. Придворный лакей развозил личные приглашения великого князя. Помимо этого, каждый полк гвардии отправлял на праздник по два офицера.
Несмотря на все великолепие балов императорского двора, праздники вельмож того времени зачастую не уступали последним. Причем не только балы, но и семейные вечера отличались роскошью и торжественностью. «Образ жизни вельмож был гостеприимный, по мере богатства и звания занимаемаго; почти у всех были обеденные столы для их знакомых и подчиненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием, у кого обедать или проводить с приятностию вечер».[31]
Апогея своего блеска достиг российский двор при Екатерине II. Роскошь, царившая при дворе, служила заразительным примером для столичного общества. Все высшее общество увлекалось театром, и молодежь охотно устраивала домашние спектакли. Образовывались целые группы великосветских любителей; известны театры княгини Долгоруковой, графини Головниной, в доме Апраксиных.
С постройкой здания Благородного собрания Москва прославится своими балами по всей России. Каждый год накануне Рождества помещики соседних с Московской губерний со своими семействами отправлялись из деревень в Москву в сопровождении длинных обозов с поросятами, гусями, курами, крупой, мукой и маслом. Замоскворечье гостеприимно встречало долгожданных хозяев неприхотливо убранных, заросших садами домов, владельцы которых не стремились к тесному общению с соседями, если не принадлежали к одной губернии. По четвергам все соединялись в большом кругу Благородного собрания: «Тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов. Есть про что девять месяцев рассказывать в уезде! И все это с удивлением, без зависти: недосягаемою для них высотою знати они любовались, как путешественник блестящей вершиной Эльбруса»[32]. Московские праздники 1787 года, когда Россия отмечала двадцатипятилетие восшествия императрицы на престол, надолго остались в памяти современников. Бал в собрании превзошел все ожидания. Вот воспоминания Е.П. Яньковой: «Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в теперешнее время и быть не может: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом, серебром, камений на всех премножество; и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с каменьями. Пускали в собрание по билетам самое лучшее общество; но было много.
Императрица тоже была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественна и вместе милостива ко всем, что и представить себе трудно».[33]
Первый бал наследника Павла Петровича состоялся 11 декабря 1765 года: «Сегодня у Его В-ва первый бал; прежде никогда еще не бывало. Одевшись, читал государь цесаревич с Его Преподобием о. Платоном Св. Писание; потом изволил пройтить в церковь. Возвратясь из церкви, сел кушать. После обеда, часу в шестом, съехались званые на бал. Открыть бал изволил Его В-во с фрейлиной А.А. Хитровой. Танцовали в том покое, где на часах стоят Кавалергарды, потому что на половине Его В-ва нет ни одной для того довольно просторной комнаты. В начале десятаго часу бал кончился; все разъехались, и государь цесаревич сел кушать. Весьма был доволен сегоднашним вечером; танцовал и говорил очень много со своей любезной…»[34] — вспоминал воспитатель наследника С. Порошин.
Прошло две недели, и 25 декабря, на Рождество, Павел Петрович был приглашен к императрице, у которой к шести часам собрались все фрейлины и множество кавалеров. После разнообразных игр начались танцы, сначала русский, затем польский, менуэты и контрадансы. В это время из внутренних покоев императрицы вышли семь дам в очаровательных нарядах — на них были кофты, юбки, чепчики, лишь на голове одной из них косынка. Каково же было удивление собравшихся, когда таинственные незнакомки оказались: Г.Г. Орлов; камергер А.С. Строганов; камергер гр. Н.А. Головин; камергер П.Б. Пасик; шталмейстер Л.А. Нарышкин; камер-юнкер М.Е. Баскаков; камер-юнкер кн. A.M. Белосельский, чью голову и украшала упомянутая косынка. А что же наследник? «С Его В-ва пот почти капал: столь искренне принимал он в сих забавах участие!»[35]
Но жизнь вносит свои перемены в характер и образ мыслей человека. Через несколько десятилетий император Павел Петрович объявит жесточайшую войну круглым шляпам, запретит «вальсовать», или, как говорилось в полицейском предписании, «употребление пляски, называемой вальсеном».
Весна александровского царствования — это возобновление пышных празднеств в обеих столицах — Петербурге и Москве. «Едва ли петербургское общество было когда-либо в такой сильной степени расположено к веселой и открытой жизни, как в начале царствования императора Александра I»[36], — вспоминал Ф. Булгарин. Где-нибудь у Фельетта высшее общество позволяло себе освободиться от строгостей этикета и предавалось беззаботной веселости. Старшее поколение, протанцевав минут пять, собиралось за карточными столами философствовать и сплетничать, потешаясь вистом, рокамболем или игрой в ерошки, «хрюшки никитичны»… От популярной и очень азартной игры в юрдон пошло долго бытовавшее выражение «проюрдониться».
Наступил 1812 год — год духовного испытания России. История сохранила воспоминания графини Шуазель Гуф-фье, бывшей фрейлины при дворе Александра Павловича. Благодаря ее мемуарам мы узнаем о том самом бале в имении Запрет под Вильно, на котором российский император получил известие о вторжении Наполеона в Россию. Этот исторический бал чуть не окончился драматически для Александра I и его окружения, состоявшего из известных военачальников. Дело в том, что в саду императорского дома архитектор Шульц построил для танцевального зала (он должен был изображать луг с цветами) галерею с колоннами. Фундамент для галереи и колонн был ненадежен, и незадолго до бала галерея обрушилась, задев одного из строителей. Шульц бежал, испугавшись обвинения о тайном сговоре с французами. Погоня нашла лишь шляпу архитектора на берегу реки. Несмотря на столь неприятные обстоятельства, бал состоялся и надолго запомнился современникам.
«Блестящее собрание разряженных женщин, военных, в богатых мундирах и орденах с алмазами; рассыпавшаяся на зеленой лужайке огромная толпа, пестревшая разнообразными блестящими цветами своих одежд <…>. Но вот появился государь, и все взоры сосредоточились на нем». Ужин был сервирован на двух небольших столах. «Было так тихо, что огни не гасли, и блеск иллюминации, озарявшей часть парка, фонтана и реки с ее островами, казалось, соперничал со звездами и с мягким светом луны, — вспоминала графиня Шуазель Гуффье. Кто бы мог подумать, при виде любезности и оживления, проявленных в этот вечер Александром, что он как раз во время бала получил весть, что французы перешли Неман и что их аванпосты находятся всего в десяти милях от Вильно. Шесть месяцев спустя Александр говорил мне, как он страдал от необходимости проявлять веселость, от которой был так далек. Как он умел владеть собой!»[37]
Примерно через два месяца после отъезда из Вильно российского императора Наполеон тоже давал здесь бал. Но если Александр Павлович поразил окружающих своей любезностью (превосходившей, по отзывам современников, галантность Людовика XIV), то Наполеон удивил обратным. Посмотрев на танцующих несколько минут, Наполеон перекинулся парой фраз с окружавшей его свитой, маршалами и хозяином зала и уехал под приветственные крики.
Во время пребывания в городе Наполеон устроил прием в замке. Шуазель Гуффье была вынуждена принять приглашение, дабы не подвести отца, которому приписывали чрезмерное уважение к русским. Вскоре после этого приема графиня посетила Закрет. Замок представлял картину полного разгрома — апельсиновые деревья опрокинуты и разбиты, теплицы с тропическими растениями разрушены. «Крапива и чертополох росли теперь в тех местах, где раньше цвели розы и спели ананасы. Печальное молчание царило там, где я недавно слышала звуки музыки и веселые, радостные голоса. Одни птицы еще пели свои песни и не покинули этих рощ. Фонтан иссяк. Словом, Закрет предназначен был служить военным госпиталем».[38]
Трагическое и одновременно удивительное время, а история двух балов — его иллюстрация.
30 августа 1812 года, в день тезоименитства императора, в московском театре был спектакль и маскарад. Воспитанники театрального училища танцевали мазурки, кадрили и характерные танцы. Неприятель приближался к Москве, и публика состояла в основном из раненых военных.
В ложах театра гремела музыка, в маскарадных залах пели цыгане, повсюду были накрыты столы для ужина и игры в карты. Содержатель театрального буфета продавал за небольшую цену виноградные вина, лишь бы они не достались французам.
Гвардейцы пировали до двух часов ночи; настроение было приподнято-отчаянное: в военное время «рубль идет за копейку, потому что сегодня жив, а завтра нет».[39]
Заграничные походы 1813–1814 годов не всегда удостаиваются должного внимания, между тем для участников военных кампаний тех лет взятие Парижа имело не меньше значение, чем сражение за Смоленск или Бородинская битва.
19 марта 1814 года союзные войска торжественно вошли в Париж. Столица Франции осталась целой и невредимой благодаря решению императора Александра Павловича не мстить за пожар Москвы, но пощадить Париж — город великой европейской культуры.
Государь Александр Благословенный много сделал для Парижа: он освободил дома парижан от солдатского постоя, запретил воинству брать себе что-либо бесплатно и строго следил за выполнением этого приказа. Он отпустил всех пленных, сказав, что никогда не воевал с французским народом, но лишь с его кровавым тираном. Поэтому вступление русских войск в город было восторженно встречено парижанами. В июне русская армия сдала караул в Париже французской национальной гвардии, а сама выступила в обратный путь.
В начале 1815 года Москва плясала «отчаянно». Трудно было представить, что два года назад Первопрестольная столица была разорена. «Воины повергают теперь свои лавры к стопам юных красавиц, которые, быть может, молились, чтобы они вышли целы и невредимы из боя». В Москве военные были повсюду, а потому московские невесты имели блестящую возможность сделать выгодную партию. На балах кавалеров больше, чем дам! На балу у князя Голицына было 18 дам и более 40 танцоров. Видя, что многие не танцуют, князь выдумал кадриль, где у каждой дамы — два кавалера.
Многие барышни жестоко поплатились за то, что «плясали как угорелые». В феврале тяжело заболела княгиня Шаховская, вследствие простуды, полученной на балу, умирала графиня Бобринская.
Но и в летний сезон бальная лихорадка не покинула столицу. Причем, если на балу у графини Орловой было 200 человек, то в Дворянском собрании — 1500, а на купеческом балу — более 3000 приглашенных.
На одном из праздников государь прошелся в первом полонезе с графиней Каменской, во втором — с княгиней Лопухиной-матерью, третий полонез он начал с госпожой Бролио. Во время полонеза дамы пытались «выпросить» у императора «милостей» для своих мужей, но, как известно, тогда это не удалось никому.
15 июня 1815 года бал у герцогини Ричмондской. Предчувствие опасности овладело гостями. Все ждут герцога Веллингтона. «Железный герцог» прибыл около девяти часов вечера. Он весел и всем своим видом вселяет уверенность. Спустя некоторое время появился принц Оранский, у которого герцог спросил, нет ли каких новостей. «Нет! Ничего, кроме того, что французы переправились через Самбру и имели стычки с пруссаками. Вы слышали об этом?»[40]
В то время как некоторые дамы едва не лишились чувств, а кавалеров била нервная дрожь, герцог не потерял хладнокровия. Он продолжал светскую беседу, время от времени отдавая распоряжения адъютантам. Около полуночи Веллингтон попрощался с гостями, прошел в кабинет к хозяину бала, где указал на карте место будущего великого сражения — Ватерлоо.
Разгром при Ватерлоо завершил поход Наполеона. 15 июля 1815 года Наполеон был отправлен на Святую Елену. Русским солдатам не пришлось сразиться с неприятелем. Ситуация 1815 года заставила союзников разместить на территории Франции часть своих войск числом 150 тысяч человек. Герцог Веллингтон был назначен главнокомандующим оккупационным корпусом, а командующим русским корпусом — генерал-лейтенант граф М.С. Воронцов. 21 октября 1818 года в мэрии Мобежа было составлено благодарственное письмо на имя М.С. Воронцова. В нем, в частности, говорилось, что благодаря деятельности М.С. Воронцова жизнь города протекала в обстановке мира и спокойствия, а сам командующий являлся истинным примером благородного поведения для своих подчиненных.
Вряд ли Мобеж за всю историю своего существования находился когда-либо в центре таких великолепных празднеств и видел столько известнейших людей со всей Европы, как в октябре 1818 года. 13 октября в город прибыли император Александр Павлович и король Пруссии. Как вспоминает Ф.Ф. Вигель, двухэтажный дом М.С. Воронцова с небольшим садом был достаточно просторен, чтобы в нем устроить бал для свиты обоих государей, принцев, штаба, главной и всех корпусных квартир и других многочисленных гостей города.
«Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно — «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа — какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах».[41]
Особую изысканность и блеск русского двора времен царствования императора Николая Павловича отмечали многие современники. Балы и другие празднества этого времени поражали всех своим великолепием. После пышной коронации государя 22 августа 1826 года в Москве начались непрерывные и разнообразные торжества. Традиционное народное гулянье было устроено на Девичьем поле, вдоль которого поставили длинные ряды столов с богатыми угощениями, тут же жарились целые быки и били винные фонтаны. Как только прибыл император со свитой, был дан сигнал, народ с криками бросился к яствам и, как отмечали очевидцы, «разом поднял все на ура!».
Действо, проходившее 27 августа в Грановитой палате, можно назвать балом весьма условно. В зале, переполненном людьми, танцевать было невозможно. Сделав в польском несколько шагов, гости останавливались или пятились назад, потому что встречались с первой парой, обогнувшей к этому времени весь зал. «Это был не бал, а движущаяся или стоящая на одном месте масса людей: всякой видел только того, с кем встретится или кто стоит возле», — вспоминал М.А. Дмитриев.
В Большом театре и Дворянском собрании давали в это время великолепные балы. Примерно в полночь устраивался парадный ужин, после которого императорская фамилия покидала бал, продолжавшийся зачастую до самого рассвета.
Среди других торжеств по случаю коронации современники отмечали балы у английского и французского посланников — герцога Девонширского и маршала Мармона; князя Н.Б. Юсупова и графини А.А. Орловой-Чесменской.
Вкус и изящество французских балов славились по всей Европе. Москвичи убедились в этом на балу у маршала Мармона. Заметим, что окружавшие маршала генералы, штаб— и обер-офицеры принадлежали к лучшим фамилиям Франции, и сама личность маршала вызывала интерес приглашенных. Все знали, что в марте 1814 года герцог Рагузский, маршал Мармон, вместе с маршалом Мортье подписали договор о сдаче Парижа союзникам. Прошло всего двенадцать лет, и маршал как представитель королевской Франции на коронации русского государя радушно встречал гостей на балу в честь нового императора Николая Павловича.
Несмотря на то что все московское общество было поглощено коронационными торжествами, «самую крупную новость эпохи» составляли, по словам Д.Н. Толстого, «прощение Пушкина и возвращение его из ссылки». «В то самое время, когда царская фамилия и весь двор <…> съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону, герцогу Рагузскому, в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, — писал М.Н. Лонгинов, — наш поэт[42] направлялся в дом жившего по соседству (близ Новой Басманной) дяди своего Василия Львовича Пушкина, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова <…> на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина[43], узнавши <…> о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках. На другой день все узнали о приезде Пушкина, и Москва с радостию приветствовала славного гостя».[44]
Во время коронационных торжеств в Москве (длившихся около месяца), когда сам император вернул А.С. Пушкина из михайловской ссылки, граф А.А. Толстой (младший брат деда Л.Н. Толстого Ильи Андреевича) пригласил Александра Сергеевича на домашний бал в дом своих родителей в Малом Власьевском переулке. Во время танцев Пушкин, потанцевав со взрослыми барышнями, пригласил на танец младшую дочь графа — А.А. Толстую (1817–1904). Это событие Толстая запомнила на всю жизнь. Ее ум ценили Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и И.А. Гончаров. «Так, под знаком Пушкина, суждено ей было вырасти и стать незаурядной личностью».[45]
Своеобразной данью новым веяниям стал так называемый «бал с мужиками» 1 января 1828 года в Зимнем дворце, более половины гостей которого составляли петербургские мещане.
«Полиция счетом впускала народ, но более сорока тысяч не впускали. Давка была страшная, — вспоминала А.О. Смирнова-Россет. — За государем и государыней шел брат мой Иосиф, уже камер-паж, он держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь говорил беспрестанно: «Господа, пожалуйста», — и перед ним раздвигалась эта толпа, все спешили за ним».[46]
В Георгиевском зале императрица, одетая в прекрасный русский сарафан, садилась за ломберный стол играть с министрами в бостон или вист, туда «простых людей» пускали по десять за раз, не более. Везде гремела полковая музыка. По углам стояли горки, на которых были выставлены золотые кубки, блюда и другая посуда. Лакеи разливали чай и сами размешивали в нем сахар ложечками, чтобы кто-нибудь не позарился на царское добро. Церковь была открыта: и священники, и дьяконы служили молебны… В десять часов вечера государыня с дежурной фрейлиной и свитой отправлялись ужинать в Эрмитаж, во время ужина играли Бетховена. Простые же гости могли оставаться во дворце до полуночи.
Придворные собрания разделялись на утренние и вечерние. На утренние собрания для принесения поздравлений их величествам и их высочествам в высокоторжественные дни являлись фрейлины, камер-фрейлины, статс-дамы, высшие чиновники, генералы, штаб— и обер-офицеры, члены дипломатического корпуса. На вечерние собрания приглашались только высшие придворные чины, иногда артисты и люди, известные императору и высочайшей фамилии по уму и познаниям.
Балы давались круглый год, за исключением времени постов. Главным же бальным сезоном была зима. Великосветские праздники Петербурга отличались особым блеском и роскошью.
Светский этикет строго различал правила проведения бала и танцевального вечера. Последний не требовал большого количества приглашенных, изысканных костюмов. Одинаково неприличным считался как городской костюм, так и бальный наряд. На эти вечера дамы наряжались лишь слегка. На балах не танцевали под рояль, а только под оркестр, причем лица, как говорили тогда, «средних лет», не решавшиеся танцевать на балах, могли свободно делать это на вечерах, где почти всегда царила атмосфера простоты и веселья. Программа вечера зависела от личных пристрастий, вкусов, убеждений хозяев, каждый из которых собирал свое общество.
В начале 20-х годов XIX века в Кишиневе на вечерах у Варфоломея танцевали, у Крупянского обедали и играли в карты, а у Липранди «не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским»[47]. Надо заметить, что А.С. Пушкин бывал и у Варфоломея, и у Липранди, и у Кру-пянского.
На вечере 22 октября 1831 года в присутствии императора Николая Павловича и императрицы генерал-адъютанты, камергеры и фрейлины высочайшего двора играли в «веревочку», танцевали вальсы, разыгрывали фанты. «Это была точно семейная, простая, бесцеремонная беседа. Государь был истинно не Государем, а добрым каким-то отцом в семействе и между короткими знакомыми»[48], — вспоминал А.Я. Булгаков.
Накануне Рождества Христова, в сочельник после всенощной у императрицы Александры Федоровны всегда была елка для ее детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. Государь и царские дети имели каждый свой стол с елкой, убранной подарками. После раздачи подарков императрицей все входили в зал, где был приготовлен большой длинный стол, украшенный фарфоровыми вещами императорской Александровской мануфактуры. Здесь разыгрывалась лотерея среди всей свиты.
Государь Николай Павлович выкрикивал карту, выигравший подходил к ее величеству и получал выигрыш-подарок из ее рук. Среди призов было немало книг, в том числе сочинения Пушкина и Жуковского. Участница этих вечеров баронесса М.П. Фредерике вспоминала спустя десятилетия: «Так все было мило, просто, сердечно, несмотря на то что было в присутствии государя и императрицы; но они умели как никто своей добротой и лаской удалять всякую натянутость этикета».[49]
Необычайно роскошным был бал, данный в конце апреля 1834 года петербургским дворянством по поводу совершеннолетия наследника престола.
Для этого был выбран огромный зал в доме обер-егер-мейстера Д.Л. Нарышкина на набережной Фонтанки, но зала этого оказалось недостаточно, и, сделав крытый переход, к дому Нарышкина присоединили ряд комнат соседнего дома. Кроме того, поручили архитектору А.П. Брюллову построить «столовую залу» для парадного ужина.
О балах у графа Потоцкого говорил весь Петербург. «На его вечерах были швейцары со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только в большой прихожей, омеблированной, как салон: было зеркало, стояли кресла, и каждая шуба под номером. Все это на английскую ногу»[50]. Но если убранство гостиных Потоцкого было действительно заимствовано из Англии, то сам граф оставался истинным польским аристократом. Мало кто мог сравниться с ним в умении танцевать мазурку.
Граф с поразительной для своих лет легкостью буквально летал во время танца и говорил партнерше: «Мазуречка, пане», — а дама отвечала: «Мазуречка, пан храббе». В то время пары буквально неслись по залу (впоследствии движения стали спокойнее), а зрители аплодисментами встречали графа и его даму.
Во главе петербургского света того времени стояли несколько семейств — Нарышкины, князья Барятинские, князья Белосельские-Белозерские, графы Строгановы и графы Виельгорские. Но самым блестящим и модным считался дом графа И.И. Воронцова-Дашкова, хозяйка которого графиня Александра Кирилловна была одной из очаровательных женщин своего времени. «Много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть, далее более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встретил ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружение. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем была та в действительности»[51], — утверждал В.А. Соллогуб.
Каждую зиму графиня Воронцова-Дашкова устраивала в столице бал, на который съезжался цвет петербургского высшего общества. Бал этот становился событием светской жизни. С известием о выезде императорской фамилии на бал мажордом Воронцова итальянец Риччи, в черном бархатном сюртуке, со шпагой сбоку и треуголкой под локтем, становился с двумя дворецкими у подъезда. Граф Воронцов ожидал высоких гостей на первой ступени лестницы, а графиня — на первой площадке. Опираясь на руку графа Воронцова, первой поднималась императрица, за ней следовал государь Николай Павлович. Императрица Александра Федоровна вместе с хозяином открывали бал полонезом. Ужинала государыня одна, за небольшим столом, сервированным посудой из чистого золота. Император обычно прохаживался между столами и где ему было угодно.
Балы в Мариинском дворце блистали великолепием. Особенностью этих балов, поражавших воображение современников, было присутствие среди приглашенных профессоров Академии наук и Академии художеств и офицеров Горного инженерного корпуса. Общество Мариинского дворца отличалось серьезными интересами. Великая княжна Мария Николаевна проявила себя талантливой художницей, герцог Лейхтенбергский интересовался точными науками и горным делом. Профессоров приглашали во дворец не только на балы, по и для чтения лекций. Великосветские дамы съезжались сюда на лекции по истории профессора Петербургского университета К.И. Арсеньева. Когда подросли маленькие герцоги, профессора приезжали на уроки к детям.
Не только Москва и Петербург славились в описываемые нами времена своими праздниками.
В 1837 году император Николай Павлович предпринял путешествие на юг России, главная цель которого — маневры в Вознесенске с 18 августа по 3 сентября.
30 августа в доме главного начальника сосредоточенных в Вознесенске войск генерала от кавалерии графа Витте состоялся бал.
Стены и потолок бального зала были обтянуты кисеею, вдоль карниза висели фестоны из голубой материи, отороченной блестящей бахромой.
Зал украшали воинские доспехи и огромные канделябры, сделанные из сабель и ружей. Четыре люстры были увенчаны кирасирскими касками. В глубине, от пола до потолка, возвышался тройной ряд ружей, сабель и копий, освещенных множеством свечей.
Две комнаты, предназначенные для императорской фамилии, отличались изяществом убранства. В одной из них было развешано редкое оружие разных веков и народов. Бал начался в восемь часов вечера и окончился в два часа ночи (число посетителей доходило до 1500).
Бал в Вознесенске — бал военной столицы края.
Бал в Одессе должен был представить город как столицу огромного сельскохозяйственного региона империи, центр общественной и культурной жизни.
В Одессе великосветские балы устраивали герцог Ришелье, знаменитый граф Сен-При, графы Сабаньские и Потоцкие. Беспошлинный ввоз иностранных вин, тканей, кружев, фруктов и прочих товаров в Одессу давал возможность одесситам, не тратя больших средств, жить с европейской роскошью.
При императоре Николае Павловиче генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабии был граф Михаил Семенович Воронцов. «Сия новорожденная колония при Ришелье, и еще более при Ланжероне, была бюрократической республикой; Воронцов, как отблеск трона, поразил и ослепил ее»[52], — писал об Одессе 20—30-х годов Ф.Ф. Вигель.
Граф Воронцов прибыл в Одессу с блестящей свитой польских и русских аристократов. Его супруга графиня Елизавета Ксаверьевна, урожденная Браницкая, считалась одной из привлекательнейших женщин своего времени.
Общество в доме генерал-губернатора делилось на две части. Первая состояла из «избранных» и собиралась в гостиной у графини Е.К. Воронцовой. Там можно было найти Раевского, Марини, Пушкина, Бруннова, Сенявина, Франка. Сам генерал-губернатор в основном находился в бильярдной, где собиралось «полуплебейское общество»[53], как называет его Ф.Ф. Вигель, то есть состоящее в основном из служащих М.С. Воронцова.
Елизавета Ксаверьевна Воронцова, будучи председательницей женского благотворительного общества, привлекала в свои салоны художников, представителей польской аристократии, видных государственных деятелей, богатых негоциантов. «Светлейшего князя Воронцова обожали. Он заботился о крае, поощрял местных ученых, украсил Одессу прекрасными зданиями, был обходителен и гостеприимен»[54]. Это был период подлинного величия Одессы.
За две недели до приема императора и императрицы одесский градоначальник А.И. Левшин обратился к М.С. Воронцову с просьбой утвердить смету на «исправление всей наружной штукатурки и побелку стен биржевого здания; на устройство внутри большой залы пилястр и «росписку» стены; на пробивку двух дверных отверстий и на сделание дверей с коробками и с приборами…». Градоначальник предлагал произвести все эти работы за свой счет. Но Воронцов наложил резолюцию: «Разрешить из суммы 1838 года», имея в виду городские доходы.[55]
Мебель, ковры, египетские циновки, турецкие шали, предназначенные для залов и комнат Биржи, были привезены в Одессу из Константинополя.
Бал устраивался по добровольной подписке жителей, без привлечения городских, казенных или общественных средств. Сумма расходов доходила до 70 тыс. рублей. Обязанности хозяйки бала приняла на себя графиня Е.К. Воронцова. Вечером 6 сентября 1837 г. здание Биржи напоминало сказочный дворец, над балконом которого блистали слова «Боже, царя храни!». Перед входом в зал был устроен кабинет для императрицы. Его убранство отличалось вкусом, оригинальностью и роскошью. Кабинет украшали листья и гроздья свежего винограда, драпировка из роскошных шалей.
Открылся бал полонезом, и первой парой были императрица с генерал-губернатором М.С. Воронцовым.
В двенадцатом часу ночи император удалился, но танцы продолжались.
В первом часу пополуночи высокие гости последовали на ужин, столы которого были накрыты между биржевой колоннадой и бальным залом. Стены украшали флаги морских держав, люстры были изготовлены в виде морских якорей.
Стол для императорской фамилии был установлен на специальном возвышении. Кроме того, были накрыты 30 столов в этом же зале для 350 особ, других посетителей угощали в отдельных комнатах.
После ужина Александра Федоровна вернулась в танцевальный зал. Знак высочайшего уважения — следовать в первой паре с императрицей. Этой чести вновь удостоился М.С. Воронцов. И это притом, что в зале присутствовали наследник и великий князь Михаил Павлович. Бальный церемониал еще раз подтвердил особый статус генерал-губернаторской власти и личное уважение к М.С. Воронцову.
Этот бал — важное событие в истории не только культурной, но и политической жизни Одессы и всего региона.
В 1837 году наследник престола цесаревич Александр Николаевич совершил путешествие по России. «Путешествие наследника имеет двоякую цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным»[56], — напишет в специальной инструкции для сына Николай I. Согласно наставлениям императора, наследник был обязан посещать все казенные учебные заведения, госпитали, учреждения приказов общественного призрения и тюрьмы, знаменитые фабрики и заводы. Наряду с этим Николай I дает строгие рекомендации сыну в отношении его поведения на балах: «Буде наследник будет зван на бал, принимать подобные приглашения в губернских городах, в прочих отклонять, извиняясь неимением времени. На сих балах его высочеству танцевать с некоторыми из почетных дам польский, с молодыми же знакомыми или же лучше воспитанными — французские кадрили две или три, но никаких других танцев. На ужин не оставаться и вообще не более часу или двух, и уезжать неприметно»[57]. В Москве Александру Николаевичу разрешалось принимать приглашения на балы как в зал Дворянского собрания, так и к знатным особам.
В своих посланиях, адресованных императору, наследник подробно описал свое путешествие. Из писем мы узнаём в том числе и о посещении Александром Николаевичем бальных церемониалов.
Так, в Твери он протанцевал на балу три польские и три французские кадрили. На блестящем, по мнению наследника, балу в Ярославле он участвовал в шестнадцати польских (видимо, имеется в виду шестнадцать смен партнерш в танце) и четырех французских кадрилях. Не каждый губернский город мог позволить себе устройство бала в честь будущего императора Российской империи — к примеру, в Перми за «неимением общества» и «удобного помещения» бала не было.
На бал в Тобольск многие гости приехали из Томска и Омска. На торжестве присутствовало до трехсот человек, причем, по мнению Александра Николаевича, дамы были «порядочно одеты» и музыка «хорошая из казаков».
В Оренбурге бал проходил в галерее, построенной в степи. «Этот праздник был единственный в своем роде, настоящий степной <…>», — сообщал в одном из писем отцу наследник.
Будущий император посетил балы в Казани, Пензе, Тамбове, Воронеже, Смоленске, Москве, Екатеринославе, Киеве, Полтаве. Но самым ярким, по его мнению, был бал в Харькове, он «лучший по обществу» и по «устройству залы» из всех балов, которые он видел во время путешествия.
При Николае I «русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность, — вспоминает А.Ф. Тютчева. — Он еще сохранял весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд — все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, всемогущим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение в своем призвании».[58]
Зимний сезон 1850/51 года особенно прославился балом у графини Н.А. Орловой-Денисовой. Этот праздник надолго остался в памяти современников благодаря великолепным костюмам двух кадрилей. Одна из них представляла шествие двора английской королевы Елизаветы, «королева (сама хозяйка) шла под руку с графом Лейчестером (князь Владимир Четвертинский); за ними следовали дамы, кавалеры и пажи».
Другая кадриль олицетворяла Российскую империю и была построена таким образом, чтобы сверху читался полный императорский титул. Впереди выступал «седовласый старец Киев в пышном боярском наряде, ведя под руку молодую женщину в сарафане из серебристой ткани, осыпанном драгоценными камнями». Во второй паре шел граф Ростопчин, изображавший Москву. Сибирь шествовала под началом Ермака, «которого представлял Дашков, колоссального роста, покрытый с головы до ног стальными доспехами». Самой красивой парой были признаны князь С.А. Оболенский с княгиней Н.Б. Шаховской, олицетворявшие Польшу. В продолжение бала они превосходно танцевали краковяк и мазурку.
Обе костюмированные кадрили были повторены в зале Благородного собрания в присутствии императора Николая Павловича. Но на этот раз на бал были приглашены мальчики из лучших московских фамилий, которые, будучи в русских костюмах, несли на длинных древках гербы областей или городов, «предшествуя паре, соответствующей этому гербу».
Уже после смерти государя Николая Павловича, в годы нового царствования, А.Ф. Тютчева напишет в своем дневнике о бале в Дворянском собрании в Москве 4 сентября 1856 года с иронией и горечью: «Времена изменились, балы — тоже».
В XIX веке все большую популярность в Европе приобретают балы в пользу нуждающихся. Светская благотворительность — исключительная принадлежность аристократии. Если женщина становилась дамой-патронессой, это подтверждало ее принадлежность к высшему свету.
Согласно указу императора от 29 января 1854 года в течение года следовало ограничиваться одним спектаклем, концертом и маскарадом от всех Императорских театров в пользу военных инвалидов.[59]
Публичные балы с лотереями, базарами, аукционами давались благотворительными обществами и заведениями с разрешения правительства и допускались в дни, согласованные с Дирекцией Императорских театров; на Святой неделе (в те дни, когда нет спектаклей), с Фоминой недели, за исключением постов, до последних шести недель перед Великим постом. Каждое благотворительное общество могло дать только один публичный бал в год. Публичные балы для детей и публичные праздники с благотворительной продажей допускались с разрешения правительства в те же самые периоды, как и балы с лотереями, и не более одного раза в год.
Среди многочисленных праздников зимнего сезона 1858 года современники особо выделили бал, данный в училище глухонемых, состоявшем в ведении Опекунского совета, основанного императрицей Марией Федоровной. На этом бале были все воспитанники училища, все служащие, их родственники и знакомые. Гости этого удивительного бала отмечали, что дети, не слыша музыки, танцевали в такт, грациозно, с соблюдением всех правил хореографии. Но главное — лица маленьких танцоров светились счастьем. Особую их радость вызвали обильные угощения в конце праздника.
17 и 18 декабря 1878 года в трех залах Мариинского дворца был открыт благотворительный базар в пользу Николаевской детской больницы. В одной из гостиных продавалась теплая одежда для солдат и офицеров, в другой — предлагался богатый выбор елочных украшений, детских книг, игр, предметов дамского и детского туалета. Девочки продавали букеты цветов. Всего за два дня было распродано вещей на 5000 рублей. Первой покупательницей стала императрица, купившая несколько вещей для раненых военных.[60]
Николаевская детская больница в Санкт-Петербурге была основана в 1834 году. Это второе в Европе филантропическое заведение подобного рода, первая детская больница открылась в Париже в 1802 году. Николаевская больница ежегодно принимала 1 тысячу бедных детей, и 28 тысяч детей лечились здесь амбулаторно. Двери больницы были круглосуточно открыты для детей, и за 34 года ее существования ни одному ребенку не было отказано в медицинской помощи.[61]
16 февраля 1878 году в залах Дворянского собрания Санкт-Петербурга состоялся благотворительный бал в пользу семейств убитых и раненных на войне, устроенный французской колонией. Несмотря на довольно высокую стоимость билетов, не все желающие смогли попасть на бал, собравший около 5 тыс. человек. В одиннадцать часов вечера бал начался гимном «Боже, царя храни!». Оркестр исполнял гимн при радостных восклицаниях присутствующих, причем по настоянию публики дважды.
Благотворительные базары, которые устраивали великая княгиня Елизавета Федоровна и великая княгиня Мария Павловна, пользовались у современников наибольшим успехом. «Во время устройства благотворительных базаров Елизавета Федоровна до поздней ночи рисовала деревянные закладки для книг со своим вензелем «S.K.». Эти предметы продавались лучше всего, все хотели получить сувенир «из рук великой княгини». <…> Великая княгиня Мария Павловна умела привлекать на свои приемы тех, кто обладал тугим кошельком, но не имел благородного происхождения. В благодарность за гостеприимство богатые люди «охотно открывали свои кошельки».[62]
Одно из тяжких последствий любой войны — обездоленные дети, дети-калеки, дети-сироты, которым общество обязано не только дать кров, еду и одежду, но и позаботиться об их воспитании и образовании. Общество доставления дешевых квартир, основанное в Петербурге в 1859 году, предоставляло бедному населению столицы приют, работу, питание, бесплатное медицинское пособие.
В школе общества получали начальное образование ежегодно до 50 детей; после этого дети, в зависимости от способностей, определялись на средства общества в средние учебные заведения или мастерские. В 1872 году общество приобрело в собственность дом Реймерса. Впоследствии для него был выстроен новый дом, где в комнатах и отдельных квартирах (с отоплением, освещением, водой) проживало примерно 350 человек. В 24 комнатах размещались мастерские, столовая, прачечная, кухня, булочная.
При доме общества имелся специальный зал, приспособленный для сценических представлений. В нем устраивались также благотворительные спектакли, концерты, танцевальные вечера, а по воскресеньям зал бесплатно предоставлялся для народных чтений.
Четыре дня (с 19 по 22 декабря 1882 года) продолжался базар и елка в Петербургской городской думе в пользу нуждающихся учащихся народных училищ столицы. Бесплатный вход в залы думы был открыт с часа дня до девяти часов вечера. Недалеко от огромной елки находились бочки с сюрпризами беспроигрышной дешевой лотереи.
5 февраля 1890 года в залах Петербургского Дворянского собрания состоялся костюмированный бал учеников Императорской Академии художеств, устраиваемый ежегодно в пользу нуждающихся товарищей. Этот бал выделялся по сравнению с другими празднествами сезона особой оригинальностью костюмов. Около полуночи в зале несколько раз прошло аллегорическое шествие «Русская Масленица»: мимо гостей двигались «икра», «горшок с тестом», «блины» и другие «яства».
Среди многочисленных «рыцарей», «тореадоров» и «боярынь» всеобщее внимание привлек костюм, склеенный из заглавий газет и журналов, а вместо маски у него была свиная морда; костюм был увешан апельсинами. Современники сочли, что это одеяние остроумное, но пошлое. Второе шествие — «Масленица на Олимпе» — понравилось всем своей оригинальностью.
В Екатерининском институте в Москве учились девочки из самых древних дворянских фамилий. На институтский бал попадали в результате строгого отбора. Так, из Александровского юнкерского училища на бал отправлялись от четырех до шести лучших юнкеров.
Сняв верхнюю одежду и приведя себя в порядок, юнкера поднимались по широкой мраморной лестнице, устланной красными коврами; на верхней площадке их встречали дежурные воспитанницы, после легких реверансов они провожали приглашенных в зал.
«Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми — колдовскими лучами…
Между колоннами и стеной с той и другой стороны оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья».[63]
На другом конце зала, под хорами, в бархатных красных золоченых креслах сидели почетные гости. Рядом с начальницей стоял почетный опекун института. Позади и по бокам этой группы стояли воспитанницы, все в одинаковых темно-красных платьях. И никаких украшений — ни сережек, ни брошек, ни колец, только лайковые перчатки до пол-локтя и скромный веер подчеркивали юную красоту.
Перед началом бала юнкера по очереди кланялись почетным гостям. После представления гостей начальнице института заиграл полонез М.И. Глинки из оперы «Жизнь за царя». В первой паре стояли директриса и почетный опекун… «Стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией».[64]
После полонеза следовал вальс Штрауса, а во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалерам следовало занимать своих дам непрерывной легкой беседой.
Вальс завершал танцевальную программу. На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. По окончании танцев начальница института предложила барышням пригласить своих кавалеров к ужину.
Накануне Великого поста, во время Масленицы, балы, представления, катанья на тройках сменяли друг друга без перерыва. Ровно в двенадцать часов ночи перед постом все прекращалось, театры закрывались, гости из частных домов разъезжались, и утомленная молодежь отдыхала все семь недель Великого поста. Многие девицы кончали сезон уже невестами, начинали готовить приданое и на Красную горку праздновали свадьбу.
«В отношении балов и вообще московской светской жизни я должен заметить, что мне пришлось выезжать в эпоху ее заката. Мне посчастливилось еще захватить «вечернюю зарю» и видеть ее последние лучи, но непосредственно за этим она совсем угасла: на долю моего брата, который всего на два года моложе меня, уже почти ничего не осталось. Это случилось еще до войны 1914–1918 годов»[65], — вспоминал князь С.Е. Трубецкой.
В самих названиях балов конца XIX века чувствуется некий вызов настоящему и тревога за будущее. 24 января 1888 года в Зимнем дворце состоялся «зеленый (изумрудный) бал», на котором большинство дам украсили себя изумительными изумрудами цвета вечнозеленой надежды.
Ярко выраженный политический характер носил так называемый «черный бал», который был дан 26 января 1889 года в Аничковом дворце Санкт-Петербурга. «Черные вырезанныя платья, черные веера, черные по локоть перчатки, черные башмачки»[66] — так описывал туалеты дам камердинер императрицы Марии Федоровны А. Степанов, наблюдавший с хоров «волнующееся шлейфное черное море»[67]. Автор отмечал, что все черные костюмы, без исключения, были прелестны. Ярко отсвечивали бриллианты и жемчуг на черном атласе, шелке, газе и темном тюле. Едва ли простым совпадением можно объяснить то, что музыкальную программу составила исключительно венская музыка. Спустя всего несколько дней после погребения старшего эрцгерцога все вальсировали под звуки «Wiener Blut», а затем ужинали в сопровождении мелодии «Венгерской пляски», напоминавшей чардаш. В половине третьего утра завершился сей удивительный, похожий на странный сон, праздник. Этот бал, устроенный в период обострения отношений между Российской и Австро-Венгерской империями, стал своеобразным вызовом, причем вызовом весьма жестким и далеко не романтичным.
Согласно воспоминаниям графа С.Д. Шереметева, «придворные балы были наказанием для государя[68], но они имеют свое значение, в особенности большой бал Николаевской залы. Это предание, которое забывать не следует».[69]
Современники правления Александра III считали, что, устраняясь от участия в придворных церемониалах, император теряет поддержку не только представителей высшего света, но и гвардии. Хорошо осознавала это и императрица Мария Федоровна, обаяние и тактичность которой отмечали многие.
В конце XIX — начале XX столетия в России существовали как бы два двора: двор вдовствующей императрицы Марии Федоровны и меньший двор Александры Федоровны.
Генерал-лейтенант В.И. Гурко отмечал, что «императрица Мария Федоровна обладала чарующей привлекательностью и умением сказать каждому ласковое слово <…>. В результате получалось впечатление, что императрица сама интересуется лицом, ей представившимся, или хотя бы его близкими».[70]
Мария Федоровна по возможности стремилась не уступать свое место молодой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку свою мать, Александра Федоровна шла сзади с одним из великих князей.
По мнению княгини Л.Л. Васильчиковой, «соцарствовать» рядом с Марией Федоровной было нелегко. Она обладала «как раз теми качествами, которых недоставало ее невестке. Светская, приветливая, любезная, чрезвычайно общительная, она знала все и вся, ее постоянно видели <…>. Она была любима всеми, начиная с общества и кончая нижними чинами Кавалергардского полка».[71]
Сократив свиту, состоящую при Александре II из сотен генералов и офицеров, включая армейских, до десятка приближенных, император Александр III «оставил тяжелое наследство Николаю II, который при восшествии на престол никого не знал и никогда никому не верил»[72], — отмечал А.А. Игнатьев.
В начале XX столетия в Москве славились балы у Новосильцевых. Представим себе, что и мы в числе приглашенных.
Перед подъездом через тротуар разостлана широкая красная ковровая дорожка, специальный наряд полиции руководит движением подъезжающих экипажей и не дает скапливаться любопытным прохожим.
У подъезда — швейцар в парадной ливрее, рядом с ним лакей, помогающий гостям вылезать из карет и саней.
Раздевшись внизу, гости поднимаются по покрытой ковром лестнице, убранной цветами. Наверху приглашенных встречает хозяин дома. «В очень большой «розовой гостиной» гостей встречала хозяйка тетя Машенька Новосильцева, самая любимая из моих тетей. Ее милое лицо, при импозантной фигуре, сияло столь свойственной ей приветливой улыбкой. Дядя Сережа Щербатов остроумно заметил, что в таких случаях тетя Машенька напоминала огромную люстру, дающую все больше и больше света с каждым щелканьем электрического выключателя… Действительно, ее приветливая улыбка при появлении особо близких ее сердцу людей становилась все более и более сияющей».[73]
Постепенно гостиные заполнялись приглашенными — дамы в декольтированных платьях с длинными, выше локтя, лайковыми перчатками, кавалеры во фраках и шитых золотом студенческих мундирах (военные мундиры на московских балах редкость). Все мужчины, носящие оружие, здоровались с хозяевами при оружии, но для участия в танцах следовало разоружиться.
Под звуки вальса бал открывал хозяин дома или дирижер бала с той дамой, для которой давался бал, обычно дочерью хозяина дома.
В Москве замужние дамы редко принимали участие в танцах. После вальса обычно танцевали венгерку, краковяк, подепатинер, падеспань, падекатр. В Петербурге же из так называемых «мелких танцев» исполнялись исключительно вальсы; петербуржцы считали Москву консервативной и провинциальной.
В начале XX века «большой свет» целиком перемещается в Петербург, и родители стараются вывозить дочерей в Северную столицу. Для девушек и молодых гвардейских офицеров устраивались так называемые «белые балы». На них танцевали только кадрили. На «розовых балах» — в честь молодых замужних дам — царил вальс. На частных балах, так же как и на придворных, распорядитель внимательно следил за порядком чередования танцев. В 1910-х годах эта обязанность была возложена на конногвардейца барона Врангеля, будущего командующего Белой армией.[74]
В период последнего царствования придворный бал в Николаевском зале давался один раз в год. На этот бал приглашались состоящие в одном из четырех первых классов (согласно Табели о рангах); иностранные дипломаты с семьями; старейшие офицеры гвардейских полков с женами и дочерьми; молодые офицеры-«танцоры»; некоторые лица по специальному указанию их величеств. Сыновья лиц, приглашенных на бал, могли участвовать в церемониалах лишь в том случае, если это позволяли их собственные чины и звания.
Каждый, кто имел право на участие в придворном бале, должен был предварительно напомнить о своем существовании, записавшись в особый реестр гофмаршала. Дамы, предварительно не представленные их величествам, записывались у обер-гофмейстерины, имевшей право отказать в приглашении. Билеты на вход во дворец рассылались за две недели до бала.
Полагалось приезжать около восьми с половиной часов вечера без опоздания. «Каждый должен был сам знать, к какому из подъездов надо было явиться. Для великих князей открывался подъезд Салтыковский, придворные лица входили через подъезд Их Величеств, гражданские чины являлись к Иорданскому, а военные — к Комендантскому подъезду».[75]
Январь. Лютый мороз. Дворец был залит огнем. Около Александровской колонны зажжены костры. Полиция наблюдала за размещением опустевших карет. Ни одна дама (в том числе и на великокняжеских приемах) не имела права ввести во дворец личного лакея. Одежду сдавали на хранение придворным лакеям, к каждой ротонде следовало прикрепить визитную карточку владельца. Лакей должен был указать, где именно он будет находиться с вещами после бала. В мундирах, шитых галунами с государственным орлом, в белых чулках и лакированных башмаках, «вымуштрованные до тонкости лакеи скользили бесшумно по паркетам…».[76]
Приглашенные проходили между рядами лейб-казаков и «арапов», то есть придворных негров. Церемониймейстеры деловито двигались по залам. Знаком их должности являлась трость из черного дерева с шаром слоновой кости наверху, двуглавым орлом и бантом Андреевской ленты.
В момент выхода их величеств из Малахитового зала оркестр играл полонез. Церемониймейстеры трижды ударяли своими жезлами. Арапы раскрывали двери Малахитового зала, все склонялись[77]. После полонеза начинался вальс. Лучший танцор гвардии открывал бал с заранее назначенной партнершей. Если великая княгиня желала танцевать, то она поручала своему «кавалеру» привести указанного ей молодого человека, но обычно великие княгини в «легких танцах» не участвовали.
После мазурки их величества переходили в зал для ужина, во главе процессии следовал церемониймейстер[78]. По окончании ужина государь отводил императрицу в Николаевский зал на котильон. Вскоре после этого высочайшие особы незаметно удалялись, на пороге зала попрощавшись со свитой.
В 1903 году в Санкт-Петербурге состоялся последний придворный костюмированный бал. «Почти четверть столетия прошло с той достопамятной ночи, когда я и Ники смотрели на появление царя-освободителя под руку с княгиней под сводами этих зал, отражавших в своих зеркалах семь поколений Романовых, — вспоминал великий князь Александр Михайлович. — Внешность кавалергардов оставалась все та же, но лицо империи резко изменилось. Новая, враждебная Россия смотрела чрез громадные окна дворца. Я грустно улыбнулся, когда прочел приписку в тексте приглашения, согласно которой все гости должны были быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Ники хотел вернуться к славному прошлому своего рода».[79]
Государь и государыня вышли в нарядах московских царя и царицы времен Алексея Михайловича. Великий князь Александр Михайлович был одет в платье сокольничего, которое состояло из белого с золотом кафтана с нашитыми на груди и спине золотыми орлами, розовой шелковой рубашки, голубых шаровар и желтых сафьяновых сапог. Костюмы других приглашенных также отличались великолепием, причем ни один из них не повторялся. Так, наряд графа С.Д. Шереметева почти в точности повторил одеяние фельдмаршала графа Б.П. Шереметева с портрета, хранящегося в усадьбе Кусково. Среди дам на этом знаменательном бале шло соревнование за первенство между великой княгиней Елизаветой Федоровной и княгиней Зинаидой Юсуповой. Им не было равных не только по красоте, но и по умению танцевать.
Бальная эпоха в России началась отказом от прошлого, а завершилась возвращением к традициям допетровских церемоний. Зачастую воспоминания о минувшем дают силы для жизни в настоящем, укрепляют веру в будущее.
Последние приемы при дворе состоялись перед Русско-японской войной. Великолепные балы в Зимнем и Аничко-вом дворцах вошли в историю. Молодежь узнавала о них лишь из рассказов старшего поколения.
19 января 1904 года в большом Николаевском зале Зимнего дворца состоялся последний придворный бал Российской империи. Среди главных особенностей этого бала гости отметили отсутствие японского посла — дипломатические отношения с Японией были прерваны. До начала танцев приглашенные «развлекали» друг друга беседами о недопустимых притязаниях японцев на Корею.
300-летие дома Романовых отмечалось торжественно и всенародно. Вот как описывает первый день празднования — 21 февраля — заместитель министра внутренних дел В.Ф. Джунковский: «В Петербурге в 8 часов утра с Санкт-Петербургской крепости раздался 21 пушечный выстрел, извещая население, что с этого дня начинается празднование 300-летия дома Романовых. В городе на улицах заметно было большое оживление, главным образом в местности, окружавшей Казанский собор, к которому к 101/2 часам утра к началу литургии собрались крестные ходы из главных столичных церквей и стали съезжаться приглашенные по повесткам от высочайшего двора; всего приглашенных было до 4000 человек. В двенадцать часов дня послышалось громкое «ура!» войск, стоявших шпалерами от Зимнего дворца до собора, и народа, заполнявшего все улицы и площади по пути следования Государя».[80]
Лучшие традиции воспитания девиц благородного звания, заложенные в XVIII веке, сохранялись вплоть до 1917 года в деятельности Императорского воспитательного общества благородных девиц, открытого в Санкт-Петербурге в 1765 году. Накануне революции в Смольном обучались принцессы славянских княжеств и наследницы шахов Ирана. Никаких различий в режиме для них не делалось.
Выпускницам последних предреволюционных лет не пришлось на практике воспользоваться знанием придворных церемониалов.
Во время Первой мировой войны мать русского императора Николая Александровича, будучи попечительницей института, не посещала его по причине неуместности проведения церемоний в тяжелые для Отечества дни. В это же время старшие дочери императора, сдав экзамены, начали работать в Царскосельском госпитале, проявляя редкостную самоотверженность. Современники отмечали особую кристальную чистоту царских дочерей.
Мальчики, обучавшиеся в кадетских корпусах и юнкерских училищах, получали там настоящую офицерскую выправку. Традиции этих учебных заведений свято соблюдались в любое время, невзирая на политическую ситуацию. Так, несмотря на бурные события 1919 года, жизнь в Хабаровском кадетском корпусе графа Муравьева-Амурского текла спокойно, как и в прежние времена. «Хорошо отлаженный механизм работал без сбоев. Директор корпуса генерал Корнилов, умный, широкообразованный человек, умело оберегал вверенный ему корпус от внешних потрясений, сохраняя выработанную десятилетиями систему учебы и воспитания. Ему помогал отлично подобранный преподавательский состав и опытные офицеры-воспитатели»[81], — вспоминал Г.Г. Любимов.
Дети, обучавшиеся в закрытых учебных заведениях, приезжали домой только на каникулы. Если воспитанников кадетских корпусов и юнкерских училищ обучали манере держаться собранно, подтянуто, молодцевато, достигая настоящей офицерской выправки, то барышням дворянского звания внушали, что они — хранительницы чести отца, мужа и потому должны вести себя достойно.
13 марта 1917 года, впервые после свержения монархии, вновь открылись бывшие Императорские театры Петрограда. 15 марта в Мариинском театре давали балет «Спящая красавица», по требованию публики была исполнена Марсельеза. После Февраля появился новый театральный жанр — митинги-концерты: выступления оркестров и хоров, художественные декламации чередовались с речами популярных ораторов.
«Революционилизировался» и «демократизировался» благотворительный бал. 22 апреля 1917 года в Русском общественном собрании Ревеля был организован бал-маскарад в пользу «борцов революции». Приглашенный оркестр 2-го артиллерийского полка начал свое выступление с исполнения Марсельезы.[82]
Важнейшей чертой общественной жизни этого времени была политизация досуга. В политические манифестации превращались не только ритуалы, но и спектакли, концерты, сеансы кинематографа и т. д.
В отличие от других светских церемониалов бальный ритуал не только контролировался указами верховной власти, но и своим появлением обязан царским распоряжениям.
Если придворные балы носили ярко выраженный политический характер, то публичные балы устраивались по большей части с благотворительной целью, их социальная значимость особенно ярко проявилась в XIX веке.
Поэзия бального костюмаЧеловек предстает перед другими людьми в совокупности своих внутренних и внешних свойств. Способы оформления внешности — важные сигналы, знаки личности. При этом одежда является своеобразной визитной карточкой человека, она несет информацию об официальном статусе владельца, его вкусах, чертах характера.
Костюм в первую очередь привлекает к себе взоры окружающих, вызывая соответствующие эмоции и, как следствие, формирует определенные отношения.
Культура Средневековья подчинялась традициям, которые, в отличие от моды, держатся столетиями. Мода быстротечна. «Едва ли Леонардо да Винчи, набрасывая на плечи короткий плащ и надевая берет, справлялся о том, как одет его миланский властелин Людовико Моро. В то время как выражение «французская мода времен Людовика XIV» представляется вполне естественным, сочетание понятий «моды эпохи Юстиниана» кажется нелепым»[83], — отмечает в своем исследовании Н.Н. Тарабукин.
Костюм барокко складывался исходя из идеализированных представлений о красоте и величии личности, не костюм приспосабливался к человеку, а человек был обязан подчиниться костюму. Просвещенный абсолютизм создавал для каждого сословия своеобразную систему координат образа жизни. Все — от манеры держаться и говорить до способа выезжать из дому — должно соответствовать положению дворянина в обществе.
Изменение покроя одежды, начавшееся в Петровское время, до известной степени было подготовлено еще во второй половине XVIII века, в среде так называемых «западников». Но при Петре I дворянство вынуждено было окончательно отказаться от русского, которое вытесняется костюмом западноевропейского образца.
В эпоху абсолютизма законодателем моды становится сам монарх. Быть одетым как монарх означало проявить свою верноподданническую покорность. Ближайшие сподвижники Петра Великого, желая содействовать его реформам, предупреждали желания царя, следуя во всем его программе. К их числу принадлежали прежде всего те, кто, будучи отправлен царем за границу, возвращался оттуда не только с новыми познаниями в различных областях государственной и общественной жизни. Потомок старинного боярского рода Шереметевых, Борис Петрович Шереметев первый из русских явился перед Петром I «<…> во французском кафтане с мальтийским крестом на груди и с осыпанной бриллиантами шпагой, подаренной ему императором Леопольдом»[84]. Молодые люди считали за честь, если могли попасть на вечерние собрания фельдмаршала, среди участников которых были генерал-фельдцейхмейстер Брюс, английский посланник лорд Витворт, прусский Мардефельц и другие иностранные министры.
Петр I в первые годы пребывания в Петербурге иногда принимал иностранных гостей, послов в доме А.Д. Менши-кова. Специально рядом с устроенным для этого тронным залом находилась гардеробная государя, откуда он выходил перед началом аудиенции в парадном кафтане.
Дочь Петра Великого Елизавета Петровна, еще будучи великой княжной, считалась одной из элегантнейших женщин своего времени. Став императрицей, она первой задавала тон щегольству. Платья Елизаветы Петровны, каждое из которых не повторялось дважды, были образцом для подражания, своеобразным эталоном моды своего времени.
Елизавете Петровне не было равных в умении танцевать.
«Никто не смел одеваться и причесываться, как государыня. Елизавета Петровна имела особое попечение о туалете своих придворных; так, в 1748 году Е. И. В. изволила указом объявить, чтобы дамы волосы убирали по-прежнему; задние от затылка не поднимали вверх, а ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать кверху».[85]
Ни в коей мере нельзя думать, что подобные указы каким-то образом могли сковать фантазии петербургских дам, умалить их желания быть блистательными на придворных праздниках. Известный ювелир Позье вспоминал, что «придворные дамы немало поспособствовали блеску этих собраний, обладая в высокой степени искусством одеваться к лицу, сверх того они умеют до невозможности поддерживать свою красоту». Далее Позье продолжает: «Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их; бриллиантов придворные дамы надевают изумительное множество. На дамах, сравнительно низшего звания, бывает бриллиантов на 10–12 тыс. рублей.
Они даже в частной жизни никогда не выезжают, не увешанные драгоценными уборами, и я не думаю, чтобы из всех европейских государынь была хоть одна, имевшая более драгоценных уборов, чем русская Императрица».[86]
Чтобы заслужить доверие императрицы, Екатерина Алексеевна старалась одеваться на придворных балах как можно проще, «<…> и в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих[87] балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитым по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса <…>»[88], — вспоминала Екатерина II.
Иностранцы, приезжавшие в Россию, строили дворцы, преисполненные внешнего блеска, с интерьерами Шеделя, Меблена, Минетти, Браунштейна гармонировали костюмы нового покроя, украшенные позолотой и отороченные кружевами.
В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный, богатый костюм знати XVII столетия.
В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.
Эстетический идеал и костюм XVIII века отражены в портретной живописи целого ряда замечательных русских художников: А.П. Антропова, И.П. Аргунова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Они показывают, как одевались аристократы, сколь изысканны были туалеты придворных. На известном портрете В.Л. Боровиковского князь Куракин изображен на фоне пышной дворцовой обстановки в ослепительно-ярком парадном костюме. Облегающий фрак и кюлоты из золотистой парчи, богатая вышивка камзола, дорогое кружево манжет делают костюм «бриллиантового князя» необычайно нарядным.
Своего рода пропагандистом новой моды «на античный манер» в Петербурге была известная французская портретистка Л.-Е. Виже-Лебрен, жившая в России с 1795 по 1801 год. Великая княгиня Елизавета Алексеевна заказала платье у художницы и в сшитом по рисунку Виже-Лебрен костюме отправилась на бал. Когда Елизавета Алексеевна подошла к императрице, чтобы поцеловать ей руку, Екатерина Великая молча ее оглядела и не дала царственной руки. «На другой день императрица сказала графу Салтыкову, что была очень недовольна туалетом великой княгини, и потом два-три дня относилась к ней холодно»[89], — вспоминала В.Н. Головина.
Попытки регламентации женского парадного придворного костюма и придания ему черт национального характера делались еще во времена Екатерины Великой. Согласно воспоминаниям современников, на придворных балах дамам полагалось быть в «<…> русских платьях, то есть особливаго покроя парадных платьях<…>»[90]. При этом сама императрица в конце царствования «<…> носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими старинный русский наряд»[91], — вспоминал граф Сегюр.
В 1791 году журнал «Магазин английских, французских и немецких новых мод» сообщал, что «для балов в торжественные дни и для выездов в знатные и почтенные дома» носят дамы: русские платья из объярей, двойных тафт и из разных как английских, так и французских материй, шитые шелками или каменьями, с юбками одинаковой материи или другого цвету; рукава бывают одинакового цвета с юбкою; пояса носят по корсету, шитые шелками или каменьями по приличию платья; на шее носят околки или род косынок на вздержке или со складками из блонд или из кружева, на грудь надевают закладку или рубашечку из итальянского или из простого флеру на вздержке, а ко вздержке пришиваются блонды или кружева».[92]
При императоре Александре I каждый год 1 января устраивался так называемый народный маскарад в Зимнем дворце. Посетителей всех сословий собиралось более 30 тыс. человек. Полиции не было, народ двигался «<…> чинно, скромно, благоговейно, без толкотни и давки», дамы были в «<…> в кокошниках и русских платьях. Общее впечатление было великолепно <…>. Польский танец шествовал сперва по освещенным картинным галереям и доходил до замыкающего Эрмитаж театра. Театр был превращен в сверкавший бриллиантовый шатер из граненых стекляшек, между собою плотно связанных и освещенных сзади. Магический свет разливался по амфитеатру. Если я не ошибаюсь, эта декорация была придумана при императрице Екатерине II <…>»[93], — вспоминал граф В.А. Соллогуб. Для современников этот праздник имел особый политический смысл: «Царь и народ сходились в общем ликовании».[94]
Специальный указ 1834 года узаконил характер парадного женского костюма[95]. Цвет бархата и узор золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы.
Верхнее зеленое бархатное платье с золотым шитьем полагалось статс-дамам и камер-фрейлинам; синего цвета — наставницам великих княжон; платья пунцового цвета — фрейлинам ее величества. Фрейлинам великих княжон — светло-синего цвета, гофмейстеринам при фрейлинах — малинового. Приезжающим ко двору дамам предоставлялось право иметь платья различных цветов и различного шитья и с различным шитьем, кроме узоров, предназначенных для придворных дам.
Покрой платья всем по одному образцу: очень длинные откидные рукава с открытой проймой, спускавшиеся почти до колен, подчеркнутая декором и планкой с пуговицами, как в русском сарафане, вертикальная линия центра переда.
Всем дамам, как придворным, так и приезжающим ко двору, полагалось иметь «<…> повойник или кокошник произвольнаго цвета с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольнаго цвета и также с вуалем».[96]
25 марта 1834 года в одном из своих писем в Москву фрейлина высочайшего двора А.С. Шереметева написала о подготовке бала в честь присяги наследника престола: «Мы все будем в русских платьях, т. е. дамы будут одеты в чем-то вроде сарафанов, но из легкой материи, а на голове будут розаны в виде кокошника. Молодые дамы (танцующие) в гирляндах из белых розанов. Императрица будет также сама в сарафане. Позднее будет бал в Белой зале Зимнего дворца».[97]
В конце XIX — начале XX столетия «русское» платье было из белого атласа с бархатным шлейфом, покрытым золотым шитьем. На первом придворном балу зимнего сезона дамы парадировали в придворных платьях.
На левой стороне корсажа был прикреплен соответственно их рангу или шифр (описанный бриллиантами вензель — отличительный знак фрейлины), или «портрет», окруженный бриллиантами (высокое отличие, дававшее звание «портретной дамы»).
Великие княгини появлялись в своих фамильных драгоценностях с рубинами и сапфирами. Цвет каменьев должен был соответствовать цвету платья: жемчуга и бриллианты или рубины и бриллианты при розовых материях, жемчуга и бриллианты или сапфиры и бриллианты — при голубых материях. Платья и кокошники украшались драгоценными камнями в зависимости от степени богатства особы. Так, жена предводителя дворянства одного из уездов Петроградской губернии носила в виде пуговиц изумруды величиной с голубиное яйцо. Своими бриллиантами славились графиня Шувалова, Воронцова-Дашкова, Шереметева, княгиня Кочубей и княгиня Юсупова.
Вот как описывает хроникер журнала «Всемирная иллюстрация» прием в Зимнем дворце в 1895 году по случаю представления придворных дам императрице Александре Федоровне: «Великолепная белая Николаевская зала к половине второго часа наполнилась дамами. Тут во всем блеске выказались красота и богатство оригинального русского костюма. Картинность собрания… просилась под кисть художника. Какие тут были роскошные кокошники… какие богатые сарафаны из бархата, шелка, индейских тканей, какие богатые парча, меха на оторочках, цветы, кружево, какое разнообразие цветов и оттенков от темно-зеленых, синих до нежных и светло-зеленых, розовых, лиловых. Среди этого блеска и богатства туалетов, бриллиантов и драгоценных камней и значительной массы красных повязок и красных, вышитых золотом шлейфов фрейлин большого двора — там и здесь расхаживали в своих придворных зашитых золотом мундирах церемониймейстеры с жезлами <…>».[98]
Следует отметить, что придворное платье русских дам особенно эффектно выглядело на торжественных приемах при иностранных балах, где требовалась подобного рода одежда. Традиционный обычай требовал лишь от англичанок специального головного убора, состоящего из страусовых перьев. Отличительной деталью придворного костюма был шлейф, прикреплявшийся к плечам при бальном платье. «<…> Русские же дамы неизменно привлекали всеобщее внимание красотой и богатством наших национальных платьев. Кокошник, фата, богато вышитое исторического покроя русское платье с шлейфом и большое количество драгоценных камней не могли не производить впечателения»[99], — вспоминала М.П. Бок (урожденная Столыпина) об одном из придворных балов в Берлине начала XX столетия.
Придворные парадные туалеты производили неизгладимое впечатление на современников: «…По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства… зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться»[100], — писал французский посол в России М. Палеолог.
Целый ряд государственных указов XVIII–XIX столетий, регламентирующих формы одежды, говорит о том, что значение, которое придавалось костюму как выразителю сословных и моральных идей дворянства в этот период, было большое. В то же время бальное платье обладало и живописной функцией.
Бальная картина начала столетия напоминала древние барельефы или этрусские вазы. Цветовая гамма бальных и вечерних туалетов начала XIX столетия весьма разнообразна. В 1801 году на балу вы могли увидеть даму в светло-желтом шелковом платье, подол которого вышит зелеными пальмовыми листьями.
А как элегантен наряд из голубого атласа с отделкой из вишневого бархата. При этом головку красавицы украшает тюрбан из светло-коричневого шелка с золотыми мушками, а на плечи наброшена темно-коричневая шаль. Туфли к такому туалету полагались голубые атласные.
Белые платья все еще популярны, но их следует оживить шалью, к примеру, из шелка красновато-оранжевого цвета с золотой каймой и маленьким тюрбаном из золотого кружева, туфли белые атласные.
Белая кашемировая шаль с цветными полосами на кайме хорошо подходила к светлому шелковому платью (голубому, розовому), перед которого (от пояса до пола) и рукава были вышиты золотом. Головной убор представлял собой диадему из цветов и лент.
В конце 1810 года брюнеткам рекомендовалось носить розовые и бледно-желтые цвета, а блондинкам — голубые, бледно-зеленые, жемчужно-серые.
Вечером вы могли облачиться в туалет из крепа янтарного цвета со светло-синей отделкой.
Строгий костюм эпохи ампир сменяется в период увлечения романтизмом живописно-декоративным, многоцветным. По цвету платье становится полихромным, сами ткани вырабатываются многоцветными.
История искусства XIX века вкратце повторяет эволюцию художественной культуры от Античности до рококо включительно; мебель, утварь, женский костюм претерпели серьезные изменения.
В 30—40-х годах XIX века женский костюм начинает походить на одежду барочного покроя. «Одно такое платье появилось на большом бале на прекрасной даме, с разрезом спереди и выкроенными овальными зубцами, обшитыми золотым кружевом. Надеемся, что пышнее этого не наряжались и при дворе Людовика XIV! На другой день две тысячи щеголих страдали спазмами с зависти; весь Париж был в смятении», — сообщал в 1834 году из Франции обозреватель журнала «Библиотека для чтения».[101]
Девушкам рекомендовалось надевать на бал креповые платья, украшенные спереди на юбке гирляндой из цветов, расположенных в виде двух расходящихся полукругов, оканчивающихся у колен двумя букетами роз, из-под которых выходят две ленты, идущие к поясу, как будто букеты висят на них.
В качестве украшения прически были популярны так называемые «эмалевые» повязки с жемчугами или бриллиантами. «Такая повязка на миленькой головке, с двумя букетами роз или других цветов по сторонам, над висками, может свести с ума самого закоснелого философа. Теперь дознано, по опыту, что перед повязкой с двумя букетами нет и быть не может ни жестокого, ни неблагодарного сердца».[102]
При выборе бального туалета дамы руководствовались не только вкусом и направлением моды, но и стремлением создать с помощью костюма определенный образ.
Как уже говорилось, в Петербурге в середине 30-х годов XIX века особым великолепием отличались балы в доме Юсупова. Большая поклонница творчества графа Ф.П. Толстого, княжна Юсупова прислала ему и его дочери особое приглашение на свой бал, подготовка к которому началась за год до его начала. «В этом трудном деле нам помог француз, m-r Lenormand, который разъезжал в те времена по Петербургу со своими товарищами. За ним сейчас же послали, и у него тетушка выбрала для меня прелестную материю на бальное платье, костюм мой вышел точно не заурядный и не такой, как у всех. Платье мне сделали из бледно-голубого серебристого газа, а чехол под него из голубого муаре, так что волны муаре, сквозя из-под газа, изобразили из себя речную воду. Прибавлю к этому, что газ на юбке в нескольких местах подобрали букетами водяных лилий (ненюфаров). Ну, и вышла из меня какая-то ундина. Отец мой как художник одобрил вкус своей кузины, и она от похвалы его пришла в неописанный восторг. Про меня и говорить нечего, я была на седьмом небе».[103]
Наконец настал день бала. Парадные кареты гостей, запряженные четверками лошадей, медленно, шаг за шагом, в одну линию, не опережая друг друга, двигаются по Мойке к иллюминированному дворцу Юсуповых. Войдя в дом, вы сразу же попадали в некий волшебный сад.
Хозяйка дома княгиня Зинаида Ивановна в этот вечер не танцевала. Катаясь с ледяной горы, она ушибла ногу и прихрамывала. Но даже эту неприятную ситуацию красавица княгиня смогла использовать с пользой для себя, представ перед гостями в образе прекрасной феи. У лба княгини сияла большая бриллиантовая звезда, сзади прическу украшали два газовых шарфа — голубой с серебряными звездами и белый с золотыми, оба шарфа струились до самого пола. Княгиня грациозно опиралась на усыпанную бриллиантами трость из черного дерева, казавшуюся на фоне голубого платья из тяжелого штофа волшебным посохом.
В своей «Теории красивой жизни», написанной в 1853 году, Бальзак наметил правила для всех, кто относится к высшему свету по происхождению или хочет сравниться с ними по воспитанию и умению одеваться: «Множество красок всегда указывает на плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм — это несчастье, пятно на одежде — это грех. Только животное внешним прикрытием защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек — одевается. Какая сорокалетняя женщина не признается, что умение одеваться — это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это способ ее ношения».[104]
Мы привыкли говорить о стиле денди в мужской одежде, но анализ источников, произведений художественной литературы, печати свидетельствует, что среди светских дам были свои денди.
В конце 30 — начале 40-х годов XIX столетия в петербургском обществе появились так называемые «львицы» — дамы высшего круга, отличавшиеся или умением одеваться, или положением, или умом, или красотой. К их числу принадлежали княгиня Юсупова, графиня Орлова-Денисова, Нарышкина и другие. Из всех этих дам графиня А.К. Воронцова-Дашкова не имела соперниц. «Ее красота была не классическая, потому что черты ее лица, строго говоря, не были правильны; но у нее было нечто такое, не поддающееся описанию, что большинству нравится более классической красоты. Что подкупало в ней в особенности всех ее знавших: это ее простота и непринужденность <…>. Если добавить к характеристике графини, что она обладала редким остроумием и находчивостью, то понятно будет, что она по праву занимала первое место между молодыми женщинами высшего петербургского общества, и этого права у нее никто не оспаривал»[105], — вспоминал князь А.В. Мещерский.
Графиня А.К. Воронцова-Дашкова послужила прототипом княгини Р. в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Особое положение в свете А.К. Воронцовой-Дашковой подтверждает и то, что она осмелилась пригласить к себе на бал в феврале 1841 года М.Ю. Лермонтова во время последнего приезда поэта с Кавказа. «Приехав сюда, в Петербург, на половине Масленицы, я на другой день же отправился на бал к г(рафине) Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломы бы подостлал».[106]
Дом графа Воронцова-Дашкова был одним из самых модных в Петербурге. Каждую зиму хозяева давали бал. Весь цвет общества приглашался на этот бал, являвшийся событием светской жизни столицы.
В Петербурге был хорошо известен и дом графа Соллогуба, где собирались известные литераторы, светские дамы и государственные сановники, известные ученые. Характеризуя своих гостей, Соллогуб дает описание их костюма, манеры поведения. Так, г. Сахаров, один из умнейших людей России, по мнению графа, был постоянно облачен «в длиннополый сюртук горохового цвета с небрежно повязанным на шее галстуком, что для модных гостиных являлось не совсем удобным». Называя Ф.И. Тютчева самым светским человеком России, Соллогуб отмечает, что «его наружность очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить <…>. Соперник его по салонным успехам, князь П.А. Вяземский хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева».[107]
Для представителя высшего света понятия морали и вкуса были взаимодополняющими. Как заявляет одна из героинь В.А. Соллогуба, «я ужасно боюсь провинции и воображаю себе что-то ужасное. Какие, я думаю, там чепцы и шляпки носят — просто надо умереть со смеху, и какие щеголи, все к ручке подходят, и какие женщины, но очень смешно <…>. Смотрите же, с вашей стороны, не влюбитесь в какую-нибудь жену этих монстров, которых я видела в «Ревизоре».[108]
Литература XIX века посвящает целые страницы характеристике костюмов действующих лиц. В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» одежда вместе с предметами обихода, описанием усадьбы и деревень — важнейший материал для характеристики героев. Чичикову Собакевич показался похожим на медведя. «Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги».[109]
Сам Чичиков любил цвета оливковые или бутылочные «с искрою, приближающейся, так сказать, к бруснике». Он имел жилеты бархатные и атласные, серые панталоны, сюртук, фрак «брусничного цвета с искрой», который он затем сменил на фрак «цвету наваринского дыму с пламенем».
От социального и финансового состояния семьи зависел выбор портного. Как известно, на бале у губернатора появление Чичикова «произвело необыкновенное действие». «Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою <…>. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова <…>. Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенной осмотрительностию».[110]
В произведениях Л.Н. Толстого описанию внешнего облика героев, вплоть до мельчайших подробностей, отводится важное место. Великий художник старательно выписывает каждую деталь костюма своих персонажей, для него нет мелочей, он создает в нашем воображении художественный образ, забыть который невозможно. «Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху»[111]. В тюлево-кружевной толпе дам, собравшихся на бале, Кити не только не потерялась, ее образ придал ей уверенность в своем могуществе.
Для Толстого костюм является внешним продолжением психологического состояния человека. В мировой литературе одной из самых элегантных героинь считается Анна Каренина. В сцене бала Кити видит Анну в новом и неожиданном для себя образе: «Ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней: это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная».[112]
Дамы высшего света отличались особой манерой носить платье; слишком дорогое платье свидетельствовало о том, что «дама слегка из выскочек».[113]
Цвет — важная характеристика стилистического образа времени. В эпоху рококо в Европе возникает влечение ко всему естественному. Костюм преследует цель быть прежде всего изящным; в моду входят приглушенные оттенки. Красный цвет сменяется розовым, синий — голубым, зеленый — фиолетовым. Желтый цвет ампирной архитектуры Петербурга XIX веках отнюдь не был выбран произвольно. Желтый (золотой) цвет императорского штандарта становится цветом императорской гвардии, а затем переходит на архитектурные сооружения, становится «петербургским» цветом.
Философ моды денди Шарль Бодлер возвысил черный костюм в ранг одежды «современного героя». Черный бальный туалет был проявлением стиля денди среди светских дам, знаком исключительного положения в обществе.
«Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица».[114]
Черный цвет подчеркивает благородные манеры Одинцовой. В отличие от «эмансипе» Кукшиной, демонстрировавшей свою оригинальность грязными перчатками, Одинцова не стремилась казаться независимой, она была ею на самом деле.
Таким образом, в художественной литературе черный цвет костюма является элементом характеристики персонажа. «Граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.
— Помилуйте, — отвечал я, — что за церемония <…>.
Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и взошла женщина — высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку, и красавицу польку, в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера».[115]
Своеобразным поэтическим портретом О.С. Нарышкиной, урожденной графини Потоцкой, являются строки М.И. Цветаевой:
Продолговатый и твердый овал,Черного платья раструбы…Юная бабушка! Кто целовалВаши надменные губы?Руки, которые в залах дворцаВальсы Шопена играли.По сторонам ледяного лица —Локоны в виде спирали.[116]Литература XIX века влияла не только на образ мышления, но и на манеру поведения современников, их внешний облик. Начиная с 30-х годов XIX века многие светские дамы предпочитали позировать художникам в туалетах темных, спокойных тонов («Портрет молодой женщины» Крина; «Графиня О.С. Нарышкина» С. Фросте; портрет Е. Барятинской Ф. Винтергальтера; портрет графини А.К. Воронцовой-Дашковой К. Лаша).
Среди бальных туалетов зимнего сезона 1851 года современники особо выделяли следующие: черное креповое платье с четырьмя оборками (из крепа и кружев): «На груди букет из зелени, приколотый бриллиантовой брошью; браслет из золотой ветки с бриллиантами. Головной убор — зеленый венок, низко спущенный на лоб и перевитый алмазной нитью»[117]. Легкие платья вытеснили костюмы из тяжелых материй. «Давно пора! Женщина должна танцовать непременно в тюлевом или газовом платье»[118], — радостно восклицала одна из современниц.
В ноябрьском номере за 1862 год журнал «Модный магазин» рекомендует читателям обратить внимание на «черное тафтяное платье <…>. Низ юбки вырезан острыми зубцами, окаймленными черным бархатом, в 1 вершок ширины, бархат этот обшит с обеих сторон рюшками из черных лент с белыми краями <…>. Общий вид этого платья прост и чрезвычайно изящен».[119]
По мнению обозревателя журнала «Модный магазин» (за февраль 1866 года), наиболее элегантным было «платье из черного атласа, с примесью черного кружева в виде украшения. Сверх этой атласной юбки, с длинным треном, драпируется черная тюлевая юбка, подобранная меховыми розами. Корсаж, вырезанный четырехугольником, из черного атласа, весь отделан белыми и черными кружевами. И ко всему этому великолепная бриллиантовая парюра».[120]
23 февраля 1894 года германский посол в Петербурге генерал-адъютант фон Вердер дал в отеле германского посольства на Большой Морской бал, на который было разослано свыше 400 приглашений. Подчеркивая прекрасную организацию, хроникер журнала отмечает изящество костюмов присутствующих дам. Так, весьма эффектно выглядел туалет графини Шуваловой из «трудно уловимого цвета bleure el?ctrique, украшенный голубой перевязью»[121]. Фрейлина графиня М.Ф. Родигер была в платье из белого газа r?ie, отделанном лентами ?mbre, прическу графини украшали розы и бриллианты. Платье статс-дамы графини Е.Н. Гейден исполнено из шелка цвета светлой стали с античными кружевами и с цветами фиалки в отделке. От корсажа желтого платья княгини Оболенской шли редкие полосы из колец, а на плечах — пунцовые цветы, платье украшали бриллианты и рубины. Особо эффектным был, по мнению обозревателя, туалет Е.Ф. Кноринг — голубое платье, шитое по корсажу золотом.
Незаменимым практическим изданием в области моды для различных слоев общества был журнал «Вестник моды», который с 1894 года начинает выпускать специальные номера, предназначенные для портных. Журнал содержал хронику моды, описание костюмов и выкройки. «А вот еще очень красивый бальный туалет фасона «принцесса». Он сделан из бледно-зеленого атласа. Край платья и низ переда украшены гирляндой, вышитой жемчугом, блестками и разноцветными каменьями. Кроме того, край переда обшит черным муслиновым плиссе»[122]. Журнал помещал прекрасно исполненные цветные картинки из модных французских изданий, давал уроки рукоделия. Он был полезен дамам разных сословий, хотя назначение «Вестника моды для портных» свидетельствовало о новом отношении в обществе к самим создателям платья. «Наука об одежде — есть наука возвышенная».
Русская аристократия стремилась привозить костюмы из Парижа или шить по модным европейским образцам. Графиня М.Г. Разумовская славилась в высшем обществе страстью к нарядам. В 1835 году, проезжая через Вену, она просила приятеля, служившего на таможне, облегчить ей провоз багажа.
«Да что же вы намерены провезти с собою?» — спросил он. «Безделицу, — отвечала она, — триста платьев».[123]
М.Г. Разумовская простодушно признавалась, что любит Париж за то, что немолодые женщины носят в этом городе туалеты нежных светлых оттенков.
Перед коронацией государя Александра Николаевича 84-летняя графиня поехала в Париж, чтобы заказать туалеты для готовящихся торжеств в Москве. Приехав поздно вечером в город, она на другой день, утром, как ни в чем не бывало гуляла по любимой своей Rue de la Paix. Старая венская приятельница и ровесница графини княгиня Грасалькович, урожденная княжна Эстергази, отличавшаяся тоже завидной бодростью, несмотря на преклонные лета, узнав, что Разумовская одним духом доскакала до Парижа, чтобы заказать наряды, воскликнула: «После этого мне остается только съездить на два дня в Нью-Йорк».[124]
Наибольшей известностью среди модных мастерских России пользовалась мастерская, основанная в Петербурге в середине XIX века О.Н. Бульбенковой (урожденной Суворовой; 1835–1918). Дочь священника, она родилась в Нижнем Новгороде и с девяти лет жила в Петербурге в семье тетки — купчихи Бутановой, владелицы галантерейного магазина на Невском проспекте. Обучалась у портнихи, державшей придворную мастерскую. После отъезда последней из Петербурга дело перешло к Ольге Николаевне. В ее мастерской на Мойке, а затем на Екатерининском канале, известной под названием «Г-жа Ольга», создавались парадные женские костюмы для императорской семьи. Платья работы этой мастерской носили императрицы Мария Александровна, Мария Федоровна, Александра Федоровна.
В мастерской А.Т. Ивановой исполнялись заказы петербургской аристократии и императорского двора. С начала ХХ века мастерская получает официальное звание «поставщик двора». Ее работы отмечаются медалями на выставках. В собрании Эрмитажа находится сшитое Ивановой бальное платье из светло-зеленого фая с декором из белых страусовых перьев. Ему присущи все особенности модного кроя и силуэта своего времени. В мастерской Ивановой также выполнен эффектный вечерний ансамбль зеленого цвета (бальное платье и ротонда) из плюша. Он хранится в коллекции Эрмитажа.
Особо следует отметить открывшуюся в 1885 году в Москве на Большой Дмитровке мастерскую талантливого русского модельера Н.П. Ламановой. С 1881 года Ламанова (1861–1941) обучалась в Московской школе кройки О.Л. Суворовой, а после открытия собственной мастерской ее работы получили большую известность в среде аристократии. Уже в середине 90-х годов XIX века мастер исполняла заказы императорского двора. В 1902–1903 годах она была участницей Первой международной выставки исторического и современного костюма в Таврическом дворце в Петербурге. В 1910 году, в период работы над портретом Г.Л. Гиршман, К.А. Сомов в одном из писем подробно описывал ее костюм от Ламановой: «Сидит она в белом атласном платье, украшенном черными кружевами и кораллами, оно от Ламановой, на шее у нее 4 жемчужных нитки, прическа умопомрачительная».[125]
В коллекции Эрмитажа находится бальное платье мастерской Ламановой периода 1890 года, выполненное по заказу императорского двора. Платье очень открытое, с коротким пышным рукавом-фонариком и расклешенной юбкой со шлейфом, украшенной по подолу гирляндой из бантов и объемных цветов. Выполнено из бледно-розового атласа и шифона. В этой работе художник использовал сопоставление фактур различных тканей — прием, получивший дальнейшее развитие в костюмах начала XX века. «Шифон, положенный на атлас, смягчает блеск этой ткани, приглушает ее, заставляет мерцать в зависимости от освещения, создавая особый декоративный эффект. Декор платья — вышивка в виде стилизованного растительного узора из вьющихся стеблей с цветами и пониклыми побегами — решен в стиле модерн, создавшем сложную систему линейного орнамента, в основу которого положены мотивы сильно стилизованных цветов и растений, с характерной для него графической гибкостью линий. Выполнена вышивка блестками и бисером и, как в предыдущем примере, органично согласуется с общей тональностью платья»[126]. О тонком чувстве стиля, мастерстве и художественном вкусе Ламановой свидетельствует оригинальное использование кружева в убранстве великолепного бального платья из желтого бархата. Подол платья украшает широкий кружевной волан с оригинально решенной линией соединения кружев с основной тканью платья в виде языков морской пены на фоне золотого песка.
Многие костюмы императрицы Александры Федоровны самого различного назначения: бальные, визитные и пр. — исполнены в мастерской Августа Бризака; по словам современников, это был любимый модельер императрицы. Его отличало высокое мастерство и тонкое чувство стиля. Мастерская А. Бризака пользовалась большой популярностью в Петербурге.
Накануне Первой мировой войны, зимой 1914 года, в Петербурге состоялся бал-маскарад у графини Клейнмихель.
На каждую кадриль участники надевали костюмы разных эпох. Великий князь Борис Владимирович с женой великого князя Кирилла Владимировича открывали персидскую кадриль. Автором костюмов для этого бала был Лев Бакст. В начале века черные платья, «ниспадающие с плеч безнадежно печальными складками»[127] (как характеризует Гана Квапилова моду конца столетия), сменились блестящими, сверкающими красками фовистов[128]. В 1900-х годах пестрые краски Востока овладевают Парижем. В это же время здесь выступает русский балет Сергея Дягилева, костюмы и декорации для которого создает Лев Бакст.
В 1914 году Бакст писал: «В каждом цвете существуют оттенки, выражающие иногда искренность и целомудрие, иногда чувственность и даже зверство, иногда гордость, иногда отчаяние». А еще раньше, в 1885 году, Поль Гоген заметил в одном из своих писем: «Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии и такие, которые возбуждают Вас своей смелостью».[129]
Москву начала XX века И. Шнейдер воспринимал в оранжевом цвете — цвете танго. Из залов Благородного собрания, Купеческого, Охотничьего, Немецкого, Английского клубов, ресторанов, чайных неслись звуки модного танца. «Витрины магазинов украсились оранжевым цветом танго: ткани, конфеты, чулки, обертки шоколада, искусственные хризантемы, подвязки, папиросные коробки, галстуки, книжные переплеты — все желтело модным апельсиновым цветом танго»[130], — вспоминал Шнейдер.
Каждая эпоха порождает типичные формы костюма, которые и выполняют практическое назначение, и обладают образно-смысловым содержанием. Как отмечает Н.М. Тарабукин: «В одном случае платье — вещь, предмет носки; в другом случае оно — знак смысла, имеющего социальную функцию. С одной стороны, одежда есть бытовая и необходимая принадлежность обихода, с другой — костюм — традиция, обладающая смысловой значимостью».[131]
Согласно правилам светского этикета, бальный туалет должен был отличаться изысканностью. Под словом «изысканный» подразумевался костюм, «в высшей степени согласный с модой, совершенно идущий к лицу и непременно совсем новый».[132]
Рабское подражание моде, так же как и пренебрежение ее законами, считалось вульгарным. Следовало найти некую золотую середину — составить костюм таким образом, чтобы, отвечая всем правилам хорошего тона, он подчеркивал вашу индивидуальность, был гармоничен.
Язык церемониального жеста и костюмаОбразной риторической и выразительной символикой, применяемой к различным явлениям жизни, славился XVIII век. Один из поэтичных церемониалов того времени был связан с совершеннолетием девушки и вступлением ее во взрослую жизнь. В период отрочества девушка не выезжала в свет, в особых случаях она появлялась в обществе с изящно сшитыми крылышками за плечиками.
25 июня 1721 года в Летнем саду состоялось торжественное празднование коронации Петра I и 39-го года его царствования. Камер-юнкер Берхгольц, состоявший в свите герцога Голштинского Карла-Фридриха, прибывшего в Санкт-Петербург просить руки дочери Петра Великого Анны Петровны, вспоминал, что, войдя в сад, герцог вместе со свитой отправился выразить почтение царской семье и увидел императрицу в богатейшем убранстве, сидящую около прекрасного фонтана. «Взоры паши тотчас обратились на старшую принцессу (Анну) — брюнетку, прекрасную, как ангел. Она очень похожа на царя и для женщины довольно высока ростом. По левую сторону от царицы стояла вторая принцесса (Елизавета), белокурая и очень нежная».[133]
Восхищаясь платьями принцессы, сшитыми из красивой двухцветной материи, без золота и серебра, Берхгольц отмечает, что Елизавета Петровна имела за спиной прекрасно сделанные крылышки; у старшей сестры Анны они были отрезаны, но еще не сняты, а только зашнурованы.
Крылышки символизировали чистоту и невинность, уподобляя девочку небесному ангелу. После наступления совершеннолетия крылышки торжественно отрезали, но некоторое время девочка носила крылышки под шнуровкой, как бы в знак того, что ангел спустился на землю. Церемониал отрезания крылышек был весьма торжествен. Вот, например, каким образом он был совершен над Елизаветой Петровной, когда ей исполнилось 13 лет: «Император, взяв ее за руку, вывел из покоя императрицы в смежную комнату, где перед тем обедали духовенство, сам государь и все вельможи; здесь поднесли ему ножницы, и он, в присутствии государыни, ея высочества старшей принцессы, его королевского высочества герцога, придворных кавалеров, дам и духовенства, отрезал крылышки, которые принцесса носила до тех пор сзади на платье, передал их бывшей ея гувернантке и объявил, что принцесса вступила в совершеннолетие, нежно поцеловал ее, за что она целовала руки ему и императрице, а всем присутствовавшим подносила сама или приказывала кавалерам подносить по стакану вина».[134]
Этот обряд совершался, по всей видимости, и в частных семьях, но с меньшей официальностью. С этого момента девушка считалась взрослой, ее освобождали от опеки и воспитателей, шили ей дамский гардероб и начинали вывозить на балы, вечера и другие публичные мероприятия.
XVIII век — период формирования театрального искусства, непременным атрибутом которого был парик, в петровское время вошедший в моду. Как остроумно заметил один из исследователей моды, парик в один миг превращал «голову любого портного или перчаточника в величественную голову Юпитера»[135]. На протяжении XVIII века мужские парики не раз меняли форму. Длинные в начале века, они носили названия «пудель» или «львиная грива». Во второй половине века парик представлял собой тоненькую косичку, обмотанную лентой, а над висками — завитые букли. «Мужчины (делают прическу так): волосы впереди подстригают от линии ушей до верха лба на 1 сун, с обеих сторон оставляют локоны, которые расчесывают и завивают над ушами, а остальные волосы зачесывают назад, перевязывают шнурком на затылке, заплетают в косу из трех прядей, обматывают черной шелковой (лентой) и свешивают сзади»[136], — свидетельствовал X. Кацурагава.
Прически XVIII века весьма замысловатые. Во второй половине века они отличались большой сложностью. Например, прическа типа «фрегат», появившаяся по случаю одного из морских сражений, представляла на голове сооружение в виде корабля с оснасткой. Журнал «Магазин английских, французских и немецких новых мод…» за 1791 год сообщал читателям, что «голова причесывается буклями, большими и маленькими, по желанию, виски же отбираются и поддерживаются наравне с ушами; шиньон гладкий, и конец его завивается буклею <…>; на волосы накладывают ленты с перьями или флером белым или цветным с перьями же и цветами, также гирлянды из цветов; ленты же и перья употребляются по приличию к цвету платья».[137]
В эпоху рококо сложность и изощренность становятся необходимым условием модной укладки волос. «Мне необходимо было причесаться и вообще принарядиться, чтобы ехать в Версаль. Туалет, в котором появлялись при дворе, требовал уйму времени для подготовки. Путь из Парижа в Версаль был очень осложнен заботами о том, чтобы не испортить нижние юбки и складки. Хотела я впервые попробовать прическу, очень неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских бутылочек, округленных и приспособленных к форме головы, в которые наливается немного воды и вставляются живые цветы на стеблях. Не всегда это удавалось, но если удавалось, то выглядело очень красиво. Весна на голове среди белоснежной пудры производила чарующее впечатление».[138]
Мастера-парикмахеры в течение долгих часов сооружали такие прически. Чтобы не повредить их во время сна, модницам приходилось спать сидя в креслах, подкладывая под шею валик и держа голову на весу. «Я от верных людей слыхал, что тогда (в петровское время) в Москве была одна только уборщица для волос женских, и ежели к какому празднику когда должны были младые женщины убираться, тогда случалось, что она за трое суток некоторых убирала, и они должны были до дня выезда сидя спать, чтобы убору не испортить»[139], — писал князь М.М. Щербатов.
Велики были муки модниц: чтобы напудрить волосы, не испачкав костюма, приходилось залезать в специальный шкафчик с отверстием для головы. Затворив дверь, парикмахер посыпал прическу пудрой, изготовленной из муки или крахмала. «И мужчины, и женщины, после того как сделают прическу, посыпают ее мукой, называемой пудра, и (волосы) становятся как седые. Люди низких сословий пользуются (для этого) порошком из картофеля (крахмалом)».[140]
Дамы в XVIII веке широко пользовались косметикой, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало. «С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красно лицо; но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым»[141], — вспоминала Е.П. Янькова.
На шею, лицо, грудь модницы наклеивали мушки, имитирующие родинки: «Женщины <…> накладывают на свои нарумяненные лица еще множество пятнышек (мушек) для большой красоты. Еще недавно обычай этот доходил до такого безобразия, что из таких мушек женщины выделывали и наклеивали себе па лицо разного рода фигуры, кареты, лошадей, деревья и тому подобные изображения»[142], — свидетельствовал Х.В. Вебер. Мушка была не только элементом украшения, но и умела «говорить»: мушка, помещенная под губой, означала кокетство, на лбу — величие, в углу глаза — страсть и т. д.[143]
В проявлении своих чувств следовало придерживаться определенных правил. Так, в начале XIX века вошли в моду обмороки. Существовали они под различными названиями: «обмороки Дидоны», «капризы Медеи», «спазмы Нины».
Для дам веер — неизбежный атрибут бального костюма. Обращение с веером — рафинированная светская игра. Появившись в России в XVII веке, складной веер воспринимался как иноземная диковинка. Русский костюм был близок к турецким или иранским образцам, а потому для Московской Руси более характерно опахало, «имеющее круглую форму и сделанное из страусовых перьев. Перья укреплялись на ручке, выполненной из дерева, кости, серебра и золота и богато украшенной финифтью или драгоценными камнями. Примером может служить опахало царицы Натальи Кирилловны (1651–1694), матери Петра I, состоящее из черных страусовых перьев, которые были укреплены на яшмовом с золотом черенке, украшенном изумрудами, рубинами, яхонтами и жемчугом. Его прислал в дар государю цареградский патриарх Кирилл с архимандритом Филофеем. У царицы Евдокии Лукьяновны (ум. в 1645 г.) было изумительное опахало, украшенное изумрудами и другими драгоценными камнями. Веера изготавливались и в Москве, в мастерских Оружейной палаты. В «Окладно-расходной книге денежной казны Оружейной палаты 7196 (1688) года» встречаются «солнечного, и опахального, и нарядного, и станочного дела мастера: Евтихей, Петр и Федор Кузовлевы».[144]
С начала XVIII века веер почти всегда делался складным, и это придавало ему множество выражений. По тому, как раскрыт веер, как его держит в руках светская дама, можно определить, какие эмоции владеют ею в данный момент.
В журнале «Смесь» за 1769 год так описывается искусство владеть веером: «Женщины умеют опахалом изображать разные страсти: ревность — держа у рта свернутое опахало, не говорит ни слова; непристойное любопытство — сохраняя стыдливость, закрывает лицо развернутым опахалом и смотрит на то сквозь кости опахала, на что стыдно смотреть простым глазом; любовь — играет опахалом, как младенцы с игрушками, и делает из него все, что хочет».[145]
Наряду со старинными мелкоузорчатыми веерами в большой моде были веера из настоящего кружева с крупным рисунком. Язык веера XVIII века: «Я замужем» — говорит, отмахиваясь, развернутый веер; «Вы мне безразличны» — закрываясь; «Будьте довольны моей дружбой» — открывается один листик; «Вы страдаете, я вам сочувствую» — открывается два листика; «Можете быть смелы и решительны» — веер держится стрелой; «Вы мой кумир» — полностью раскрыт».[146]
В Западной Европе веер — предмет привилегированного круга. В последнее десятилетие XVIII века веер рассматривался революционной толпой как признак аристократизма. Мода на веера вернулась в период реставрации Бурбонов. В XIX веке веер позволял судить о семейном положении женщины: «Для балов при белом платье необходим белый веер, слоновой кости или перламутровый, а для замужних дам — кружевной или из страусовых перьев».[147]
С именем императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, связана особая страница истории веера в России. Среди вееров-сувениров императрицы интересен веер с портретами Александра III и их детей, расписанный И.Н. Крамским.
В 1891–1893 годах русская эскадра посетила Францию. В честь этого события была создана специальная коллекция вееров. Один из них посвящен данному в Парижской опере в честь русских гостей спектаклю, один из фрагментов которого изображен на веере: «Взвился новый занавес в глубине сцены, и зрителям представилась фигура мира в образе прелестной, одетой в белое, женщины с масличного ветвью в руке, стоявшей на колеснице… Под фигурою мира огромный двухглавый орел распростирал свои крылья, держа в лапах русское и французское знамена. По требованию публики эта картина много раз появлялась вновь из-за спускавшегося занавеса, и каждый раз к громогласным восклицаниям публики присоединялся могучий хор, исполнявший на сцене русский гимн при грохоте пушек и звоне колоколов».[148]
Мода на веера менялась значительно реже, чем на другие аксессуары, веера из кружев и перьев были всегда популярны, в то же время в разные периоды существовали свои излюбленные фасоны.
В начале столетия журнал «Модный курьер» рекомендовал своим читателям веера «принцесса» в виде раковин[149]. В это время были особенно популярны веера с нарисованными цветами, ландшафтами, блестками и кружевами.
Дамы щеголяли веерами, а кавалеры — табакерками; нередко это были уникальные произведения искусства. Табакерка была предметом гордости ее владельца, о чем свидетельствует сама манера обращения с нею: «Прежде чем понюхать табак, табакерку медленно вынимали из кармана, долго держали на ладони, словно невзначай забыв о ней во время разговора, затем неторопливо раскрывали, показывая на внутренней стороне крышки тонко выполненную миниатюру, и, взяв щепотку нюхательного табака, оставляли ее открытой в руке и, затянувшись раза два, как бы нехотя убирали в карман»[150]. Получить хороший букет табака составляло целое искусство, тщательно скрываемое его создателем.
В конце XVIII века входят в моду духи, а в начале XIX века — одеколон (после похода русских войск во Францию).
Цветочное убранство — одно из самых древних украшений, популярное в Европе на протяжении XVIII и XIX веков. Некоторые сюжеты истории человеческого общества удивительным образом связаны с историей растений.
Хлодвиг I, король Франкского государства, одержал в V веке победу над германцами на берегах реки Ли, где росли лилии. Увенчанные лилиями, возвращались с поля боя победители. С тех пор знамена и герб Франции украшали три лилии, означающие сострадание, правосудие и милосердие.
Изображение цветка лилии встречается на королевской печати, на дворцовых стенах и мебели. Во времена Средневековья знаком лилии клеймили преступников.
На Руси белая лилия — символ мира, непорочности, а также чистоты.[151]
Во времена Людовика IX Святого на знамени с лилиями были изображены также маргаритки — в честь жены короля, носившей имя Маргарита.
Прибыв на родину своего мужа, дочь Франциска I — Маргарита получила от него в подарок золотую корзину, наполненную белыми маргаритками и обвязанную розовой лентой с надписью: «Каждый цветок имеет свою прелесть, но если бы мне представили на выбор сразу тысячу цветов, то я все равно выбрал бы маргаритку»[152]. С тех пор Маргарита — любимое имя принцесс. Его носили герцогиня Анжуйская, мать Генриха VII Маргарита Австрийская, Маргарита Наваррская и многие-многие другие.
Заключенная в тюрьму Жозефина Богарне получила из рук дочери тюремщика букетик фиалок. На другой день она была освобождена. Через несколько дней на балу Жозефина украсила себя букетиками свежих фиалок. Весь вечер не отходил от нее генерал Бонапарт. Во время венчания с Наполеоном платье Жозефины было заткано фиалками. С этого времени, возвращаясь из похода, Наполеон дарил своей жене фиалки — залог их счастья.
Цветы определяли вкусы влиятельных особ.
Екатерина II любила примулы. В Зимнем дворце имелась целая коллекция этих цветов. Для расписанного примулами саксонского фарфора была отведена специальная комната.[153]
Древние греки называли примулу цветком двенадцати богов. Двенадцать богов, собравшись на Олимпе, решили превратить парализованного юношу Паралисоса в прекрасный цветок, который стал считаться средством от многих болезней.
С цветами связан духовный мир человека. Каждый цветок имел определенное символическое значение. Древние греки посылали гонцов с пальмовой ветвью для известия о победе, с оливковой — о мире, ветви лавра говорили о славе, а дуба — о силе и могуществе. Венцом из лавра и дуба награждали философов, венком из лавровых листьев — победителей.
В Средние века язык цветов был принят для общения влюбленных. Если средневековый рыцарь просил руки избранницы, он посылал ей розы с миртами.
Маргаритки, переданные в ответ, означали согласие на предложение, а венок из них — необходимость подумать над предложением.[154]
В 1830 году поэт Д.П. Ознобишин издал в России книгу «Селам, или Язык цветов». Вот некоторые из символов растений, принятых в XIX веке.
Алой — «Ты меня огорчила».
Астра — «Умеешь ли ты любить постоянно?».
Бузина — «Ты не узнаешь меня».
Бузина черная — «Я твоя».
Василек — «Будь прост, как он».
Гвоздика (белая) — «Вверься мне».
Гвоздика (полосатая) — «Я для тебя потеряна».
Гвоздика (пестрая) — «Как могу я забыть тебя».
Гвоздика (турецкая) — «Немного тебе подобных».
Зверобой — «Верь любви моей».
Ирис — «Зачем ты нарушила спокойствие моего сердца?».
Картофельный цвет — «Ты затмеваешь все».
Роза красная — «Ты победил мое сердце».
Одуванчик — «Я везде дома».
Черемуховый цвет — «Как ты меня обрадовал!».
Белые розы стали главным украшением праздника, устроенного в день отъезда прусской принцессы Шарлотты, помолвленной с великим князем Николаем Павловичем.
Тысячи белых роз обвивались гирляндами вокруг древков знамен, венки из роз венчали головы приглашенных дам, розами были усыпаны все ступени и трон будущей всероссийской императрицы, восседавшей под золотым балдахином в окружении верных рыцарей. Наследный принц Фридрих-Вильгельм, изображавший рыцаря белой розы, был одет в затканное серебром платье с цепью ордена Черного орла на шее и шлемом с приподнятыми орлиными крыльями. На его голове красовалась надпись: «С нами Бог».
Русский император Александр Павлович, будучи в Германии, буквально обворожил местных жителей, воспринимавших его как защитника отечества. «Мужчины бегают за ним толпами, а женщины придумывают разные способы для доказательства своего к нему уважения. Так, в память пребывания его в Берлине дамы ввели в моду носить букеты под названием александровских, которые собраны из цветов, составляющих по начальным буквам своих названий имя Alexander»[155]. Букет состоял из следующих цветов: Anemone (анемон), Lilie (лилия), Eicheln (желуди), Xeranthenum (амарант), Accazie (акация), Nelke (гвоздика), Dreifaltigkeits-blume (веселые глазки), Epheu (плющ), Rose (роза).
С.П. Жихарев: «Без этих букетов ни одна порядочная женщина не смеет показаться в обществе, ни в театр, ни на гулянье»[156]. Большие букеты дамы носили на груди, а маленькие — в волосах.
Шли годы. Уже не было в живых императора Павла Петровича, а блестящие аристократы «времен очаковских и покоренья Крыма», среди которых были князья Куракин, Юсупов, Лобанов-Ростовский и другие, являлись на бал во французских кафтанах, чулках и башмаках на красных каблуках (признак знатного происхождения).
Почти до середины XIX века ходила на красных каблуках княжна Прасковья Михайловна Долгорукова. Современники золотого века Екатерины II не просто отвергали прогрессивную моду в одежде. Они не могли и не хотели принять новый образ мышления, новые идеалы, которые, по их мнению, могли принести непоправимое зло России. Словно напоминания о «безумном, но мудром XVIII столетии», появлялись на балах Москвы и Петербурга последние свидетели того удивительного времени.
В XVIII веке редко кто носил перчатки. Эпоха перчаток — XIX век, когда сформировались строгие правила пользования перчатками, зафиксированные в многочисленных «правилах хорошего тона». Надевали перчатки только дома, так же как и шляпу, делать это публично считалось неприличным. «Придя в гости, снимите перчатку с правой руки; потом, раскланявшись с хозяевами, поставьте вашу шляпу вместе с перчатками на окне или где-нибудь в углу залы, чтобы иметь возможность, уходя, взять их незаметно и никого не стеснять».[157]
Во время так называемых церемонных визитов лайковые перчатки всегда на руках, а трость оставлялась в передней. На балах перчатки снимались только во время ужина или игры в карты.
Перчатки являлись обязательной деталью не только взрослого, но и детского бального костюма. Так, герой повести Л.Н. Толстого «Детство», найдя лишь одну лайковую перчатку, приходит в отчаяние: он не может ангажировать даму на танец.
О частых выездах в свет великого князя Николая Павловича свидетельствует тот факт, что в сентябрьской трети 1814 года было «вымыто» для него перчаток 113 пар, а в продолжение январской трети 1815 г. — 93 пары.[158]
Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки, мужчины — если они в форме — замшевые, в штатском — лайковые[159]. Нитяные перчатки носили лакеи и официанты. Среди прочих модных аксессуаров перчатки в наибольшей степени подчеркивали особое социальное положение личности. Это знак приверженности дворянина рыцарским законам чести. Таким образом, модные аксессуары — это важное средство невербального общения.
М.Ю. Лермонтов сравнивал появление женщины на бале с первым восхождением оратора по ступеням кафедры. «Не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность… И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l’air bourgeois (у нее вид мещанки (фр.) — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами и отнимает все права у красоты и любезности. Вкус, батюшка, отменная манера».[160]
От поведения женщины на бале зависела не только ее репутация, но и ее близких. Наличие вкуса, так же как и благородных манер, свидетельствовало и о добродетели. Таким образом, язык костюма подчеркивал социальный статус человека, говорил о его художественном вкусе.
Танец — зеркало времениЧем более высокое положение занимает человек в обществе, тем совершеннее должны быть его речь, манеры, внешний облик. При этом король вне конкуренции, ему нет равных.
Танец — высшая форма движения; значит, король обязан танцевать лучше всех. Именно таким был Людовик XIV, поражавший современников великолепной осанкой и красотой жестов. Он — не только выдающийся государственный деятель, это личность, наделенная незаурядными творческими способностями.
Любимым музыкальным инструментом короля была гитара. Предание гласит, что кардинал Мазарини пригласил из Мантуи крупнейшего виртуоза своего времени Франческо Корбетту, чтобы преподавать Людовику искусство игры на гитаре. Спустя годы Корбетта посвятит своему ученику трактат «Королевская гитара». Увлечение короля гитарой было своеобразным вызовом его окружению. Только лютня считалась достойным инструментом для коронованных особ. В этом поступке угадываются черты будущего правления «короля-солнце»: независимость суждений и поступков и твердость в достижении цели. В 13 лет Людовик впервые появится на сцене в «Балете Кассандры» (музыка этого балета была утрачена в XIX веке). Впоследствии он станет одним из лучших танцоров своего времени.
О значении танца в глазах придворного XVII века можно судить по «Мемуарам» кардинала Ришелье: граф Ларошфуко, став кардиналом, отказался ехать в составе посольства в Испанию, так как «был занят в балете, в котором очень хотел танцевать». Этот поступок немыслим «вне той логики, где во всем великолепии и совершенстве являет себя взгляд, согласно которому преобразующие природу искусства более важны для человека, нежели посольство в Испанию».[161]
Одним из важнейших политических решений начала правления Людовика XIV был декрет о создании Академии танца: «Поскольку искусство танца всегда было известно как одно из самых пристойных и самых необходимых для развития тела и поскольку ему отдано первое и наиболее естественное место среди всех видов упражнений, в том числе и упражнений с оружием, и, следовательно, это одно из самых предпочтительных и полезных Нашему дворянству и другим, кто имеет честь к Нам приближаться, не только во время войны в Наших армиях, но также в Наших развлечениях в дни мира…»[162]
Своеобразная танцевальная сюита на балах Людовика XIV состояла обычно из следующих танцев: бранля, менуэта, куранты и сарабанды. Свое название бранль получил от французского слова «branler», что означает «двигаться, шевелиться, колебаться». Во Франции его танцевали повсеместно, но в различных частях Французского королевства бранль исполняли по-разному и даже название танца было различным: в Бретани — пасспье, в Оберне — бурре, в Провансе — гавот[163]. В отличие от так называемого народного бранля на придворных балах бранль танцевали чинно, без темпераментных прыжков и непринужденных поворотов корпуса.
Куранту называли «танцем манеры», это торжественное шествие дам и кавалеров можно сравнить с плавным течением воды. Куранта — танец истинных рыцарей. Во время сложной куранты трое кавалеров приглашали трех дам. Получив их отказ, кавалеры уходили, но вскоре возвращались и становились перед дамами на колени.
Удивительна история сарабанды. На родине этого танца, в Испании, сарабанду исполняли только женщины под аккомпанемент кастаньет, гитары и пения. Причем Сервантес считал песни сарабанды непристойными. В 1630 году танец был запрещен Кастильским советом. Изгнанная с родины, сарабанда нашла пристанище на королевских балах, где исполнялась благородно и спокойно; танцем влюбленных называл сарабанду известный балетмейстер Карло Блазис. Манера танца была очень важна. Резкие жесты, прыжки — это вульгарность, присущая простолюдинам. Сдержанность, спокойствие — признак благородного происхождения. Придворный танец не терпит суеты и беспорядочных движений.
Барокко — это контраст света и тени, реального и несбыточного, тяжелого и воздушного. Государственные и военные церемониалы этой эпохи призваны напоминать человеку о его высоком предназначении, подчинении «высшему началу». Стиль придворной хореографии складывался постепенно. Родиной бальных танцев Возрождения и барокко могла быть Италия, Испания или другая страна. Но как церемониальные танцы они окончательно сформировались при дворе Людовика XIV, благодаря которому танцевальный мир заговорил по-французски. Власть диктует моду.
Рост популярности того или иного бального танца во многом зависел от социальных процессов. Великий Моцарт в сцене оперы «Дон Жуан» воспроизвел своеобразную социологию танца. Изысканный Оттавио с донной Анной танцуют менуэт, Дон Жуан с простодушной Церлиной — контрданс, тогда как его слуга Лепорелло с крестьянином Мазетто кружатся в вальсе.
В светском обществе было принято связывать внешний облик человека с его нравственными качествами. В этом отношении особое значение имели уроки танцев, «ибо как нравственная философия образует человека для благородных действий, так нравственные танцы приводят молодых людей к привлекательному общежитию».[164]
К началу XVIII века история европейских бальных танцев насчитывала столетия. Русские дворяне учились танцевать, согласно государеву приказу, который не подлежал обсуждению. Если на ассамблеях Петра I на танцы смотрели как на некую повинность, то в царствование Екатерины I неумение танцевать считалось важным недостатком воспитания.
В 1731 году в Петербурге был организован Шляхетский кадетский корпус, в учебный план которого входило изучение изящных искусств, в том числе и бального танца.
Танцмейстером в корпус в 1734 году был приглашен Жан Батист Ланде. Именно по его прошению, подписанному 4 мая 1738 года, была организована «Собственная Ее Величества танцевальная школа»[165] (в настоящее время — Академия русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге). В школу принимали детей «подлого звания», то есть из народа. Это был важный шаг в создании национальной балетной школы.
В конце XVIII — начале XIX века танец наряду с иностранными языками и математикой — один из важнейших предметов в программе обучения дворянина. «При отъезде из Москвы дядя велел мне усовершенствоваться без него в французском языке и выучиться по-немецки, математике и танцевать»[166], — вспоминал М.А. Дмитриев.
В 40—50-х годах страсть к танцам охватывает широкие круги буржуазии в России. Стихийно открываются танцклассы.
Весь Петербург затанцевал,Как девочка, как мальчик,Здесь что ни улица, то бал,Здесь что ни бал — скандальчик.Все веселятся от души,Все ладно в нашем быте.Пляши, о град Петра, пляши!Друзья мои, пляшите!Пляшите все, хотя б в тоскеСкребли на сердце кошки,Вся мудрость наших дней — в носкеПоднятой кверху ножки.Вина и пляски резвый богДа будет вечно с нами —И наш прогресс, как сбитый с ног,Запляшет вверх ногами.Эти стихи В. Курочкина, написанные в 1862 году, передают атмосферу общественной жизни Петербурга 60-х годов XIX века. В европейских государствах XVIII–XIX веков в переломные периоды жизни общества наблюдался повышенный интерес к танцевальному искусству. Так, в 1797 году в Париже состоялось 684 публичных бала. Особую роскошь эти балы приобрели во дворцах нуворишей и родовой аристократии. Они начинались в два часа и шли с небольшим перерывом, а после обеда продолжались до глубокой ночи.
Балы с более демократической публикой происходили в специальных платных залах — «казино», здесь же обучали танцам модные учителя: Селлариус, Коралли, Лабор, Марковский.
В России общественные танцклассы существовали вплоть до конца царствования императора Николая I. Мелкое чиновничество, средний класс и купцы не отставали от модных танцев, с особым жаром изучая их у танцмейстеров Кессениа и Мариинкевича. Танец был обязательным предметом в государственных и частных учебных заведениях. Его изучали в Царскосельском лицее и в скромных коммерческих училищах, в военных заведениях и в Академии художеств. Декабристы устраивали в Сибири танцевальные вечера и обучали своих детей хореографии. В светском обществе было принято связывать внешний облик человека с его нравственными качествами. С.Н. Глинка, вспоминая о своем учителе танцев, писал: «Ремесло свое он почитал делом не вещественным, но делом высокой нравственности. Ноден говорил, что вместе с выправкой тела выправляется душа»[167]. На бальном паркете уверенно чувствовали себя многие государственные и военные деятели России XIX — начала XX века. Достаточно назвать такие имена, как граф М.А. Милорадович и П.А. Столыпин.
Наряду с верховой ездой, фехтованием и гимнастикой танцы причислялись к «благодетельным телесным упражнениям», которые в сочетании с музыкой способствуют гармоничному развитию личности. Одним из лучших учителей бальных танцев первой половины XIX века считался П.А. Иогель. В молодости он получил прекрасное образование и воспитание. «С искусством Иогель соединяет неоценимые достоинства общежития. Он находчив, остер, всегда весел и любезен. Бывши во всех аристократических домах учителем, он везде умеет держать себя, как придворный века Людовика XIV, при котором вежливость была доведена до высшей степени»[168], — вспоминал А.П. Глушковский.
Иогель не был театральным танцовщиком, но изучил бальные танцы в совершенстве. В январе 1800 года Иогель начал давать свои первые уроки, а 28 декабря 1849 года несколько поколений его учеников танцевали на бале своего почтенного наставника. Если на частный бал попасть было весьма непросто, а общественный требовал строгого соблюдения всех тонкостей светского этикета, то отличительным свойством балов Иогеля являлась веселость, «невольно охватывающая вас, заставляющая вас даже против воли танцевать и пожалеть при окончании бала, зачем он так рано кончился, это веселость, которую почтенный и веселый до сих пор хозяин всегда умеет вдохнуть в свои празднества»[169]. На бале 28 декабря было 900 человек, все танцевали «до упаду и, выходя из собрания, сожалели, что бал кончился».[170]
Маскарады Мунаретти не уступали по известности балам Иогеля. В 1818 году в Москве на Рождественской улице был танцевальный класс Мунаретти, куда ежедневно съезжались ученики различных сословий, национальностей и возраста. В сравнении с другими педагогами Мунаретти брал за уроки небольшую плату и обещал научить своих воспитанников всем танцам, какие известны в мире. Дом профессора был привлекателен для молодежи как школа не только танцевального, но и кулинарного искусства. У Мунаретти во время танцкласса предлагался завтрак. При этом сам педагог отлично готовил блюда итальянской кухни.
Мунаретти умел весьма оригинальным способом избавляться от учеников, желавших за малую плату обучаться у него до конца дней своих. Вместо отведенного часа он занимался с ними четыре часа подряд, заставляя без отдыха делать различные па и вальсировать до обморока. «Ученики его были по большей части народ мелочной торговли, которые искали во всем барышей: они думали быть в выигрыше, что за 25 рублей вместо часу их учат четыре, и не догадывались, что тут была своего рода штука, танцмейстер так их замучивал, что они от непривычки танцевать так долго на другой день не могли встать на ноги и во всем теле чувствовали ломоту — одним словом, находились в таком же положении, как запаленные лошади. Тогда они проклинали танцы, отказывались от денег и желали только скорей оправиться».[171]
Но какие бы меры ни предпринимал профессор Мунаретти, его классы всегда были переполнены. Гайтан Анто-ныч, как ласково называли Гастана Мунаретти москвичи, присылал за некоторыми учениками свои сани, чтобы они не тратились на извозчика. За щедрость, веселый нрав и оригинальность его маскарадов Мунаретти любили по всей Москве, умевшей ценить таланты и хлебосольство. Как и многие известные педагоги своего времени, Мунаретти служил при императорских театрах Москвы и Петербурга, а по окончании карьеры приступил к преподаванию.
Описываемая эпоха могла быть названа эпохой «танцующей, паркетной». Такое настроение высшего культурного общества Булгарин объяснял тем, что «все сердца наполнены были какою-то сладостною надеждою; какими-то радостными ожиданиями». Умение танцевать считалось ценным достоинством и могло принести успех не только на паркете, но и на поприще служебной карьеры. Промах в такте поднимался на смех. Так, про молодого графа Хво-стова один господин сострил: «Скажу про графа не в укор: танцует, как Вольтер, а пишет, как Дюпор».[172]
Танцовщица Р. Коллинет была обожаема петербургской публикой. Выйдя замуж за Ш.Л. Дидло, оставила сцену и занялась преподаванием танцев. Она была счастлива, что имела уроки в самых высших аристократических домах, за которые получала неимоверную плату. «Когда в каком-нибудь доме собиралась кадриль из 8 барышень, то за два часа урока брала она 100 рублей ассигнациями. Родители ее учениц были в восхищении от того, что у них учит танцевать мадам Дидло, потому что они могли похвастаться перед своими знакомыми тем, что в то время она учила великих княжон и была учительницей танцев в высших казенных институтах, как то в Смольном монастыре, где воспитывались высшего аристократического круга барышни»[173]. Императрица Мария Федоровна каждую неделю посещала Смольный монастырь и часто бывала в классах мадам Дидло. Танцевальные классы мадам Дидло занимали великолепные покои в Михайловском замке, где некоторые комнаты сохранили убранство времен императора Павла Петровича.
Многие преподаватели танцевального искусства получали жалованье из кабинета императора, то есть из его частных доходов. В отличие от государственных средств закон не контролировал личные расходы государя, поэтому в некоторых случаях сумма пансиона известного танцмейстера могла превышать жалованье полковника армии. Учитель танцевального искусства играл заметную роль в жизни высшего общества. Зачастую роль танцмейстера он совмещал с преподаванием благородных манер и организацией светских празднеств. Петербург и Москва особо славились танцмейстерами, среди которых выделялись Ш.Л. Дидло, Е.И. Колосова, Н.С. Новицкая и др. По словам современников, они были буквально завалены работой, их методы преподавания пользовались большой популярностью.
В начале XIX века методика обучения танцам была следующая: в большинстве случаев занятия начинались с восьми или девяти лет, сначала детей «заставляли делать разного рода батманы, потом учили разные па a terre, то есть па, не сопряженные с прыжками, под разные размеры музыки для бальных и разнохарактерных танцев»[174]. Старые учителя полагали, что для выправки осанки и выработки грациозных манер необходимо долгое время обучать воспитанников менуэту a la rеine и не спешить с разучиванием новых танцев до тех пор, пока менуэт не будет исполняться безукоризненно.
По мнению специалистов, лучшим, но вместе с тем самым трудным для исполнения считался менуэт, сочиненный Гарделем ко дню торжественного обручения Людовика XVI с Марией-Антуанеттой и носящий поэтому название menuet de la Reine. Королева любила танцы необычайно. Нередко она отправлялась на маскарадные балы в Опере инкогнито. Во время одной из таких поездок придворный экипаж почти развалился от ветхости. Марии-Антуанетте пришлось идти пешком до извозчика. Несмотря на маску, королеву узнали, и «враги ея воспользовались этим случаем, чтобы лишний раз оттенить то, что они называли безнравственным поведением австриячки».[175]
Менуэт был любимым танцем XVIII века. Но уже в середине века скованность его движений порождает иронию современников. Так, Вольтер, желая осмеять схоластическое построение метафизиков, сравнивает их с танцорами менуэта: «Кокетливо обряженные, они жеманно следуют по залу, демонстрируя все свои прелести: но, находясь непрестанно в суетливом движении, они не сходят с места и кончают там же, где начали».[176]
Княгиня Е.Р. Дашкова взяла на воспитание бедную английскую девушку и пригласила для занятий с ней танцами танцмейстера Ламираля, которому сказала при встрече: «Я слышала, что вы учите танцовать по методике мадам Дидло, ее метода мне очень нравится, потому что мадам Дидло очень занимается выправкой корпуса. Посмотрите на меня: я старуха, но до сих пор держу себя прямо, как стройная 18-летняя девушка; когда я в молодости училась танцевать у придворного танцмейстера Пика, он долго держал меня на менуэте а-ля рень, а ныне без выправки корпуса и ног прямо учат разным танцам. Графиня Анна Алексеевна Орлова привезла из Англии шотландский танец под названием экосез и передала его танцовальному учителю Иогелю, который ныне всех заполонил этим танцем; право, смешно смотреть, как молодые барышни, сгорбясь подобно деревенским старухам, держат ноги на манер гусиных лап, носок с носком и подпрыгивают, как сороки. Я вас прошу, М. Г. (милостивый государь. — О. З.), учить мою воспитанницу подольше менуэт а-ля рень; может быть, ей это и покажется немного скучно, зато после ей слюбится, а для прочих танцев будет время».[177]
С течением времени возникали и развивались новые направления танцевального искусства. Так, на публичных балах во Франции контрданс исполняла не только аристократия, но и зажиточные представители третьего сословия.
К первой трети XVIII века насчитывалось уже до 900 вариантов фигур танца. «Борьба новых танцев со старыми, придворно-дворянскими, любопытно документируется во французских учебниках, посвященных танцам. В 1717 году солидное исследование Тауберта вовсе не упоминает о контрдансе. В 1728 году Дюпор описывает его в приложении к своему учебнику танцев. За период между 1775 и 1783 годами специально контрдансу посвящается уже 17 монографий».[178]
Специалисты в области хореографического искусства по-разному объясняют происхождение данного танца. Существует версия, что контрданс был занесен на континент из Англии. В то же время преподаватель танцев в одесской Ришельевской гимназии, член Берлинской академии танцевального искусства А.Я. Цорн подчеркивал, что «объяснение, будто слово contredanse происходит из английского country-danse, весьма неудовлетворительно, так как в употребляемых прежде anglaise’ax u ecossais’ax и прочих английских танцах все кавалеры стояли в одном ряду, а дамы в другом, с противоположной стороны».[179]
В отличие от контрданса, где танцующие располагаются напротив друг друга, в кадрили пары образовывали четырехугольник — carre. В Средние века кадриль — это небольшой отряд всадников, участвующих в турнире. Обыкновенно рыцари делились на четыре группы, размещавшиеся по сторонам отведенного для поединка места, или парадировали, составляя поочередно различные фигуры. Каждая кадриль отличалась эмблемой и цветом костюма, имела своего лидера. В течение долгих десятилетий контрданс под именем кадрили оставался любимым танцем на русских балах.
Вероятно, военное происхождение кадрили объясняет ее популярность среди русских офицеров в начале XIX века. В 1815 году в письме из Варшавы М.С. Воронцов сообщал, что кадриль танцует даже И.В. Сабанеев, прославленный русский генерал, участник швейцарского похода А.В. Суворова, начальник Главного штаба армии.[180]
В период нахождения русского оккупационного корпуса во Франции (1815–1818) кадрилью увлекались не только офицеры, но и нижние чины корпуса. Между тем в офицерской среде наряду с новым образом мышления складывается и новый тип поведения. Декабрист Н.И. Тургенев с удивлением пишет брату Сергею, находившемуся на службе при командующем русским оккупационным корпусом во Франции М.С. Воронцове: «Ты, я слышу, танцуешь. Гр<афу> Головину дочь его писала, что с тобою танцовала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще танцуют! Une ecossaise constitu-tionelle, ind?pendante, ou une contredanse monarchique ou une danse contre-monarchique?»[181] («конституционный экосез, независимый экосез, монархический контрданс или антимонархический танец» (фр.). Игра слов заключается в перечислении политических партий и употреблении приставки «контр» то как танцевального, то как политического термина. — О. З.).
В России XIX века контрданс, состоявший из нескольких фигур (сначала пяти, затем шести), назывался французской кадрилью. Первый куплет кадрили — Pantalon. Итальянцы предполагали, что куплет назван именем одного из действующих лиц итальянской комедии, французы же считали, что музыкальным оригиналом для этого куплета послужила одна французская шансонетка.
В музыкальном оригинале третьего куплета несколько раз слышался крик курицы, отсюда и название La Poule («Курица»). Четвертый куплет — La Trenis — назван именем знаменитого танцора, автора этой части танца. Мелодия пятого куплета исполнялась на манер пастушеского напева, отсюда и название La Pastourelle («Пастушка»). И наконец, заключительный куплет — La finale.
Во второй половине XIX века обозреватели периодической печати подробно сообщали своим читателям о поведении публики на различных светских церемониалах. При этом излюбленной темой журналистов было сравнение балов в Дворянском и Купеческом собраниях. Так, «Справочный листок города Казани» от 5 января 1867 года сообщал читателям, что во время кадрили в Купеческом собрании «па выделывают под музыку, очень старательно, некоторые слегка вприпрыжку для большей грации, все правила соблюдаются в точности. Словом, занимаются танцами не на шутку: здесь видно искусство для искусства, здесь веселятся от души, и действительно всем весело, и не тянет тебя никуда, кроме буфета, ты доволен действительностью, покушаешь основательно, а не то, что какие-нибудь фрикасе или безе, а как пласт через час или два покоишься в постели».
Описывая кадриль в Дворянском собрании, автор вместо иронических замечаний серьезно сообщает читателям, что в пятой фигуре только некоторые кавалеры берут дам под руку, в шестой фигуре нет галопа, танец исполняется без прыжков, все команды на чистом французском языке. Поведение в танце, стиль его исполнения являлись своеобразным знаком, символом принадлежности к определенному классу общества.
В конце XIX века один из наиболее опытных педагогов танцевального искусства, Л. Стуколкин, отмечал необходимость восстановить кадриль в первоначальном виде, так как современные танцоры низвели «этот прелестный танец до низкаго уровня, он уже доведен до какого-то винегрета, не представляющего ни малейшего смысла и последовательности». По мнению Л. Стуколкина, искажался не только танец, но и музыка. «Скажу более, кавалеры забывают о светском приличии и треплют своих дам как марионеток, не видя, конечно, всей уродливости таких бесцеремонных эволюций».[182]
На московских партикулярных балах можно было увидеть весьма оригинальное исполнение кадрили. Так, Б.Н. Чичерин вспоминал, что на празднике в доме Корсаковых «была большая кадриль: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили».[183]
На детских балах взрослые приглашали на кадриль маленьких танцоров. «Когда устраивались танцы, то музыка влияла, оживляя. Так красивы казались танцующие пары, нарядно одетые, и вокруг танцующих собирались зрители из гостей. В большой зале было светло; танцы иногда начинались засветло. Мне, десятилетней девочке, нравилось, когда меня приглашали на кадриль пожилые люди; помню, что самодовольно и важно выступала я в кадрили с городничим, пожилым господином, в мундире, увешанном орденами. Взрослым приятно бывает доставить удовольствие ребенку и не стеснительно занять такую даму разговором»[184], — писала А.В. Щепкина. И все же, несмотря на некоторые демократические элементы, контрданс считался церемониальным танцем.
В соответствии с романтическими идеалами эпохи выбрасывается лозунг «танец должен иметь душу, выражать неподдельную страсть, подражать естественности природы»[185]. Наступала эпоха вальса. Одно из первых упоминаний вальса в художественной литературе дал Гете в романе «Страдания юного Вертера». В письме к другу Вертер рассказывает о знакомстве с Шарлоттой и о том, как во время загородного бала они танцевали менуэт, англез, контрданс и, наконец, вальс. «Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделывали разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она! Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась сутолока, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождали, чтобы наплясались остальные, и, когда самые неумелые очистили место, вступили мы еще с одной парой… Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, — держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг…»[186]
В 1791 году «в Берлине мода на вальс и только на вальс». В 1790 году вальс через Страсбург попадает во Францию. Один из французских писателей недоумевал: «Я понимаю, почему матери любят вальс, но как они разрешают танцевать его своим дочерям?!»[187]
В первое десятилетие XIX века в Вене запрещалось вальсировать более десяти минут. Автор статьи в газете «Таймс» возмущен тем, что в программе королевского бала 1816 года оказался этот «чувственный и непристойный танец»[188]. Запрет на вальс на балах во дворцах немецких кайзеров снял лишь Вильгельм II при вступлении на престол в 1888 году.
Движения вальса считались непристойными, унижающими достоинство женщины. Вальс наносил своеобразный удар но кодексу рыцарской чести, составлявшему основу придворного этикета. В начале XIX века мода на вальс сравнивалась с модой на курение табака. Вальс стал выражением тенденций буржуазной культуры. Допустив его в свою среду, дворянство принимало тем самым и новые правила поведения, новый стиль общения. Следовательно, и нравственные принципы не могли остаться без изменений. «Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы», — писала Жанлис в «Критическом и систематическом словаре придворного этикета».[189]
Вслед за вальсом во второй четверти XIX века в Европе утвердился новый танец — полька. Некоторые исследователи находят ее истоки в старинном английском экосезе, именуемом также шотландским танцем. Сама полька родилась в Богемии (pulka по-чешски — «половина», в данном случае имеется в виду полшага в качестве основного па). В 40-х годах XIX века французское общество предпочитает танцам групповым — кадрилям и контрдансам — танцы парные. Вкусы высшего света приближаются ко вкусам простолюдинов. «Полька становится одним из признаков смешения высшего общества с Бульваром»30. Полька появилась в Париже зимой 1843/44 года.
Популярность польки была необычайна: откладывались свадьбы, чтобы научиться новому танцу; врачи принимали пациентов, пораженных «полечной болезнью» — опухшие ступни и растянутые связки. Появились новые виды польки. Так, изможденные танцоры напоминали во время танца полотеров, эта полька получила название «польки-полотерки».[190]
Великая балерина М. Тальони разносит славу польки по всей Европе. Увлечение ее оживленным, безудержно прямолинейным ритмом одно время заслонило страсть к вальсу. В 1845 году в Париже была поговорка: «Скажи мне, как ты полькируешь (то есть танцуешь польку), и я скажу, как ты умеешь любить!»[191]
Полька, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой танец, передавала лихорадочный дух буржуазного Парижа середины столетия. Исполнение польки в Дворянском собрании можно сравнить с исполнением полонеза в Парижской бирже. На великосветских балах Петербурга из так называемых «легких» танцев признавался в основном вальс, чередовавшийся с кадрилями. Москва более благосклонно отнеслась к новому танцу. Но начинался бал описываемой нами эпохи полонезом.
Полонез — танец истинно рыцарский, в нем каждый жест кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Это было своеобразное объяснение в любви, но объяснение не страстное, а сдержанное, исполненное внутреннего достоинства и такта. Существует предположение, что полонез стал популярен в Европе благодаря Генриху III. Будучи еще герцогом Анжуйским, он был избран сеймом королем Польши. После смерти Карла IX герцог покинул польский престол, чтобы стать королем Франции Генрихом III. Его приближенные вывезли из Польского королевства танец, получивший название «полонез», то есть «польский».
Родившись в Польше, полонез, по мнению польской аристократии, был единственным танцем, пристойным для монархов и сановных особ. В качестве торжественного шествия воинов «польский» был известен еще в XVI веке. Поляки бережно хранили самобытные традиции этого танца, лишенного быстрых движений, построенного на множестве трудных и единообразных поз. Цель полонеза — привлечь внимание к кавалеру, «выставить напоказ его красоту, его щегольский вид, его воинственную и вместе с тем учтивую осанку».[192]
Мужские костюмы прошлого не уступали дамским не только по богатству убранства, но и по изысканности вкуса — тяжелая парча, венецианский бархат, атлас, мягкие пушистые соболя, сабли с золотой насечкой, кроваво-красная или золотистая обувь. «Без рассказов стариков, — писал Ф. Лист, — поныне носящих старинный национальный костюм, нельзя было бы представить себе все многообразие нюансов и выразительную мимику при исполнении полонеза, который в давние времена скорее «представляли», чем танцевали»[193]. Никогда не носившим эту одежду трудно усвоить старинную манеру держаться, кланяться, передать все тонкости движений во время танца. Играя разнообразными аксессуарами, неспешно жестикулируя, шляхтичи наполняли «польский» живым, но таинственным содержанием. Особым искусством считалось умение грациозно снимать и перекладывать из одной руки в другую бархатную шапку, в складках бархата которой сверкали алмазы.
Исключительной отточенностью движений должен был отличаться кавалер первой пары, примеру которого следовали все остальные. Хозяин дома открывал бал не с самой молодой или самой красивой, но с самой почтенной дамой. Вслед за ними вступали в танец лучшие из представителей собравшегося общества, поступь и осанка которых вызывали восхищение всех приглашенных. На европейских балах XVIII века первая пара задавала движение, которое повторялось затем всей колонной; поэтому рисунок и тональность полонеза во многом зависели и от устроителя праздника. Начавшись во дворце, полонез мог продолжаться в саду или в отдаленных гостиных, где движения становились более раскованными. Но по возвращении в главный зал танец вновь являл свою необычайную торжественность и церемониальность. «Все общество, так сказать, приосанивалось, наслаждалось своим лицезрением, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым. Полонез был постоянной выставкой блеска, славы, значения».[194]
В России на протяжении XVIII века полонез был одним из первых танцев, но не всегда открывал бал. Первые ассамблеи Петра Великого начинались так называемыми церемониальными танцами-поклонами и реверансами дам и кавалеров под музыку. Описание церемониального танца дает А.С. Пушкин в третьей главе «Арапа Петра Великого»: «Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее <…>. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились»[195]. Затем одна или две пары при желании могли исполнить менуэт, англез или «польский». Причем, если танцующие вновь выбирали менуэт, то дамы наравне с кавалерами имели право приглашать новых партнеров. На полонез это правило не распространялось (приглашали только кавалеры).[196]
Душою ассамблей петровского времени был генерал-прокурор П.И. Ягужинский, который не только превосходно танцевал, но и придумывал новые танцевальные композиции. Одна из них, исполненная на ассамблее у барона П.П. Шафирова, длилась более часа. Начавшись с англеза, танец перешел в «польский» и т. д. Когда все известные фигуры были исполнены, он поставил всех в общий круг и предоставил своей даме — госпоже Лопухиной — начать исполнение фигур, которые сам повторял за ней, а кавалер следующей пары, в свою очередь, выдумывал что-то новое, и так до последней пары.
При Екатерине Великой каждое воскресенье при дворе устраивался бал, который начинали менуэтом великий князь и великая княгиня. После них придворные и офицеры гвардии (в звании не ниже полковника) танцевали менуэт, полонез или контрданс. Все дворяне на эти балы должны были являться только в дворянских мундирах.
Император Павел Петрович открывал балы во времена своего царствования полонезом, первые пары которого с 1798 года составляли наследники традиций одного из старейших рыцарских орденов — Мальтийского. Для истинных рыцарей — рыцарский танец.
Полонез — один из немногих танцев XVIII века, который благополучно «прошествовал» из одного столетия в другое, не потеряв в пути своего достоинства и великолепия. Словно закаленный в сражении воин, полонез не сдался, сумел выстоять под натиском все более набирающих популярность вальса и мазурки. При этом он оставался одним из любимых танцев русских офицеров, которые, как известно, царили не только на бранном поле, но и на балу.
В XIX веке рисунок полонеза стал еще более графичен и лаконичен. Движения танца не отличались особой сложностью, и, казалось, полонез весьма прост в исполнении, но это было обманчивое впечатление. Пожалуй, ни один танец не исполнен столь глубокого смысла и не требует от кавалеров и дам такой утонченности манер, строгой осанки, как полонез.
При императоре Николае Павловиче, истинном «рыцаре самодержавия», полонез приобрел новое содержание, став не только императорским, но и имперским танцем, во время которого все подчинялись единой воле, составляли единое целое. Объединяя всех присутствующих, полонез не терпел нарушения строгой иерархии в порядке следования пар. В первой всегда шествовал император со своей партнершей. Согласно воспоминаниям современников, в наружности Николая Павловича, в его осанке, во всех манерах была какая-то чарующая сила, подчинявшая окружающих его влиянию.
Петербургский двор того времени задавал тон европейским дворам, как самый пышный, блестящий и светский. Императрица Александра Федоровна была воплощением изящества, любила окружать себя прекрасным и обладала утонченным вкусом. Она поистине царила на балах своего времени, восхищая присутствующих грациозностью движений в полонезе и французской кадрили. «Императрица Александра Федоровна танцевала как-то совсем особенно: ни одного лишнего pas, ни одного прыжка или неровного движения у нее нельзя было заметить. Все говорили, что она скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветерком»[197], — вспоминала М. Каменская. Поэтическое прозвище Александры Федоровны — Лалла Рук. Именно под этим именем увековечена императрица А.С. Пушкиным в ранней редакции VIII главы «Евгения Онегина».
Родиной мазурки, как и полонеза, является Польша. Подобно старинным танцам Ренессанса, они были неразлучны как вступительный и заключительный танцы. В результате длительной эволюции мазурка приобрела тот аристократический оттенок, который придал ей особую популярность на балах XIX века «Исключительно красивое зрелище представляет собой польский бал, когда после общего круга и дефилирования всех танцующих внимание зала (без помехи со стороны других пар, которые в других местах Европы сталкиваются и мешают друг другу) приковывает одна красивая пара, вылетающая на середину. Какое богатство движения у этого танца… Кавалер, получивший согласие дамы танцевать с ним, гордится этим как завоеванием, а соперникам своим предоставляет любоваться ею, прежде чем привлечь ее к себе в этом кратком вихревом объятии: на его лице — выражение гордости победителя, краска тщеславия на лице у той, чья красота завоевала ему триумф…
Иногда выступают одновременно две пары: немного спустя кавалеры меняют дам; подлетает третий танцор и, хлопая в ладоши, одну из них похищает у ее партнера, как бы безумно увлеченный ее неотразимой красотой и обаянием ее несравненной грации. Когда такая настойчивость выказывается по отношению к одной из цариц праздника, самые блестящие молодые люди наперебой домогаются чести предложить ей руку»[198], — писал Ф. Лист. По окончании танца кавалер вставал на колено перед дамой, целовал подол ее платья, благодаря за честь и доставленное удовольствие.
Мазурка появилась в Петербурге, по свидетельству Глушковского, в 1810 году, перекочевав к нам из Парижа. Она сразу вошла в большую моду: ее танцевали в четыре пары, и хорошая школа того времени требовала грациозности от дам и удали — от кавалеров. По свидетельству художницы Виже-Лебрен, лучшей исполнительницей мазурки была известная красавица М.А. Нарышкина, среди кавалеров «лучшими «мазуристами» того времени считались сам государь император Александр Павлович, граф Милорадович, граф Соллогуб и актер Сосницкий». И.И. Сосницкий, танцуя мазурку, «не делал никакого усилия, все было так легко, зефирно, но вместе увлекательно». Актер был буквально нарасхват во всех аристократических домах и как бальный кавалер, и как танцмейстер. «Мазурка — это целая поэзия для того, кто танцует ее толково, а не бросается зря, с единственной заботой затрепать свою даму да вдоволь настучаться выносливыми каблуками. Если и позволительно иногда пристукивать каблуками, то это хорошо только изредка, умелое, уместное постукивание придает мазурке некоторый шик. Заурядное же не имеет ни смысла, ни прелести, да и паркет от этого страдает (говоря фигурально)».[199]
Император Николай Павлович особенно любил мазурку. Для исполнения этого танца в России он пригласил из Варшавы нескольких лучших танцоров, среди которых был и Ф.И. Кшесинский. Александр Плещеев, видевший Кшесинского в зените славы, написал о нем такие строки: «Трудно представить себе более самозабвенное и темпераментное исполнение этого народного танца, полного грации и огня. Кшесинскому удалось придать ему своеобразное и неповторимое достоинство и благородство. С легкой руки Кшесинского, а правильнее сказать с его легкой ноги, началось триумфальное шествие мазурки в нашем обществе. У Феликса Ивановича Кшесинского берут уроки мазурки, которая стала одним из самых распространенных в России танцев».[200]
Критики тех лет подчеркивали, что за всю сценическую жизнь Ф.И. Кшесинского ему не было равных в исполнении этого популярного танца. Как вспоминала впоследствии великая русская балерина М.Ф. Кшесинская: «Отец научил меня мазурке, и она стала неотъемлемой частью меня самой».[201]
Мазурка столь часто исполнялась, что даже барон А.А. Дельвиг, весьма редко посещавший балы, во время одной из загородных поездок танцевал мазурку под звуки арфы.
В Остафьеве — имении князя П.А. Вяземского, куда в 1831 году на вечера съезжались Муханов, Трубецкой, Пушкин, Давыдов, — после разговоров о романах Булгарина, о балладах Жуковского, о немецкой философии и русском правительстве гости исполняли мазурку в сопровождении скрипки. «Бал горел ослепительным светом, пары кружились в шумной мазурке. Наступала пора, когда все лица оживляются, когда взоры становятся нежнее, разговоры выразительнее. Лядов заливался чудными звуками на своей скрипке. В воздухе было что-то теплое и бальзамическое. Казалось, жизнь развертывалась во всей красоте»[202], — писал граф В.А. Соллогуб.
На одном из вечеров у Карамзиных А.С. Пушкин пригласил на мазурку А.О. Смирнову-Россет. Во время танца между ними состоялся весьма серьезный и далеко не пустой бальный разговор. На вопрос Пушкина, не итальянка ли Александра Осиповна, та ответила: «Нет, я не принадлежу ни к какой народности, отец мой был француз, бабушка — грузинка, дед — пруссак, а я по духу русская и православная».[203]
Именно к мазурке приезжает на бал, который давал петербургский генерал-губернатор 26 декабря 1834 года, М.Ю. Лермонтов, чтобы окончательно объясниться в своих чувствах Е.А. Сушковой. Для жениха Екатерины Александровны ее согласие на танец с Лермонтовым означало разрыв их отношений. «Я возвратилась домой совершенно перерожденная, — вспоминала Е.А. Сушкова. — Наконец-то я любила; мало того, я нашла идола, перед которым не стыдно было преклоняться, перед целым светом, я могла гордиться своей любовью, а еще более его любовью; мне казалось, что я достигла цели всей своей жизни».[204]
Зиму 1874/75 года семья Ф.М. Достоевского провела в Старой Руссе. Анна Григорьевна, жена писателя, вспоминала: «Я и мои дети, наши старорусские друзья отлично помнят, как, бывало, вечером, играя с детьми, Федор Михайлович под звуки органчика танцевал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Муж мой особенно любил мазурку и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухарски, с воодушевлением, как «завзятый поляк», и он был очень доволен, когда я раз высказала такое мое мнение».[205]
На одном из танцевальных вечеров летом 1881 года, во время последнего приезда на родину, И.С. Тургенев просил Я.И. Полонского, гостившего в Спасском, сыграть мазурку. «Играй! — кричал мне Тургенев, — как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй!»[206] Славянская удаль в сочетании с рыцарским благородством сделала мазурку любимым танцем российских императоров и боевых генералов, литераторов и театральных актеров.
В начале XX века из старых, так называемых легких танцев в репертуаре танцоров сохранились мазурка и вальс. Между тем полька, полька-мазурка и другие постепенно вытеснялись более спокойными танцами, в которых можно было проявить грацию и изящество. Падекатр, шакон и по идее, и по темпу напоминали старые танцы галантного века, периода расцвета придворной культуры.
Завершается бал котильоном. Котильон — это скорее не танец, а игра. Основу котильона чаще всего составляли вальсы и мазурки, а игры могли быть самыми разнообразными: шарады с литературными героями, когда пары подбирались по карточкам: Татьяна — Онегин, Ленский — Ольга. Или разбивались слова на две части: «Ялик» — «я» и «лик». Или разыгрывали забавные игры с удочкой: ставилась ширма, кавалер забрасывал удочку, не зная, какая там дама. Оттуда она потом и выходила. Зачастую даже танцевали затем с удочкой: кавалер держал ее в руке, а после танца дама снимала с нее «рыбку». Весь зал смеялся.
Перед началом Первой мировой войны на придворных балах в Германии церемониал открывался менуэтом и гавотом. Умению танцевать менуэт обучались годами, его исполняли прежде всего для поддержания сословно-иерархического этикета.
В конце Первой мировой войны любили устраивать уютные семейные вечера. Танцевали полонез, польку, венгерку, мазурку, краковяк, кадриль, падекатр, падеспань. Новшеством были танго и фокстрот. При этом фокстрот не считался настоящим танцем, роль танго еще не была значительной, про него рассказывали немало нескромных анекдотов.
Каждый танец в разные периоды истории имел на балу свое смысловое значение, свою интонацию, являясь не только организационным звеном, но и своеобразным выразителем основных идей бального церемониала.
Оформление бальных заловВ отличие от европейских монархов Петр Алексеевич не стремился на ассамблеях погружать своих подданных в сказочный мир. На ассамблеях гостиные — это отнюдь не райские сады. Для русских дворян само присутствие рядом с монархом подобно восхождению на вершину Олимпа. Принадлежность к высшему свету определялась не благородным происхождением, а близостью к императору. В день ассамблеи, примерно в три часа после обеда, в очередной дом, где устраивался праздник, являлся генерал-полицмейстер, генерал-адъютант Петра I A.M. Девиер, обязанный записывать всех приезжающих. Гости собирались постепенно; примерно в шесть часов приезжала царская фамилия. Комнаты, предоставленные хозяином собрания, посвящались каждая особому занятию.
В одной комнате устраивались танцы, в другой — шахматы и шашки (карты на ассамблеях Петра I не подавались), в третьей готовились столы с трубками, табаком и деревянными лучинками, используемыми для закуривания трубок. Если возможности не позволяли хозяину таким образом приготовить несколько гостиных, то столы с трубками, табаком, шахматами и шашками размещались в танцевальном зале, что было крайне неудобно: «В комнате, где дамы и где танцуют, курят табак и играют в шашки, отчего бывают вонь и стукотня, вовсе неуместные при дамах и при музыке».[207]
Все празднества делились на летние и зимние. В Петербурге зимние устраивались в здании Сената либо в Почтовом дворе, на месте Мраморного дворца; летние давались в Летнем саду. После смерти Петра I гостиные, предназначенные для танцев, очистились от табачного дыма, шуты и скоморохи покинули на время дворцовые залы.
Одним из развлечений при дворе Анны Иоанновны была стрельба дам и кавалеров по мишеням, причем московские аристократы старались не отставать от петербургских. «Скажи-тко, стреляют ли дамы в Москве?» — спрашивала на приеме в 1738 году императрица Н. Шестакову. «Видела я, государыня, князь Алексей Михайлович (вероятно, князь A.M. Черкасский. — О. З.) учит княжну стрелять из окна, а поставлена мишень на заборе». — «А птиц стреляет ли?» — «Видела, государыня, посадили голубя близко мишени, и застрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз уже пристрелила». — «А другие дамы стреляют ли?» — «Не могу, матушка, донесть, не видывала».[208]
В 1740 году в Санкт-Петербурге между Адмиралтейской крепостью и построенным при императрице Анне Иоанновне новым Зимним дворцом был возведен Ледяной дом, столь знакомый нам по одноименному роману Лажечникова. «Только в этой одной стране можно увидеть такую забаву, какую доставила царица 17 февраля. Один князь Голицын, паж ея величества, подал тому повод, хотев вступить в неравный брак. Дело шло о предании осмеянию подобной свадьбы»[209]. Ледяной дом казался созданным из единого куска льда, прозрачность и синий цвет которого делали его сравнимым с драгоценным камнем. Сам дом имел дверные и оконные косяки, пилястры, выкрашенные краской, напоминающей своим оттенком зеленый мрамор. Ночью в окнах дома горели свечи и видны были написанные на потолке картины с забавными сюжетами.
Войдя в дом, вы попадали в вестибюль, по сторонам которого располагались покои. В одном из них стоял стол, на котором находились зеркало, несколько шандалов со свечами, которые горели по ночам, смазанные нефтью, карманные часы, различная посуда. В другой половине гостиной стояла кровать с подушками и одеялом, две пары туфель, два колпака, табурет, в камине лежали ледяные дрова, которые, будучи политы нефтью, горели. В следующей гостиной был расположен резной поставец, внутри которого находились сделанные изо льда и выкрашенные красками стаканы, блюда с едой, рюмки, точеная чайная посуда.
Сооружения, возведенные вокруг дома, поражали воображение современников не менее, чем внутреннее убранство. «Всего удивительнее то, что фасад дома был украшен восемью ледяными пушками на лафетах, и при стрельбе из них оне выдерживали заряды в три четверти фунта пороха»[210], — сообщал в Париж маркиз де ла Шетарди. Железное ядро, выпущенное из ледяной пушки с расстояния 60 шагов, насквозь пробило доску толщиной в два дюйма. Рядом с пушками находились два ледяных дельфина, изо рта которых выбрасывался огонь от зажженной нефти, подаваемой с помощью насосов.
Около дома стоял сооруженный изо льда в натуральную величину слон, на котором восседал персиянин. Днем из хобота слона бил водяной фонтан, а ночью — огненный (горящая нефть). Внутри слона сидел человек, который с помощью трубы имитировал слоновий крик. С левой стороны дворца построили баню, казавшуюся сделанной из бревен, баню несколько раз топили и в ней парились. Ледяной дом окружали деревья, листья и ветви которых с сидящими на них птицами также были выполнены изо льда.
Ледяной дом был не только замечательным произведением искусства. Всему миру Россия продемонстрировала практическое применение последних достижений науки. Ледяной дом — двойственный символ своего времени. С одной стороны, он как бы утверждает, что воля и разум человека могут многое, даже примирить на время лед и пламень, с другой — это вершина произвола и самодурства правителей-временщиков: бессмысленная жестокость (новобрачные «дурак и дурка», оставленные на ночь в ледяной спальне, замерзли насмерть) в сочетании с бессмысленными же затратами средств, труда и искусства на эфемерную и бесчеловечную затею.
В XVIII веке жизнь русского дворянства резко делилась надвое: две столицы — Москва и Санкт-Петербург; два языка — французский и русский; законы, исключающие друг друга: дворянину запрещалось драться на дуэли, а отказавшегося изгоняли с позором из общества. Но разделить жизнь труднее, чем разделить дворец, который имел два кабинета, две спальни — «парадную» и «вседневную».
Во дворцах периода барокко и классицизма парадные помещения располагались анфиладой, то есть по прямой линии, что давало возможность устраивать пышные дворцовые церемонии с торжественным выходом. Попадая во дворец, приглашенные становились участниками своеобразного театрального действия, но, в отличие от обычного театра, не картины менялись перед ними, а сами гости переходили из одного зала в другой, словно от одной декорации к следующей. Определенная цветовая гамма, палитра, используемая в отделке интерьера, позволяла создать эмоциональный настрой, своеобразную мелодию интерьера.
Совершим мысленно путешествие по залам дворца графа П.Б. Шереметева в Кускове: торжественная увертюра звучит в оформлении вестибюля, лирическую тему следующих апартаментов сменяет торжественно-драматическая Малиновой гостиной. Но кульминацией восприятия является Белый (танцевальный) зал, убранство которого поражало собравшихся вкусом и богатством отделки и одновременно подчеркивало заслуги рода Шереметевых перед отечеством. Таким образом, оформление парадного зала обязано не только отвечать главенствующему в данный период художественному стилю, но и прежде всего нести определенную смысловую, знаковую нагрузку.
Стремление удивить собравшихся заставляло хозяев искать новые средства и формы организации церемониальных пространств. Часть действа переносилась зачастую в усадебный парк, виды которого гармонично продолжали парадные интерьеры дворца.
Усадебные праздники были частью светского ритуала, формой общения с друзьями и соседями. Некоторые праздники в богатых усадьбах продолжались по несколько дней, а количество гостей, принимавших в них участие, исчислялось сотнями.
На грандиозные празднества в Кусково собиралось до 30 тысяч человек и съезжалось более 2 тысяч карет. «По окончании спектакля новые забавы ожидали гостей. В приготовленных линейках отправились все в дом, где и начался бал. Когда довольно танцевали, то хозяин позвал всех опять в сад, прекрасно освещенный для воксала. В то же самое время с другой стороны дома представлялся бесподобный вид от разноцветных фонарей, которыми весь большой пруд, канал с проспектом к дальней церкви и остров были убраны. Гости приведены были в аллею, из которой выход засажен был густыми деревьями; но деревья вдруг раздвинулись и открыли глазам прекрасно иллюминированную декорацию».[211]
При императрице Елизавете Петровне раз в неделю великий князь Петр Федорович устраивал у себя в кабинете концерт. Праздник организовывала его супруга Екатерина Алексеевна. В один из таких приемов архитектор Антонио Ринальди выстроил большую колесницу, на которой могли поместиться 60 музыкантов и певцов. В разгар праздника гости увидели, как по ярко иллюминированной аллее к ним приближается «подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти <…>. Когда колесница остановилась, то игрою случая, луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество»[212]. По отзывам современников, гости были в восхищении от этого бала, длившегося до шести часов утра.
Дворяне почти всех великороссийских губерний стекались каждую зиму в Москву на балы в Благородное собрание. «В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ея памяти не могла его исторгнуть. Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркаго освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нем посетителей и посетительниц, в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки, и в конце его, на некотором возвышении, улыбающийся всеобщему веселью мраморный лик Екатерины, как во дни ея жизни и нашего блаженства! Сим чудесным зрелищем я был поражен, очарован»[213], — вспоминал Ф. Вигель.
Апогея своего блеска достиг российский двор в царствование императрицы Екатерины II.
От двора не отставали и вельможи. Маскарады Нарышкина и приемы графа Шереметева поражали своим великолепием. Поразить людей того времени чем-либо было непросто. Тем примечательнее праздник светлейшего князя Потемкина, который он устроил в честь Екатерины Великой в Таврическом дворце. Тысячи художников несколько недель занимались подготовкой торжества, офицерам было поручено развезти 3 тысячи пригласительных билетов. К 9 мая все было готово.
После представления в театре Потемкин предложил императорской фамилии последовать в зимний сад. Описание его столь фантастично, что стоит привести воспоминание очевидца этих событий: «Зеленеющий дерновый скат вел дорогою, обсаженною цветущими померанцевыми деревьями. Там видимы были лесочки, по окружающим которые решеткам обвивались розы и жасмины, наполняющие воздух благовонием. В кустарниках видимы были гнезда соловьев и других поющих птиц. <…> Печи, которых для зимнего сего сада потребно было немало, скрыты были за множеством зеркал, одинаковой величины и цены чрезвычайной. На дорожках сего сада и на малых дерновых холмочках видимы были на мраморных подножиях вазы из того же камня, но другого цвета <…>. В траве стояли великие из лучшего стекла шары, наполненные водой, в которых плавали золотые и серебряные рыбки»[214]. Посредине сада возвышался храм, купол которого опирался на восемь столпов из белого мрамора. Ступени из серого мрамора вели их к своеобразному жертвеннику, служившему подножием к высеченной из белого мрамора фигуре императрицы, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике имелась надпись: «Матери отечества и моей благодетельнице».
За храмом находилась беседка, внутренние стены которой состояли из зеркал. В день праздника внешние решетки были украшены лампадами в форме яблок, груш и виноградных гроздьев. Все окна сада в день праздника были закрыты искусственными пальмовыми и померанцевыми деревьями, листья и плоды которых также представляли лампады. В различных частях сада находились светильники в форме дынь, арбузов, ананасов и винограда. Между храмом и беседкой находилась зеркальная пирамида, на верху которой блистало имя императрицы. Рядом стояли другие, меньшие по размеру пирамиды, на которых фиолетовыми и зелеными огнями горели вензеля наследника престола, его супруги и обоих великих князей. Современники указывали, что всего в этот вечер дворец освещали 20 тысяч восковых свечей и 140 тысяч лампад.
Когда начался бал, императрица и великая княгиня сели играть в карты до половины двенадцатого ночи. Во время ужина, накрытого в театральном зале, все столы были освещены шарами из белого и цветного стекла, в других гостиных дворца были сервированы столы посудой из лучшего серебра и фарфора. Официанты, одетые в придворные ливреи и ливреи Потемкина, разносили изысканные угощения гостям. После ужина последовал бал, продолжавшийся до самого утра. С течением времени потемкинский праздник станет своеобразным эталоном, которому многие будут подражать, но, как говорили современники, повторить подобное волшебство не удалось.
В апреле 1797 года Павел Петрович решил посетить Останкино — имение обер-гофмаршала двора графа Н.П. Шереметева. В то время как император проезжал через Марьину рощу, часть деревьев упала и перед гостями открылась панорама усадьбы. Этот сюрприз был специально подготовлен графом к приезду Павла I.
Шли годы. «Безумное и мудрое» XVIII столетие близилось к своему завершению. Веселые балы и праздники екатерининской эпохи заменили парады и смотры. Жизнь петербургского двора начала царствования Александра Павловича не могла соперничать с блеском конца XVIII века. Причиной этому были постоянные войны, частое отсутствие императора, уезжавшего то за границу, то в другие города России.
В промежутках военного затишья веселье в столице пробуждалось. Наследники екатерининских любимцев устраивали празднества в присутствии императора и великих князей, стараясь не уступать своим отцам ни в роскоши, ни в изобретательности.
8 февраля 1808 года Александр Львович и Мария Алексеевна Нарышкины давали бал-праздник в честь императора. «Хозяева, ожидая высоких к себе посетителей, употребили всевозможное тщание на украшение дома, где между прочим комната, приготовленная для принятия во время ужина высочайшей фамилии, отделана была первым декоратором г. Гонзагою, совершенно в новом вкусе, соединяющем в себе великолепие с простотою, богатство с приятностью. Также отделаны им были две комнаты сопредельныя оной; в прочих отделка была лучших в городе мастеров; одним словом, хозяева ничего не щадили, чтоб можно было угостить наилучшим и приятнейшим образом»[215]. Архитектурные украшения и разноцветные огни покрывали устроенные для катанья ледяные горы.
В восемь часов вечера начался съезд гостей. В половине десятого прибыл император с императрицей и со всей высочайшей фамилией. Под звуки музыки хозяева встретили их у крыльца и проводили в зал, где находилось уже более семисот приглашенных особ и где вдруг «к общему всех удивлению, стена, в конце зала сего находящаяся, исчезла, представя декорацию <…>, она изображала гроту, которой глубина, теряяся из виду, представляла ниспадающие с вершин утесов два источника, в стремлении своем составляющие в разных местах каскады и ручейки, где нимфы резвились, наяды плавали, тритоны катались на дельфинах, а посреди оных на камне, исходящем из воды, сидел Амур. При подошве гроты, окруженной приятными видами рощей и пригорков, произведены были танцы, составленные Г. Дидло из воспитывающихся в императорской театральной школе. Балет сей как замысловатый своим расположением, так и разнообразием приятнейших видов групп во время танцов привел всех в восхищение, особливо танец г-жи Икониной был пленителен». По завершении представления начался бал, затем катанье с гор. В час пополуночи гостей пригласили на ужин, по окончании которого бал возобновился. В то же время в саду был зажжен фейерверк, где «между многими огненными явлениями зрелись четыре пальмы необычайной величины, составленные из зеленого огня»[216]. Император и вся высочайшая фамилия присутствовали на бале до пяти часов утра.
В начале 1809 года в честь пребывания в России прусских короля и королевы все знатнейшие придворные особы давали великолепные балы. А.Л. Нарышкин сказал о своем празднике: «Я сделал то, что было моим долгом, но я и сделал это в долг»[217]. Устройство подобных праздников было своеобразной светской обязанностью для человека высшего общества.
В организации пространства бального ритуала использовались различные театральные средства, включая постановки живых картин. Согласно воспоминаниям современников, придворные праздники первой четверти XIX века отличались особым художественным вкусом. «Праздник, устроенный в честь приезда великой княгини Марии Павловны, герцогини Саксен-Веймарской, ознаменовался даже изяществом невиданным. Некоторые залы Зимнего дворца обратились в галереи живых картин. В Белой зале (ныне Золотой), между колоннами, поставлены были золотые рамы, в которых первые великосветские красавицы изображали произведения великих живописцев»[218], — вспоминал граф В.А. Соллогуб.
Первая картина представляла полотно Гвидо Рени Les couscuses («Швеи»), роли были распределены между княжной Суворовой, графиней Ольгой Потоцкой, баронессой Строгановой, княжной Сапега, княгиней Лобановой-Ростовской, госпожами Безобразовой, Новалишиной, Пашковой, Новосильцевой.
Среди представленных произведений был ряд портретов: Рембрандта («Воин», «Воин в польском костюме», «Урок чтения», «Портрет мальчика в восточном одеянии»); Ван Дейка («Дочери лорда Ф. Уортона», «Ван дер Водвер», «Портрет принца Оранского» и «Дочь Кромвеля»); две «Сабил-лы» — Гверчино и Доминикино; «Женщина с ребенком» Лагренэ и др. Представлена была также находившаяся в Эрмитаже картина Миньяpa «Семейство Дария». Постановка заключительной картины — «Фламандский праздник» Тенирса — происходила под наблюдением балетмейстера Дидло.
Элегантностью и изяществом отличался праздник, устроенный послом Франции в России герцогом Рагузским по случаю коронации императора Николая I. Маршал занимал дворец князя А.Б. Куракина на Старой Басманной. За несколько дней до приема Николая Паловича во дворе особняка был сооружен огромный зал, оказавшийся рядом с галереей, куда выходили несколько гостиных. Чтобы освободить проход для императорской фамилии, снесли один пролет стены. Лакеи в сияющих ливреях, слуги и метрдотели стояли вдоль лестницы, украшенной благоухающими цветами. На этом балу молодые кавалеры посольства каждой даме вручали при входе букет живых цветов. Подобной традиции в России в это время еще не существовало. Вскоре русские дамы будут ездить с букетами не только на балы, но и в театры. В 9 часов вечера фанфары возвестили о прибытии императора, и начался бал.
В отличие от русского бала, на котором танцевальная программа начиналась полонезом, французский праздник открыл вальс. Еще одним новшеством было наличие в программе нескольких французских кадрилей, весьма редкого в то время в России танца. Молодые люди из русских и французских фамилий тщательно исполняли определенные па, а перед визави почти балансировали.
На память о празднике каждая дама привезла домой своеобразный французский гостинец — сделанные из сахара букетики роз, тюльпанов и других цветов. Старания французского посла были не напрасны. Государь остался доволен приемом и удостоил маршала продолжительной и важной беседой.
Французские кавалеры продолжали блистать и на балу у герцога Девонширского, но здесь им стремились ни в чем не уступать кавалеры из Швеции и России. Сам герцог научился вальсировать в Москве. На одном из балов он, танцуя кадриль с А.Ф. Вельяминовой, упал и растянулся во весь рост перед своей партнершей. Прусский принц, стоявший рядом, сказал ей: «Сударыня, вы, должно быть, немало удивлены тем, что Великобритания оказалась у ваших ног». — «Нет, ваше высочество! Уже давно я замечала, что величие ее склоняется к закату».
Поведение англичан было до такой степени своеобразно, что они могли, не обращая внимания на присутствующих, танцевать в углу зала мазурку. Когда один англичанин, поправляя перед зеркалом прическу, увидел за собой государя, к которому стоял спиной, вместо того, чтобы вежливо отойти, раскинул перед ним руки, сделал гримасу и закричал: «А-а!»
По отзывам современников, у французского посла было весело, а у английского — оригинально.
Приемы в посольствах — одно из средств международной пропаганды могущества своих государств. Заметим, что в то время как французский посол в Москве стремился превзойти всех приемом в честь русского императора, посольство России в Париже уступало по значительности английскому и австрийскому. Это было вызвано, с одной стороны, особенностями внешней политики России, а с другой — тем, что русский император выделял дипломатам скромные денежные средства. Так, в 1838 году граф Пален в течение двух месяцев искал себе достойное жилье в Париже. В результате он нанял для канцелярии маленький особняк в Париже, а для себя снял на лето поместье Тюильри в Отее. Судя по дневнику секретаря русского посольства Виктора Балабина, гостей в русском посольстве принимали не часто.[219]
Успехи в военных кампаниях начала столетия укрепили международный авторитет Российской империи, и долгое время она не нуждалась в аплодисментах европейской аристократии. Россия могла их благосклонно выслушать, но не более.
Летом 1839 года стояла прекрасная погода. Все великосветские дома Петербурга были озабочены подготовкой к целому ряду торжеств по случаю бракосочетания великой княжны Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским. В день венчания высочайший выход был назначен на два часа дня. После церемоний венчания по православному и католическому обрядам состоялся большой обед в присутствии царской семьи.
Задолго до бала в честь новобрачных император обратился к придворным дамам с просьбой не скупиться на туалеты, дабы праздник стал еще более блестящим. Не менее роскошный бал состоялся спустя несколько дней во дворце великого князя Михаила Павловича. Широкая лестница парадного вестибюля была устлана красным ковром и утопала в экзотической зелени. Основания белоснежных колонн были превращены в корзины с цветами. В нишах из-за листвы померанцевых деревьев виднелись ярко освещенные мраморные статуи. В танцевальном зале был устроен бассейн с освещенным фонтаном, брызги которого орошали розы и другие цветы, окаймлявшие края бассейна.
Оркестр размещался за фонтаном. От гостей его отделяли померанцевые деревья. Весь Михайловский дворец и ограда были иллюминованы[220]. Чествования новобрачных завершились балом на каменноостровской даче принца Ольденбургского и праздником в Петербурге.
Танцевальный зал каменноостровского бала был устроен в саду, устланном паркетом, и окружен невысоким барьером, покрытым коврами. Принц и принцесса любезно встречали приглашенных у входа. Гости проходили несколько зал до балкона, украшенного цветами, и спускались па площадку сада, предназначенную для танцев. С наступлением сумерек весь дом был освещен фонариками, напоминавшими по форме тюльпаны.
Иностранцы-путешественники отмечали особую изобретательность и вкус русских в создании картин иллюминации. «Вы видите то огромные, величиной с дерево, цветы, то солнца, то вазы, то трельяжи из виноградных гроздьев, то обелиски и колонны, то стены с разными арабесками в мавританском стиле. Одним словом, перед вашими глазами оживает фантастический мир, одно чудо сменяет другое с невероятной быстротой»[221], — вспоминал маркиз де Кюстин.
По окончании бала все общество отправлялось на прогулку в парк. «Мы проезжали мимо гротов, освещенных изнутри ярким пламенем, просвечивающим сквозь пелену ниспадающей воды. Эти пылающие каскады имеют феерический вид. Императорский дворец господствует над ними и как бы является их источником. Только он один не иллюминирован, но необозримое море огней стремится к нему из парка, и, отражая их своими белыми стенами, он горит, как алмаз. Эта прогулка по иллюминированному парку была, бесспорно, прекраснее всего в петергофском празднике»[222], — писал маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 году.
Праздник по случаю тезоименитства императрицы Александры Федоровны имел большое символическое значение. Тысячи людей — офицеры, солдаты, купцы, дворяне, царедворцы — покидали в этот день Петербург и перебирались в Петергоф. В день бала дворец был открыт для всех желающих. Император, беседуя с представителями различных сословий, выступал в роли истинного отца нации.
В зиму 1843/44 года в царственной семье состоялось два бракосочетания: великой княжны Александры Николаевны с принцем Гессенским и великой княжны Елизаветы Михайловны с герцогом Нассауским. В ряду многочисленных праздников, сопровождавших обе свадьбы, было торжество, данное великой княгиней Еленой Павловной в феврале 1844 года. Праздник начался в 9 часов утра балетом в постановке балетмейстера Огюста; в нем зрители увидели двор калифа Багдадского, Оберон со свитой и двор Карла Великого.
После балета его участники (190 человек), сопровождаемые огромным костюмированным хором военной музыки, обошли попарно в торжественном марше все залы Михайловского дворца. В балете, как и в шествии, были заняты все великие княгини и великие княжны, великосветская молодежь Санкт-Петербурга.
В одном из залов дворца итальянские певцы исполнили «Сандрильону» Россини. Освещенный китайскими фонарями, развешанными на пальмовых деревьях, зал казался огненным морем. Но вдруг случилось непредвиденное — на публику посыпались осколки лопнувших от жары «граненых шкаликов, вившихся по стенам и отделявших сцену от партера»[223]. К счастью, эта беда не превратилась в подлинное несчастье. Ни один мундир, ни одно великолепное платье не было прожжено или засалено.
После оперы начался бал. Буфеты утопали в зелени и цветах. В час подали ужин. Адъютанты и придворные великокняжеского двора любезно угощали гостей. Вокруг главного стола на хорах расположились несколько оркестров и хор певчих. Столы были расставлены на лестничных площадках и внизу, в огромных сенях, между померанцевыми и лимонными деревьями. Весь пол — и на площадках, и в сенях, и на ступеньках лестниц — покрывала расписанная золотом и серебром цветная парусина. Этот праздник соединил в себе вкус, роскошь и художественное воображение. По словам М.А. Корфа, он был достоин кисти Брюллова и пера Пушкина.
Длинный ряд торжеств в честь возвратившихся в столицу русских войск завершился балом, данным 21 января 1879 года. Над главным входом в обрамлении венка из цветов блестела газовая надпись: «Переход через Дунай»; по обеим ее сторонам находились эмблемы войсковых частей, принимавших участие в этом событии. На противоположной стене — большой Георгиевский крест с изображением на красном поле святого Георгия Победоносца. В пространствах между колоннами блистали огненные изображения местностей, где наши войска покрыли себя боевой славой: «Шипка», «Карс», «Плевна», «Ардаган» и др. Названия были составлены из газовых рожков.
К одиннадцати часам вечера были уже в полном сборе все почетные гости — представители гвардии, а также лица, принявшие участие в подписке на устройство бала. На бале присутствовало 2500 человек. В Главный штаб было послано 1200 билетов для офицеров и 200 — для полковых дам, около 1000 билетов разошлось по подписке. Слева от императорской ложи разместилась большая группа раненых офицеров. В двенадцатом часу в ложе появился император в сопровождении всех членов императорской фамилии и высоких иностранных гостей. Вдруг говор в зале мгновенно смолк. Был исполнен гимн, по окончании которого под звуки полонеза высочайшие особы попарно спустились в зал. Во время танца, длившегося не более четверти часа, кавалеры поочередно шествовали со всеми августейшими дамами. Следовавшая затем кадриль могла быть названа царской, так как высочайшие особы были главными ее участниками. В исходе третьего часа ночи бал завершился.
На страницах периодической печати второй половины XIX века нередко появлялись подробные описания благотворительных балов, особое внимание уделялось праздникам французской колонии. 26 января 1888 года в Петербурге, в театре Панаева, был устроен традиционный бал французской колонии. На этот раз убранство зала было довольно критически воспринято очевидцами: «На сцене, затянутой пестрым шатром, с фоном из целого ряда зеркал, немилосердно откуда-то дуло, колыхая в разные стороны ткани шатра. Зато совсем не было душно, в особенности вначале. Декоративная часть также не представляла ничего выдающегося. Красные щиты, заслонявшие окна, и на них арматуры из неудачно размалеванных гербов городов и флагов — вот общий характер убранства кабинетов, театрального фойе и обширного вестибюля, где на белых сахарных подставках была импровизирована выставка кулинарнаго искусства фирмы Понсэ», — сообщал читателям обозреватель журнала «Всемирная иллюстрация».
Задняя стенка партера была обклеена белыми и золотыми обоями, а над сценой раскинут своеобразный шатер из красной и голубой ткани. С потолка шатра свешивалась электрическая люстра, драпированная такими же цветами. Заднюю сторону шатра составляли зеркала, зрительно увеличивающие размеры интерьера. В том месте, где сцена соединялась с партером, находилась красная японская зонтообразная беседка, в которой размещался буфет с шампанским, лотерея и продажа цветов. Кроме того, на сцене были устроены три выставки, из которых одна, в середине, была украшена двумя колоннами из леденцов, а другие предназначались для продажи билетов лотереи.
Французы, будучи законодателями мод в различных искусствах, не боялись экспериментировать в поиске художественных средств для выражения основной идеи праздника, каждый из которых имел конкретную направленность, цель и художественную ценность.
7 февраля 1898 года в Мариинском театре был дан благотворительный бал французской колонии, носивший название «Ночной праздник в Булонском лесу». Сцена театра, превращенного декорациями в Булонский лес, не оставляла, по мнению очевидцев, «желать ничего лучшего в художественном отношении; обилие света, масса зелени, умело распланированной, каскады фонтанов, павильоны — все это вместе хотя и весьма мало походило на Булонский лес, но было очень мило, сказочно, привлекательно»[224]. Сотнями разноцветных электрических огней светились перетянутые через весь зрительный зал красивые гирлянды. На этом бале присутствовало не только все высшее общество, но и цвет интеллигенции, военные, именитое купечество, высокопоставленные чиновники.
«Пора очнуться. И куда я забрел? Эрмитажный Павильон! Бал! Что это за сказочный сад? Откуда этот яркий свет в воздухе и даже в раковинах под водою фонтанов? Греческий зал с белоснежной мраморной колоннадой, кокетливыми хорами и с фонтанами «слез»… Какая прелесть!
Высочайшие пальмы, цветущие тюльпаны, ландыши, азалии, орхидеи, — целые кущи сирени и роз в цвету. Фонтан Заремы и Фатимы! Музыка, захватывающая душу, — плавно-унылые звуки вальса My Queen… Да, да, — ведь сегодня 20 февраля 1886 года, «прощеный день» и — танцуют! Описывать бал, да разве это возможно?!»[225] — писал камердинер императрицы Марии Федоровны А. Степанов.
Громадные залы Зимнего дворца, украшенные зеркалами в золотых рамах, бесчисленными пальмами и тропическими растениями, были переполнены сановниками, иностранными дипломатами, офицерами гвардейских полков. Их блестящие мундиры, шитые золотом и серебром, являлись великолепным фоном для придворных нарядов дам. Когда в большую залу входили хозяева празднества, искра беглого огня пробегала по нитям, протянутым между светильниками. Мерцающее пламя нескольких тысяч свечей отражалось в зеркалах, наполняя дворец волшебным сиянием. По отзывам современников, русский бал представлял феерическое зрелище.
Важную роль в оформлении интерьеров играло растительное убранство. Вне зависимости от времени года дворцовые гостиные превращались в день праздника в цветущие сады, мир гармонии, некую идеальную модель общества, в котором высокий эстетический вкус подчинялся определенным этическим нормам.
30 декабря 1900 года фрейлина императрицы княжна М.С. Щербатова устроила в зале Дворянского собрания благотворительный бал «Праздник в царстве роз». Бал посетили великий князь Александр Михайлович с великой княгиней Ксенией Александровной, великий князь Владимир Александрович с великой княгиней Марией Павловной и сыновьями, градоначальник Клейгельс и множество других знатных особ. Вход в большой зал украшали гирлянды роз, а над залом красовался огромный шатер из роз, розами был усыпан также газон вокруг поставленного в центре фонтана.
В 1911 году в залах Московского купеческого клуба состоялся бал «Ночь в Испании». Вся декоративная сторона — украшение зала, сцены, афиши — была исполнена П. Кончаловским в сотрудничестве с Якуловым. По мнению М. Волошина, Кончаловский «<…> высказал себя здесь очень интересным декоратором <…> Особенно хороша была та зала, которая изображала «Севильскую улицу ночью», с освещенными окнами и балконами верхних этажей. Все естественные особенности залы были при этом использованы остроумно и смело. При помощи самых примитивных средств были достигнуты удивительные эффекты.
Я могу совершенно беспристрастно сказать, что еще ни разу — ни в России, ни в Париже — не видал художественного бала, устроенного с таким вкусом и, главное, с таким темпераментом».
Пройдут десятилетия, но русская творческая интеллигенция, даже будучи вдали от России, по-прежнему будет поражать Европу свежестью и оригинальностью в различных направлениях художественной мысли.
В начале 20-х годов князь Феликс Юсупов поручил архитектору Андрею Белобородову оформление зала в Альберт-Холле, где должен был состояться благотворительный бал в помощь русскому Красному Кресту.
Художнику удалось превратить старый зал в сказочный сад. Ложи были декорированы синими тканями, скрепленными гирляндами чайных роз. По стенам зала струились каскады голубых гортензий. Люстры в венчиках роз с плюмажем белых страусовых перьев создавали эффект лунного сияния.
Ровно в полночь синей птицей слетела с позолоченной крыши пагоды в середине зала великая Павлова, каждое выступление которой сопровождалось овацией. Последний номер программы — менуэт, костюмы которого делал Бакст, довел публику до экстаза.
После того как артистам удалось покинуть зал, бал возобновился. Лишь на заре разошлись последние танцоры.
Этот бал — прощальное послание ушедшей блестящей эпохи сегодняшнему дню.
ПослесловиеОсень 1911 года. Белоснежный дворец в Ливадии, дочери императора Ольге Николаевне исполнилось 16 лет, время совершеннолетия для великих княжон. На бал по случаю этого события приглашены великие князья с их семьями, офицеры местного гарнизона и проживавшие в Ялте знакомые. «Великая Княжна Ольга Николаевна, первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветочек, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом 3-го гусарского Елизаветградского полка, что ее особенно обрадовало. После бала был ужин за маленькими круглыми столами», — вспоминала А.А. Танеева.
В 1914 году, когда вспыхнула война, Ольге Николаевне было почти 19 лет, а Татьяне Николаевне минуло 17. Они не присутствовали уже ни на одном балу.
Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, императрица с двумя великими княжнами решила лично пройти курс сестер милосердия военного времени. Одновременно с этим они поступили рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при госпитале. Выдержав экзамен, императрица и великие княжны получили красные кресты и аттестаты на звание сестер милосердия. «С раннего утра до поздней ночи не прекращалась лихорадочная деятельность. Вставали рано, ложились иногда в два часа ночи; Великие Княжны целыми днями не снимали костюмов сестер милосердия. Когда прибывали санитарные поезда, Императрица и Великие Княжны делали перевязки, ни на минуту не присаживаясь». Образ жизни человека — зеркало, в котором отражается его внутренний мир, нравственный облик его времени.
«Без прочной добродетельности отдельных лиц в основании никакое изящество, никакая красота манер, никакие искусства не в силах будут спасти или возвысить народ».
Балы в русской поэзии и прозе XIX–XX вв.
ХрестоматияТема русских балов нашла свое глубокое и многостороннее отражение в художественной литературе. Поэты и писатели XIX–XX вв. не случайно останавливались на описаниях бальных сцен: они содержали точные детали, помогающие тонкому психологическому раскрытию характеров героев.
В книге представлены отрывки из выдающихся произведений классической литературы, благодаря которым перед читателями встают яркие картины балов в России.
Александр Пушкин
Арап Петра Великого
Отрывок из неоконченного романаКорсаков сидел в шлафроке, читая французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — отвечал тот, — уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся, и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли, Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.
Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? Кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ими общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел… В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Quе diable est-ce que tout cela?»[226] — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, — и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок большого орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя Корсакова, — попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..», но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.
Григорий Данилевский
Мирович
Отрывок из романа
Часть II
Похождения известных петербургских действ
XIII
Бал у ФитингофаБарон Иван Андреевич Фитингоф, женатый на внучке фельдмаршала, графине Анне Сергеевне Миних, квартировал в большом деревянном доме, выходящем окнами к Фонтанке, у Измайловского моста. Впоследствии на этом мосте был дом поверенного Потемкина, известного Гарновского, теперь занятый казармами. Здесь поселился на первых порах, по возвращении в ту весну из ссылки, Миних, позднее переехавший в дом Нарышкина, у Семеновского моста.
Вечер воскресенья, девятого июня, привлек к помещению Фитингофа большую толпу зевак.
Набережная Фонтанки и обе стороны огромного, обнесенного высокой деревянной решеткой двора были загромождены экипажами. Раззолоченные и расписанные амурами и цветами кареты, коляски и крытые венские долгуши то и дело восьмериком и четверней проезжали с набережной в глубь обширного двора, где двумя рядами огней горели ярко освещенные, кое-где настежь раскрытые окна.
Подъехала зеркальная, всем известная карета шталмейстера Нарышкина; за ним ландо прусского посланника Гольца. Влетел шестерней, цугом, с арапами и скороходами, светло-голубой, открытый берлин молодого красавца гусара Собаньского, родича «пане-коханку» Радзивилла. Управляемый Пьери, гремел оркестр придворной музыки. Его прерывал расположенный за домом, в саду, хор певчих Белиграцкого. Цветники и дорожки сада были иллюминированы. На пруде, против главной аллеи, готовился фейерверк.
— Бал! Черт с печки упал! Го-го! — хохотали в уличной толпе.
— Кашкады, робята, огненны фанталы будут, люминация! — подхватывали голоса. — Оставайся хучь до утра!
— Орехи, чай, рублевики будут в окна сыпать…
— Дадут тебе, Митька, орехов… Ишь аспиды алстинцы! траур по государыне не кончился, а они, супостаты, пир затеяли…
С улицы было видно, как разряженные, в цветах и в легких бальных платьях красавицы, порхая из экипажей, взбегали по красному сукну крыльца.
— Овоси, Петряйка, глянь… — графиня Брюсова… Гагарина княгиня… гетманша с дочками…
— А отсуль въехал кто?
— Откуль?
— Да с прешпекту.
— Барон какой-то…
У освещенных люстрами окон появлялись, в звездах и лентах, известные городу голштинские и русские сановники, мелькали напудренные, в косах, головы военных и штатских щеголей, толпились белые, желтые и красные, нового покроя, гвардейские и армейские мундиры.
Был в начале девятый час вечера. В комнатах становилось душно. Танцы из переполненной гостями залы перевели в просторную цветочную галерею, окнами в сад, выходивший в первую роту Измайловского полка.
Менуэт сменялся котильоном, гавот — гросфатером, гросфатер — режуиссансом. Скрипка Пьери стонала горлинкой, блеяла барашком, рокотала и заливалась соловьем. Кларнеты, гобои и флейты подхватывали рев медных труб; контрабасы гудели стадом налетающих майских жуков.
— Генерал-полицмейстер Корф едет! Корф! Расступись, братцы! — отозвались с набережной.
— Гетман, гетман!
— Где?
— Да вон он, передовые вершники скачут по мосту… фалетор кричит…
— Уноси, Василь Митрич, рыло — скрозь промахнут!..
— Ххо-хо-о! — гоготала навалившая с немощеной набережной толпа.
В портретной и кабинете хозяина старики играли в карты.
Лакеи разносили вниз ликеры, оршад и лимонад. Толстый и важный, как меделянский пес, краснорожий швейцар, в большом напудренном парике, с длинными и тоненькими гусарскими косичками на висках, в алом кафтане, с позументом и витишкетами, в чулках и башмаках, стоял с булавой у порога главной гостиной и басом, в жабо, возглашал по новой моде имена входивших важных особ:
— Опперман, Цейц, Модель, Ольдерог, Буксгевден, Катцау, Унгерн, Фредерике, Швейдель, Штоффельн, Розен — герба белых роз, Розен — герба алых роз, Шлипенбах и другие.
В числе русских, за генерал-прокурором Глебовым, вошел еще красивый, с теми же густыми, черными бровями и с бархатными, но уже не смеющимися глазами, казавшийся усталым и сильно похудевший, фельдмаршал Алексей Разумовский. За ним — сморщенный, с дергающимся правым глазом, директор недавно закрытой Тайной экспедиции Александр Шувалов и Волков. При имени Ломоносова взоры многих с брезгливым любопытством обратились на мешковатый, кирпичного цвета ученый мундир и на суровое и смелое, с желтизной лицо атлетического плебея-академика, муза которого упорно молчала всю первую половину этого года. Вмешавшись в пеструю, гудевшую говором толпу, Ломоносов сел на канапе у стены между двумя гостиными и стал рассматривать.
Явилась в красном шелковом роброне, с длинным шлейфом, блистающая красотой и грацией, графиня Елена Степановна Куракина, фаворитка недавно умершего графа Петра Шувалова. Ее тотчас окружил рой молодых и старых куртизанов.
— Виновница вольностей дворянства, — шушукали о ней злые языки, — бриллиантов-то, бриллиантов!
Куракина громко смеялась на любезности вздыхателей и с торжествующей улыбкой, прикрываясь веером, зорко оглядывала наряды прочих записных щеголих.
В сопровождении двух племянников-пажей показалась в синей бархатной робе, на фижменах, с лентой через плечо и в огненно-дымчатом токе, кавалерственная дама Бутурлина. Глаза всех следили за Куракиной. Кто-то вполголоса, подмигивая на последнюю, произнес возле Ломоносова:
— Отбил красотку у покойного начальника Григорий Орлов — да в гору пошел через свою продерзость повыше…
Толстая старуха Бутурлина отыскала глазами хозяйку дома. Пыхтя и переваливаясь с ноги на ногу, она подошла к Анне Сергеевне Фитингоф, неуклюже присела по новому придворному фасону и представила вид, что чуть оттого не упала. Баронесса и стоявшие возле нее рассмеялись.
— Фиглярит, шпыняет государев указ! — презрительно указал на нее Волкову Александр Шувалов, проходя мимо Ломоносова.
Михайле Васильевичу было не до того. Он не спускал глаз с лукавой лисы Разумовского, который любезничал и со слезами на глазах целовался с любимцем государя Унгерном.
— Лобза, его же предаде, — склонясь к уху Ломоносова, шепнул сладенький, шепелявивший Бецкий.
Но что это?.. Выходцы с того света…
Блестящая, разряженная в шелк, в кружева и бархат, молодежь засуетилась. Все толпятся, указывают на седых и дряхлых, но еще бодрившихся старцев, которые почти одновременно появляются в глубине гостиной. То были возвращенные ссыльные — Миних из Костромы, Лесток из Углича и Бирон из Ярославля. Толпа расступилась. Ломоносова оттерли в простенок к окну.
Восьмидесятилетний, высокий, с остатками былой величавости и красоты, Иоганн Бурхгардт, или, как его именовали русские, Иван Богданыч Миних, возвратился из Сибири в феврале. Седоволосый, но еще румяный, раздушенный и крепкий здоровьем селадон будто и не был в двадцатилетней ссылке. Об руку с легкомысленной и красивой Еленой Степановной Куракиной и молодою графиней Брюс, он не перестает куртизанить, как куртизанил в царствование Анны Ивановны, целует ручки восхищенных его вниманием очаровательниц, острит и морщится при виде казарменно-вахмистерских лиц и ухваток, составлявших принадлежность новых дворских сфер.
Поодаль от него — семидесятилетний, сосланный этим Минихом, недавний «бич России» — изъеденный геморроидами, на тоненьких, подагрических ножках, с потускнелыми черными «страшливыми» глазами, герцог Эрнст Бирон. Возвращенный из ссылки в марте, он идет с хозяйкой, баронессой Фитингоф, брезгливо оттопырив твердую, мясистую нижнюю губу, искоса, несмело из-под отяжелевших век поглядывая по сторонам и судорожно подергивая большой, точно из гранита изваянной, сухой, холодной и жесткой головой…
Сзади них, прощенный еще в декабре, в оливковом бархатном кафтане и в неряшливом, всклокоченном, напудренном парике, скрюченный годами, бедностью и всякими разочарованиями, беззубый, осыпанный нюхательным табаком, хвастливый враль и медный лоб, смелый и наглый авантюрист Лесток.
— Встречаю шестое благополушне царствование — гм! — в благополушня Рюси… — острил он, хихикая и шаркая бархатными штиблетами перед разряженными старухами, некогда первыми красавицами елисаветинского двора.
Ломоносов не верил своим глазам. На него как бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось. Он смутно вглядывался в живых, но точно молью и тлением тронутых грозных старцев, некогда двигавших судьбами России.
«Былые боги немцев на Руси! — так вот они, прощены!. стадо лютых волков… А нашего-то горетовского ссыльного, Бестужева, и забыли! — мыслил он, притиснутый к окну. — Бирон! Вижу наконец вблизи этого брюхатого, жадного и злого курляндского паука, в оны скорбные дни упивавшегося кровью тысяч русских… А этот, раздавивший и пожравший земляка-друга, старый интриган Миних?.. Памятно ль им ненавистное выражение «слово и дело» и нежданная встреча их на станции, когда одного мчали в Сибирь, а другого, сосланного им, из Сибири? Вон раскланиваются, комплименты говорят, потчуют друг друга табаком и оба воротят носы от сквернавца-француза Лестока, точно от него и взаправду пахнет кровью замученной фамилии Ивана Антоновича…»
Стали приливать новые гости.
Бирон, шаркая исхудалыми, неверными ножками и подергивая каменной головой, вмешался в толпу. Миних также хотел пройти в следующую гостиную, но его окружила новая волна дам. И опять его зоркие, сторожкие, улыбающиеся глаза блеснули остротой. Он поднял руку с лорнетом, что-то вполголоса нашептывает Куракиной.
— Да полноте, Иван Богданыч! Ах, ах, ваше сиятельство! Ну, что это вы! — ударяя его веером по руке, смеется счастливая его вниманием Елена Степановна.
«Двадцать лет назад, — подумал Ломоносов, — я стоял в толпе народа, меж Академией и коллегиями, а он, этот беспечный, твердый Миних, высился во весь рост у плахи, рядом с палачом. На нем был красный фельдмаршальский плащ, лысая голова была обнажена, а на дворе стоял трескучий мороз. Выслушав смертный приговор к четвертованию, он шутил с солдатами. «Что, батенька, холодно? — сказал он с улыбкой, сходя с эшафота, полузамерзшему полицейскому офицеру. — Шнапсику бы теперь, — адмиральский час!» Да, это будет надежнейший оплот Петра Федоровича».
Гром музыки в цветочной галерее и новое движение пестрой веселой толпы прервали мысли Ломоносова. Он направился к танцующим.
— Господа, кто желает курить, в кабинет или к китайской беседке! — говорил мужчинам по-немецки и по-французски барон Иван Андреевич Фитингоф.
В кабинете толковали о недовольстве Франции и Австрии, о предстоящей войне с Данией. Слышалась одна немецкая речь, вперебивку с голштинскими поговорками.
— А знаете, как Нарышкин получил андреевскую ленту? — произнес кто-то в углу. — Надел ее шутя, вышел в приемную, а потом докладывает государю: «Совестно, позвольте не снимать — все засмеют».
— Ха-ха-ха! — отзывались важные слушатели.
Часть гостей двинулась в сад, к освещенной фонариками китайской беседке.
— Где канцлер? — спросил Ломоносов, встретясь в цветочной с бывшим государевым учителем, академиком Штелином.
— На что тебе? Путь в Индию все думаешь затевать? Не тебе чета был великий Петр, и тот провалился.
— Не при пустоши. Перемолвить надо об одном молодом человеке.
— Ищи в саду, в буфете. Никогда Михайло Ларионович не курил, а теперь, представь, и он модным человеком быть хочет.
— Не укажешь ли, кстати, обер-кригс-комиссара Цейца? — прибавил Ломоносов.
— Этот вашей милости для чего? — спросил с улыбкой распомаженный и чистенький, как сахарная куколка, Штелин. — Вон он, видишь, высокий, у двери, с плюмажем… Не поэму ли или оду в честь голштинцев изволил, Михай-ло Васильевич, скомпоновать?
— Вздор городишь! — сердито ответил, отвернувшись от коллеги, Ломоносов.
Он подошел к Цейцу, с достоинством отрекомендовался и, для вящего успеха, заговорил с ним о Мировиче по-немецки. Грубый, чопорный и совершенно глупый Цейц внимательно выслушал знаменитого просителя, тревожно задвигал густыми, русыми бровями и, думая по-немецки, ответил на ломаном русском языке:
— Вы долг слушебна не знаете, вы диссиплин, извините, не понимаете, а потому… потому отказом не обишайтесь… Bitte um Verzeihung![227] — Сказав это, тощий и длинный, как шест, государев ордонанс угловато и сухо склонил набок костлявый стан, щелкнув огромными шпорами, и молча, покачиваясь, отошел к кружку других генералов.
«Тьфу ты, немецкая, гнусная тварь! — чуть не вслух произнес Ломоносов. — Еще наставления, пакостная тараканья моща, делает! Знал бы — и не просил!»
Но оставалось еще ходатайство о Фонвизине. Михайло Васильевич пошел отыскивать канцлера Воронцова.
Вместо дороги к беседке вправо, Ломоносов с балкона взял влево и попал в малоосвещенную глубь сада. Здесь была полная тишина. Дорожки меж высоких деревьев сходились в извилистый, хитро переплетенный лабиринт.
В конце сада, за прудом, на перекрестке двух аллей, стояла старая развесистая липа.
Под липой, на скамьях, вокруг простого некрашеного стола, сидели трое из гостей. Их трубки вспыхивали в темноте, как волчьи глаза. Четвертый, разговаривая, медленно прохаживался перед ними. Им было видно всякого, кто шел от дома. Их можно было разглядеть только вблизи. Они удалились сюда и для беседы наедине, и для освежения на чистом воздухе, увлажаемом близостью темного, покрытого легким белым паром пруда. Двое из них, на мировой во дворце, для виду, на днях взялись за бокалы. Но едва государь отвернулся, они разошлись и не захотели пить друг за друга. Здесь они были, по-видимому, друзьями.
— Государь очень недоволен супругой, очень! — сказал по-французски, остановившись у стола, Воронцов. — Все тормозится от этой размолвки; фуражный подряд для похода не роздан до сих пор… поставщики потеряли головы…
Старчески ворчливый хрип и покряхтывание отозвались в ответ на эти слова. Все под липою опять замолкло.
— Куда идем? Чего ждать? — продолжал то по-французски, то по-русски великий канцлер. — Прихода ожидается пятнадцать миллионов, расхода шестнадцать с половиной. Чем покрыть дефицит в полтора миллиона? И тут эта война с Данией! Всюду ропот! В собственной фамилии государь отнюдь не ассюрирован. Ни о чем нельзя просить, не на что надеяться…
— Племеннис ваша, Элиза Романовна, утешит его! — ответил по-русски, попыхивая из витой трубки, Лесток. — Женушка будет, обвеншался можно тихим маньер…
— Опасно! — сказал Воронцов. — В марьяж играть — не в дурачки… Не простят нам того наши персональные враги… И без того супцонируют… Положим, племянница моя так близка государю… Но за Екатерину Алексеевну — шутка ли — гвардия, народ… везде неспокойно, подглядывают, следят…
— Постричь немножко!.. — в монастырь на хлеб и вода! — прошамкал сквозь зубы былой пособник императрицы Елисаветы, также когда-то выехавший на монастыре. — Пусть узнает пословно — как это? как?. вот тебе, бабушка, Юрич день…
— Жаль, жаль бедную! — сказал с сильным немецким акцентом Миних. — Она грациозна, деликатен так, тиха… Плутарх шитает, хронику от Тасит, энсиклопедию Бель и Вольтер… Разумна головушка…
— Каприжесна и лукав! — презрительно и грубо проворчал третий собеседник, молча сидевший па скамье. — Реб?ллы и конспират?ры! Машкарат!.. бабе спустил, сам бабам будешь…
— Но что же, ваше высочество, делать? — обернувшись на голос этого третьего, мягко спросил Воронцов. — Dites-le au nom do Dieu! votre exp?rience et puis…[228] ваша опытность и предусмотрительность…
— Аррест и вешна каземат! — прозвучал железный голос из темноты.
— Mais… excellence, ?coutez![229] кто нас заверит? Из тюрьмы ведь люди тоже выходят, — возразил Воронцов, — а заключенного — сколько примеров? — могут отбить из-под всяких закреп и замков…
— Метод есть кароша другой! — отозвался тот же голос из-под дерев.
— Какой? — спросил с невольною дрожью канцлер.
— Плаха и топор! — кругло и уж совершенно по-русски выговорил Бирон.
По аллее, за ближними кустами, послышались шаги. Воронцов оглянулся, состроил лицо на ласковый, добродушный вид и беспечной развальцой пошел навстречу давнему приятелю Ломоносову.
Они остановились поодаль от липы. Канцлер нетерпеливо и рассеянно вертел в руках табакерку. Ломоносов, видя его смущенное и как бы провинившееся лицо, подумал: «Уж не пройти ли мимо? какой-то секретный тут консилиум… Нет, нечего терять времени».
Он пересилил себя и в кратких словах передал канцлеру просьбу о студенте Фонвизине.
— Все тот же мечтатель, добряк и хлопотун за других! — утирая лицо и сморщившись, сказал Воронцов. — Рад тебя, дружище, видеть, рад! давно пора явиться… Но время ли, батенька, согласись, об этом теперича, да еще на балу? Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готов, но… смилуйся, Михаил Васильич, посуди сам…
— Я, ваше сиятельство, домосед, берложный медведь, не шаркун, — с зудом в горле, сжимая широкие руки, сердито пробурчал Ломоносов, — но вас, дерзаю так выразиться, на этот раз трудить моей докукой не перестану…
— Но, cher ami[230] и тезка! ваканции в коллегии нонче нетути. Образумься, пощади! И высшие рангами, смею уверить, как след не обнадежены… Куда я заткну твоего протеже? Чай, лоботряс, мальчонка-шатун, матушкин московский сынок?
— Не лоботряс, государь мой, — обидчиво ответил Ломоносов, — а за шатунов я отродясь просителем еще не бывал. Место переводчика прошу я, граф, этому студенту. Он басни Гольберга перевел, Кригеровы сны, «Альзиру» Вольтера… И первая книга издана в Москве коштом благотворителей… Усердные к наукам у нас не знают, как им и ухватиться. И я прямо скажу — таковыми людьми, а особливо русскими, в отвращение вредительных толков и факций брезгать бы не следовало…
— Вредительные факции и толки! Бог мой! — досадливо перебил Воронцов, оглядываясь к липе, где впотьмах, как глаза шакалов, по-прежнему вспыхивали трубки оставленных им собеседников. — Ecoutez, mon brave et honorable ami![231] правду-матку отрежу… О ком ты говоришь! О каком-то студентишке, о мизерном писце каких-то там книжонок, не больше… Ну, стоит ли! И вдруг вспылил! И все эвто ваша запальчивость! До того ли нам теперича? То ли у всех на уме? Впрочем, изволь, — прибавил он, подумав, — разве сверх штата и без жалованья, да и то пусть прежде выдержит при коллегии экзамент…
— Но, милостивый государь мой, — потеряв терпение, возвысил голос Ломоносов, — где видано?.. Он московский, словесной и философской факультеты студент… а немцев у вас принимают!.. Да когда же наконец столь роковой и пагубной слепоте увидим мы конец?
Он не кончил. С пруда, с громким свистом, взвилась ракета. По берегу вспыхнуло несколько разноцветных огней. Дверь на балкон из цветочной распахнулась настежь. Грянул голштинский, с барабанами и трубами, марш. И сквозь искры шутих и бураков было видно, как впереди блестящей военной свиты, на крыльце, рядом с Гудовичем, в белом с бирюзовыми обшивками голштинском мундире, с аксельбантом и эполетом на одном плече, показался император.
— Так как же, граф? Будет ли наконец уважено? — надвинувшись плечом на растерявшегося Воронцова, спросил Ломоносов.
— Ах, батенька! точно Цицерон: quousque tandem?[232] недостает еще Катилины! — торопливо, трусцой исчезая в боковой аллее, проговорил великий канцлер. — Коли согласны, экзамент и сверх штата…
— Гунсвоты! Каины! — проворчал взбешенный Ломоносов, шагнув за ним, и чуть впотьмах не задел парик Ле-стока. — Этакого юноши и не оценить… Рвань поросячья! Куда ни глянешь, одна рвань…
— Quel mot de chien![233] — послышалось под липой.
— Ребеллы и конспираторы! nichts weiter![234] — презрительно заключил, вставая на жиденьких, трясущихся ножках, герцог Бирон. — Бедне России конец… punktum!..[235]
Ломоносов завидел в гущине березок китайскую беседку. Здесь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотреть фейерверк. Михайло Васильевич присел к столику. Нервная дрожь его не покидала. Он сидел без мысли, без движения, прислушиваясь к музыке и к одобрительным возгласам толпы, смотревшей на иллюминацию.
«Боже-господи! да что же это? — сказал он себе. — Куда я попал? И нужно было мне лезть сюда!»
Он вышел из беседки.
Первая часть фейерверка была кончена. Танцы в доме возобновились. Освеженные на воздухе, дамы и мужчины возвращались веселыми группами в комнаты. Готовились начать бесконечный, так называемый «саксонский», или нарышкинский, гросфатер.
Цветочная галерея была переполнена. С приездом государя для танцев отворили новую, запасную, надушенную куреньями залу. Ломоносов, мимо напудренных, в цветах и жемчуге женских голов, мимо гвардейских мундиров, эполетов и палашей, тоненьких, в длинных перчатках, девичьих рук и низко обнаженных, пышных дамских плеч и спин, боком протиснулся в эту залу. Он еще раз хотел найти Цейца и, при помощи гетмана, президента Академии, уговорить его оказать хоть какое-либо внимание Мировичу.
Суета и давка, предшествовавшие любимому, всех увлекавшему танцу, отодвинули Михайлу Васильевича к трельяжу из цветов. За перегородкой в оркестре он увидел перед пюпитром, со скрипкой в руке, императора.
Петр Федорович, ладя струны и чему-то громко, беззастенчиво смеясь, разговаривал с баронессой Фитингоф. Под руку с нею, обмахиваясь веером, стояла среднего роста, полная, прозванная городскими остряками «трактирщицей» — Лизавета Воронцова. Лев Александрович Нарышкин, в бархатном, вишневого цвета кафтане, с андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицах, суетился, бегал, останавливался, махал платком и опять бегал, устраивая танец, в музыке которого вызвался принять участие государь.
«Они веселятся, — сказал себе Ломоносов, — фаворитка у всех на виду, все ей поклоняются, льстят… А она, Екатерина Алексеевна, умница моя, прячется, книги читает, навещает свежую могилу покойной императрицы… Сегодня я встретил ее… В трауре, в плерезах и в печальной, точно монашеской, шапочке, ехала в дрожках молиться в крепость…»
На другом конце залы внимание Ломоносова привлекло бледное, строгое, встревоженное лицо сухощавой, стройной девушки.
Опершись на руки другой, румяной и веселой, и как бы окаменев, она, с вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робких, молящих глаз с государя. Перед ней в белом доломане, с барсовым мехом на плече, стоял лихой польский гусар, родич Радзивилла, Собаньский. Улыбаясь, он давно ей что-то говорил, очевидно приглашая ее на гросфатер. Но вот она опомнилась, подала руку, обернулась к подруге. Что-то знакомое встретилось Ломоносову.
«Где я ее видел, или кто мне о ней говорил? — подумал Михайло Васильевич. — Лицо вижу как бы впервые, а между тем… точно где-то ее встречал!.. Мушки и ямочки на щеках, серые, как у сфинкса, миндалиной, будто бесстрастные глаза, — и сколько в них вдумчивости, тайны и глубины… Тафтяной палевой роброн, низан перлами, алый бархатный камзольчик и коралловые браслеты — склаваж… Жениховы заграничные презенты… Бавыкина их показывала… Неужели ж это невеста Мировича — Пчелкина!.. Он ее так описывал… Но она была в Шлиссельбурге… Как же и с кем попала сюда? Вот случай… может сообщить о нем».
Гром музыки прервал мысли Ломоносова.
Вертящийся гросфатер оттеснил его к оркестру. На толстых, упругих, обтянутых в белый шелк икрах, во главе пестрой вереницы, плыл, отбивая хитрые батманы и пируэты, Нарышкин.
— Веселимся, — сказал он кому-то близ Ломоносова, качнув головой.
«Веселимся», — подтвердили глаза его и прочих танцующих, легким роем пролетавших мимо оркестра.
Не успел Михайло Васильевич посторониться, опомниться, не успел взглянуть в ту сторону, куда упорхнула с гусаром худощавая стройная девушка, как его обдали волны зеленой, с золотыми блестками, кисеи, и он почувствовал запах горошка и резеды. Перед ним, с головными уборами в виде корзин цветов, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая Лизавета Романовна Воронцова. Баронесса представила его последней.
— Давно, давно наслышались, — несколько грубым голосом и нараспев обратилась к нему по-русски фаворитка. — Что пишете, Михайло Васильич?
Кровь бросилась в голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексеевна, на дрожках, в трауре.
— Ничего не пишу… болен был, — ответил он с судорогой в горле.
— Быть того не может! Что ж замолкла, никуда не является ваша муза?
— Юбка у ней кургуза, — думая, что говорит про себя, вслух сказал Ломоносов.
Обе дамы с удивлением взглянули ему в лицо.
— Мы читали вашего «Кузнечика», — сказала, желая его задобрить, баронесса. — Voil? un vrai g?nie… d?li-cieux![236]
— Если б я был, сударыня, стрекозой, — произнес, насупясь, Ломоносов, — я бы давно ускакал отсель, скрылся бы в глушь, в бурьян…
— Ни одной оды, помилуйте! — жеманясь, вертясь и оглядываясь по сторонам, продолжала, тоном капризной властительницы, избалованная фаворитка. — Были ведь какие торжества! Мир с Пруссией, фейерверки, спуски кораблей… Вы же стихотворец, академик…
— На то есть другие, — еще грубее, с дрожаньем губ и рук, пробурчал Ломоносов, — напишет сахарный Штелин, переведет Барков… его ж, кстати, посадили и в дессиянс-академию, другим назло…
Кто-то выручил дам. Они отошли, пожимая плечами.
— Неуч, грубиян, и все тут! — с тревогой прошептала Воронцова.
Александр Пушкин
Евгений Онегин
Отрывок из романа
Глава перваяXXVБыть можно дельным человекомИ думать о красе ногтей;К чему бесплодно спорить с веком?Обычай деспот меж людей.Второй Чадаев, мой Евгений,Боясь ревнивых осуждений,В своей одежде был педантИ то, что мы назвали франт.Он три часа по крайней мереПред зеркалами проводилИ из уборной выходилПодобный ветреной Венере,Когда, надев мужской наряд,Богиня едет в маскарад.XXVIВ последнем вкусе туалетомЗаняв ваш любопытный взгляд,Я мог бы пред ученым светомЗдесь описать его наряд;Конечно б это было смело,Описывать мое же дело:Но панталоны, фрак, жилет,Всех этих слов на русском нет;А вижу я, винюсь пред вами,Что уж и так мой бедный слогПестреть гораздо б меньше могИноплеменными словами,Хоть и заглядывал я встарьВ Академический словарь.XXVIIУ нас теперь не то в предмете:Мы лучше поспешим на бал,Куда стремглав в ямской каретеУж мой Онегин поскакал.Перед померкшими домамиВдоль сонной улицы рядамиДвойные фонари каретВеселый изливают светИ радуги на снег наводят;Усеян плошками кругом,Блестит великолепный дом;По цельным окнам тени ходят,Мелькают профили головИ дам, и модных чудаков.XXVIIIВот наш герой подъехал к сеням;Швейцара мимо он стрелойВзлетел по мраморным ступеням,Расправил волоса рукой,Вошел. Полна народу зала;Музыка уж греметь устала;Толпа мазуркой занята;Кругом и шум и теснота;Бренчат кавалергарда шпоры;Летают ножки милых дам;По их пленительным следамЛетают пламенные взоры,И ревом скрыпок заглушенРевнивый шепот модных жен.XXIXВо дни веселий и желанийЯ был от балов без ума:Верней нет места для признанийИ для вручения письма.О вы, почтенные супруги!Вам предложу свои услуги;Прошу мою заметить речь:Я вас хочу предостеречь.Вы также, маменьки, построжеЗа дочерьми смотрите вслед:Держите прямо свой лорнет!Не то… не то, избави боже!Я это потому пишу,Что уж давно я не грешу.XXXУвы, на разные забавыЯ много жизни погубил!Но если б не страдали нравы,Я балы б до сих пор любил.Люблю я бешеную младость,И тесноту, и блеск, и радость,И дам обдуманный наряд;Люблю их ножки; только врядНайдете вы в России целойТри пары стройных женских ног.Ах! долго я забыть не могДве ножки… Грустный, охладелый,Я всё их помню, и во снеОни тревожат сердце мне.……………………………………………………
Глава пятаяXLВ начале моего романа(Смотрите первую тетрадь)Хотелось вроде мне АльбанаБал петербургский описать;Но, развлечен пустым мечтаньем,Я занялся воспоминаньемО ножках мне знакомых дам.По вашим узеньким следам,О ножки, полно заблуждаться!С изменой юности моейПора мне сделаться умней,В делах и в слоге поправляться,И эту пятую тетрадьОт отступлений очищать.XLIОднообразный и безумный,Как вихорь жизни молодой,Кружится вальса вихорь шумный;Чета мелькает за четой.К минуте мщенья приближаясь,Онегин, втайне усмехаясь,Подходит к Ольге. Быстро с нейВертится около гостей,Потом на стул ее сажает,Заводит речь о том о сем;Спустя минуты две потомВновь с нею вальс он продолжает;Все в изумленье. Ленский самНе верит собственным глазам.XLIIМазурка раздалась. Бывало,Когда гремел мазурки гром,В огромной зале все дрожало,Паркет трещал под каблуком,Тряслися, дребезжали рамы;Теперь не то: и мы, как дамы,Скользим по лаковым доскам.Но в городах, по деревнямЕще мазурка сохранилаПервоначальные красы:Припрыжки, каблуки, усыВсё те же: их не изменилаЛихая мода, наш тиран,Недуг новейших россиян.XLIII. XLIVБуянов, братец мой задорный,К герою нашему подвелТатьяну с Ольгою; проворноОнегин с Ольгою пошел;Ведет ее, скользя небрежно,И, наклонясь, ей шепчет нежноКакой-то пошлый мадригал,И руку жмет — и запылалВ ее лице самолюбивомРумянец ярче. Ленский мойВсе видел: вспыхнул, сам не свой;В негодовании ревнивомПоэт конца мазурки ждетИ в котильон ее зовет.XLVНо ей нельзя. Нельзя? Но что же?Да Ольга слово уж далаОнегину. О боже, боже!Что слышит он? Она могла…Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,Кокетка, ветреный ребенок!Уж хитрость ведает она,Уж изменять научена!Не в силах Ленский снесть удара;Проказы женские кляня,Выходит, требует коняИ скачет. Пистолетов пара,Две пули — больше ничего —Вдруг разрешат судьбу его.
Михаил Загоскин
Два московских бала в 1801 годуНа другой день поутру Двинский поехал делать визиты, а я отправился смотреть Москву. Я воротился домой ровно в два часа и, к крайнему моему удивлению, узнал, что меня давно уже дожидаются к обеду. За столом Двинский объявил мне, что я буду вечером на двух балах: во-первых, у Катерины Львовны Завулоновой, а потом у графа О***.
— У Катерины Львовны немножко тесненько, — сказал мой приятель, — домик небольшой; но она такая милая, умная женщина! Вся Москва ее любит и уважает. У нее чрезвычайно обширное знакомство, и хотя она сама принадлежит к лучшему здешнему кругу, но ты встретишь у нее образчики почти всех здешних обществ. Мы поедем к ней часу в восьмом, пробудем до девятого и отправимся к графу; там ты увидишь всю московскую аристократию. Сам хозяин в мундире и во всех орденах, разумеется, и все гости также в мундирах; однако ж это нимало не мешает веселиться не только молодым, но даже и весьма пожилым людям, из которых многие так-то выплясывают матрадуры да экосезы, что любо-дорого посмотреть. Вот припомни мои слова: когда станут танцевать алагрек, так в первой паре непременно будет кавалер в ленте и звезде. Нет, мой друг, у нас в Москве не то, что у вас: у нас старики подают пример молодым, как веселиться. Да зато уж мы и веселимся не по-вашему.
— Правда! — промолвила тетушка. — В Москве как начнут веселиться, так некогда и лба перекрестить! А коли придет желание Богу помолиться, так наша матушка-Москва и на это хороша. Святой город, батюшка!.. Была бы только охота, а то и в Киев незачем ехать.
Мы отправились с Двинским ровно в семь часов и приехали почти в половине восьмого к Катерине Львовне Завулоновой. Мы сбросили наши шинели в передней и продрались кой-как сквозь толпу лакеев, из которых иные были навьючены, как верблюды, салопами и шубами своих господ. В небольшой зале, освещенной сальными свечами, танцевали круглый польский. С величайшим трудом пробираясь подле самой стенки, дошли мы наконец до хозяйки дома. Двинский меня представил. Катерина Львовна наговорила мне тьму приятных вещей и, надобно сказать правду, в несколько минут очаровала меня совершенно своей любезностью и милым обращением. Между тем польский кончился и музыканты заиграли экосез; прежде чем мы с Двинским отыскали себе танцовщиц, во всю длину залы вытянулись уже два фронта, один из кавалеров, а другой из дам, и нам решительно негде было приютиться. В эту самую минуту подбежал к хозяйке довольно рослый горбун в полосатом сюртуке.
— Катерина Лимоновна, — сказал он, — Катерина Лимоновна, посмотри, как я отхватываю лакесею!
И с этим словом, припевая под музыку какие-то не слишком пристойные рифмы, он ворвался в средину экосеза и пустился догонять вприсядку первую пару, которая сходила вниз.
— Что это, братец, такое? — сказал я, не веря глазам своим.
— Это Федька Горбун, — отвечал весьма хладнокровно Двинский. — Он один из самых знаменитых московских дураков — преумная бестия!.. Однако здесь становится очень душно; пойдем в другие комнаты.
Мы вошли в первую гостиную, в которой было так же тесно, потому что столах на пяти играли в бостон. Подле одного из играющих, толстого барина с Владимирским крестом на шее, стояла дама лет тридцати, одетая не только без всяких претензий, но даже с каким-то неряшеством. В ее грубом и мужиковатом голосе не было ничего женского, точно так же, как и в продолговатом лице, которого резкие черты выражали, однако ж, какое-то добродушие. В ту минуту, как мы вошли в гостиную, она говорила толстому барину:
— Врешь, врешь, князь, давай синенькую!
— Да у меня, кажется, нет мелких, — проговорил толстый барин, раскрывая нехотя свой бумажник.
— Все равно, я сдам!.. Да вот синенькая, давай ее, давай!.. А, Иван Андреевич! — продолжала она, увидев Двинского. — Какими судьбами?
— Вчера приехал из Петербурга, — отвечал мой приятель, поцеловав с большим почтением ее вовсе не прелестную ручку.
— Полно, полно врать: чай, недели две живешь в Москве, а ко мне глаз не покажешь! Хорош, батюшка, очень хорош!
— Право, я вчера только приехал; спросите у тетушки.
— Ну, добро, добро! Бог тебя простит!.. Давай синенькую!.. Для бедной вдовы… пятеро детей… есть нечего; жалость такая, что не приведи господи!
— Позвольте уж мне предложить вам десять рублей, — сказал Двинский, подавая ей красную ассигнацию.
— Спасибо, мой отец, спасибо! — проговорила барыня, поклонясь в пояс Двинскому. — Вот это Бог тебе зачтет! Это уж, батюшка, истинно добровольное подаяние!
«Да, — подумал я, — по русской пословице: добровольно, наступя на горло».
— Э, — вскричала барыня, — да вон, кажется, Ведеркин!.. С него можно и беленькую слупить — откупщик! Чай, так-то разбавляет свое вино водицею!.. Прокофий Сергеич!.. Прокофий Сергеич!..
Но догадливый откупщик как будто бы не слышал и спешил продраться в залу, чтобы как-нибудь улизнуть от этой сборщицы добровольных подаяний. Она пустилась за ним в погоню, а мы пошли далее.
— Что это за строгая барыня? — спросил я у Двинского.
— Это очень известная дама, Настасья Парменовна Нахрапкина; ее знает вся Москва.
— Ну, мой друг, если у вас много таких дам…
— А что? Тебе не нравится ее слишком простодушный тон?.. Да на это никто не обращает внимания, все к этому привыкли. Конечно, она походит несколько на переодетого мужчину, не слишком вежлива и коли примется кого-нибудь отрабатывать, так я тебе скажу!.. Но, несмотря на это, женщина предобрая и, если надобно бедному помочь или оказать услугу кому бы то ни было, знакомому или незнакомому, всегда первая.
Пройдя вторую гостиную, мы остановились в дверях небольшого покоя, который, вероятно, по случаю бала превратился из спальни в приемную комнату. Посреди этой комнаты стоял минный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие блестящие безделушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудреной головою, в черном фраке и шитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная, и, судя по его благородной и даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок, Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам, одной — золотое колечко с бирюзою, а другой — небольшое черепаховое опахало с золотой насечкой; третья, барышня лет семнадцати, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала:
— Вот возьмите! Маменька позволила мне променять мои серьги. Только, воля ваша, вы много взяли придачи — право, десять рублей много!
— Ну, вот еще много! — прервал купец. — Да твои-то сережки и пяти рублей не стоят.
— Ай, что вы, князь! — возразила барышня. — Да я за них двадцать пять рублей заплатила.
— Князь! — повторил я шепотом.
— Да, Богдан Ильич, — сказал мне на ухо Двинский. — Это отставной бригадир князь Н***. Он промотал четыре тысячи душ наследственного именья и теперь видишь, чем промышляет. Ты будешь часто встречать его сиятельство с этим же самым подвижным магазином; с некоторого времени он сделался почти необходимой принадлежностью всех балов.
— Ну, какие я вижу у вас чудеса!
— И, мой друг, да это что еще! Посмотрел бы ты наши гулянья, а особливо лет десять тому назад. Этот бедный князь торгует поневоле, а там по собственной охоте выкидывают иногда такие балаганные штуки, что глазам своим нe веришь. Вот, например, известный богач Д*** выехал однажды в таком экипаже, что уж подлинно ни пером описать, ни в сказке рассказать, — все наперекор симметрии и здравому смыслу: на запятках трехаршинный гайдук и карлица, на козлах кучером мальчишка лет десяти, а форейтором старик с седой бородой; левая коренная с верблюда, правая с мышь. Другой барин не покажется на гулянье иначе, как верхом, с огромной пенковой трубкой, а за ним целый поезд конюхов с заводскими лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цветными попонами. Третий не хочет ничего делать, как люди: зимою ездит на колесах, а летом на полозках; четвертый… Да где перечесть всех наших московских затейников. Воля, братец!.. Народ богатый, отставной; что пришло в голову, то и делает. Но вот, кажется, первый экосез кончился; пойдем скорей ангажировать дам на второй. Через полчаса нам должно ехать, так третьего не дождемся; а ведь, право, неловко, если ты для первого раза вовсе танцевать не станешь.
Мы пошли опять в залу, протанцевали один экосез, потом отправились втихомолку и через четверть часа попали в «веревку», то есть в длинный ряд экипажей, который начинался за полверсты от дома графа О***. Вот наконец дошла и до нас очередь. Я воображал, что увижу огромные каменные палаты, а вместо этого мы подъехали к большому деревянному дому вовсе не красивой наружности. Внутренность его также не ослепила меня своим великолепием. Конечно, комнаты были просторны и отделаны богаче, чем в доме Катерины Львовны Завулоновой, но зато они почти все были обезображены огромными изразцовыми печами самой старинной и неуклюжей формы. Бесчисленное множество слуг, и богато и бедно одетых, рассыпано было по всему дому. В танцевальной зале, также не очень великолепной, но довольно обширной, гремела музыка. Мы нашли в этой зале почти всех гостей и самого хозяина, который в полном мундире и во всех орденах своих сидел посреди первых сановников и почетных московских дам.
Этот аристократический круг, эти кавалерственные дамы и седые старики в лентах и звездах, эта толпа молодых людей, которые, всe без исключения, были в мундирах, — все это вместе придавало какой-то важный и торжественный вид балу, который во всех других отношениях, конечно, не мог бы назваться блестящим. Двинский подвел меня к хозяину; он обошелся со мной очень просто, но с большой ласкою и радушием; просил веселиться, танцевать и ездить к нему без всякого зова по всем понедельникам. Чтобы не ввести в слово моего приятеля, который рекомендовал меня отличным дансером всем своим кузинам, а их было у него с полсотни, я принялся прыгать с таким усердием, что под конец совсем выбился из сил. После ужина, который, если сказать правду, отличался только великолепным серебряным сервизом да полнотой и обилием блюд, музыка опять заиграла, и начался бесконечный алагрек. Я не участвовал в этом последнем танце и присел отдохнуть недалеко от хозяина. Вот проходит полчаса, алагрек все продолжается; одна фигура сменяет другую, и кавалер первой пары, несмотря на то, что ему гораздо за пятьдесят, кажется, решительно не знает усталости; вот он начинает пространную фигуру, что-то похожее на хороводную потеху «Заплетися, плетень», — все пары перепутываются, подымаются суматоха, хохот, беготня — и что ж?.. В самую минуту этого танцевального разгула вдруг хозяин привстал и закричал громовым голосом: «Гераус!», то есть: «Вон!» Музыка остановилась, кавалеры раскланялись с дамами, и в две минуты во всей зале не осталось ни одного гостя. Я до того был поражен таким неожиданным заключением бала, что не вдруг опомнился, вышел из залы последний и с трудом отыскал Двинского в толпе гостей, которые теснились в официантской комнате и передней.
— Что это, братец? — сказал я. — Так этак-то у вас провожают гостей?.. Ну!!!
Двинский улыбнулся.
— Надеюсь, — продолжал я, — в следующий понедельник хозяину угощать будет некого.
— Право? — сказал Двинский. — Не хочешь ли побиться об заклад, что все гости, которых ты видел сегодня, приедут опять сюда на будущей неделе?
— Как? После такой обиды?
Двинский засмеялся.
— Обиды! — повторил он. — Ох вы, петербургские! Да чем тут обижаться? Все знают, что добрый хозяин рад своим гостям, а это уж у него такая привычка: у него почти все балы так оканчиваются; иногда он закричит «гераус», а в другое время протрубит на валторне, что также значит «ступайте вон». Я уверяю тебя, что за это на него никто не сердится.
— Не может быть!
— Да посмотри вокруг себя: ну, видишь ли ты хотя одно недовольное лицо?
В самом деле, ни на одном лице не заметно было не только досады, но даже удивления; все казались и веселы и спокойны, как будто бы не случилось ничего необыкновенного. Меж тем закричали нашу карету, мы сбежали с лестницы, сели и отправились домой.
Вот, любезные читатели, самый верный очерк двух московских балов, на которых я танцевал тому назад с лишком сорок лет. Хотя в этом рассказе я не позволил себе ни малейшего отступления от истины, хотя в нем все от первого до последнего слова совершенная правда, но эта правда так походит на вымысел, что я вовсе не удивлюсь, если никто из нового поколения московских жителей не даст веры моим словам. Не странно ли после этого встречать людей, которые воображают, что Москва до сих пор еще сохранила эти простодушные нравы, невежественные причуды и безвкусную роскошь, которые, с примесью какого-то собственного московского европеизма, составляли некогда отличительные черты ее прежней, хотя не очень красивой, но зато решительно самобытной физиономии.
Евгений Баратынский* * *Блистает тысячью огнейОбширный зал; с высоких хоровГудят смычки; толпа гостей;С приличной важностию взоров,В четках узорных, распашных,Ряд пестрый барынь пожилыхСидит. Причудницы от скукиТо поправляют свой наряд,То на толпу, сложивши руки,С тупым вниманием глядят.Кружатся дамы молодые,Пылают негой взоры их;Огнем каменьев дорогихБлестят уборы головные.По их плечам полунагимЗлатые локоны летают;Одежды легкие, как дым,Их легкий стан обозначают.Вокруг пленительных ХаритИ суетится и кипитТолпа поклонников ревнивых;С волненьем ловят каждый взгляд:Шутя несчастных и счастливыхИз них волшебницы творят.В движенье все. Горя добитьсяВниманья лестного красы,Кавалерист крутит усы,Франт штатский чопорно острится.
Лев Толстой
Война и мир
Отрывок из романа-эпопеи
Том I
XVIIПьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь глазами и краснея, сказала:
— Мама велела вас просить танцевать.
— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем…
И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.
Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива: она танцевала с большим, с приехавшим из-за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.
— Какова? какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.
Наташа покраснела и засмеялась.
— Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного.
В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом — оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкой, и, как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:
— Семен! Данилу Купора знаешь?
Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза.)
— Смотрите на папа! — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.
Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.
— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.
Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и прито-пываньях производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцора остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.
— Вот как в наше время танцевали, mа сheге, — сказал граф.
— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.
Том II
XIIУ Иогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих adolescentes[237], выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами adolescentes и adolescents[238], танцевавшие до упаду; это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслию снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и те еще более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей; было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться, как хотят этого тринадцати— и четырнадцатилетние девочки, в первый раз надевающие длинные платья. Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими: так восторженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже pas de ch?le лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своею грациозностью; но на этом, последнем бале танцевали только экосезы, англезы и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Иогелем в доме Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, и Ростовы барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы в этот вечер. Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью.
Наташа, не менее гордая тем, что она в первый раз была в длинном платье, на настоящем бале, была еще счастливее. Они были в белых кисейных платьях с розовыми лентами.
Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена.
— Ай, как хорошо! — все говорила она, подбегая к Соне.
Николай с Денисовым ходили по залам, ласково и покровительственно оглядывая танцующих.
— Как она мила, кг'асавица будет, — сказал Денисов.
— Кто?
— Г'афиня Наташа, — отвечал Денисов.
— И как она танцует, какая г'ация! — помолчав немного, опять сказал он.
— Да про кого ты говоришь?
— Пг'о сестг'у пг'о твою, — сердито крикнул Денисов. Ростов усмехнулся.
— Mon cher comte; vous ?tes l’un de mes meilleurs ?co-liers, il faut que vous dansiez, — сказал маленький Иогель, подходя к Николаю. — Voyez combien de jolies demoiselles[239]. — Он с тою же просьбой обратился и к Денисову, тоже своему бывшему ученику.
— Non, mon cher, je ferai tapisserie[240], — сказал Денисов. — Разве вы не помните, как дурно я пользовался вашими уроками?..
— О нет! — поспешно утешая его, сказал Иогель. — Вы только невнимательны были, а вы имели способности, да, вы имели способности.
Заиграли вновь вводившуюся мазурку. Николай не мог отказать Иогелю и пригласил Соню. Денисов подсел к старушкам и, облокотившись на саблю, притопывая такт, что-то весело рассказывал и смешил старых дам, поглядывая на танцующую молодежь. Иогель в первой паре танцевал с Наташей, своею гордостью и лучшей ученицей. Мягко, нежно перебирая своими ножками в башмачках, Иогель первым полетел по зале с робевшей, но старательно выделывающей па Наташей. Денисов не спускал с нее глаз и пристукивал саблей такт с таким видом, который ясно говорил, что он сам не танцует только оттого, что не хочет, а не оттого, что не может. В середине фигуры он подозвал к себе проходившего мимо Ростова.
— Это совсем не то, — сказал он. — Разве это польская мазуг'ка. А отлично танцует.
Зная, что Денисов и в Польше даже славился своим мастерством плясать польскую мазурку, Николай подбежал к Наташе.
— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чудо! — сказал он.
Когда пришел опять черед Наташи, она встала и, быстро перебирая своими с бантиками башмачками, робея, одна пробежала через залу к углу, где сидел Денисов. Она видела, что все смотрят на нее и ждут. Николай видел, что Денисов и Наташа, улыбаясь, спорили и что Денисов отказывался, но радостно улыбался. Он подбежал.
— Пожалуйста, Василий Дмитрич, — говорила Наташа, — пойдемте, пожалуйста.
— Да что. Увольте, г'афиня, — говорил Денисов.
— Ну полно, Вася, — сказал Николай.
— Точно кота Ваську уговаг'ивает, — шутя сказал Денисов.
— Целый вечер вам буду петь, — сказала Наташа.
— Волшебница, все со мной сделает! — сказал Денисов и отстегнул саблю. Он вышел из-за стульев, крепко взял за руку свою даму, приподнял голову и отставил ногу, ожидая такта. Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав такт, он сбоку, победоносно и шутливо, взглянул на свою даму, неожиданно пристукнул одною ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль по кругу, увлекая за собой свою даму. Он неслышно летел половину залы на одной ноге и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на них; но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, быстро вертелся и, левою ногой подщелкивая правую, опять летел по кругу. Наташа чутьем угадывала то, что он намерен был сделать, и, сама не зная как, следила за ним — отдаваясь ему. То он кружил ее на правой, то на левой руке, то, падая на колена, обводил ее вокруг себя и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты; то вдруг опять останавливался и делал опять новое и неожиданное колено. Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкнул шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его.
— Что же это такое? — проговорила она.
Несмотря на то, что Иогель не признавал эту мазурку настоящей, все были восхищены мастерством Денисова, беспрестанно стали выбирать его, и старики, улыбаясь, стали разговаривать про Польшу и про доброе старое время. Денисов, раскрасневшись от мазурки и отираясь платком, подсел к Наташе и весь бал не отходил от нее.
……………………………………………………………
XIV31-го декабря, накануне нового 1810 года, le r?veillon[241], был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.
На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.
Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки.
— Государь?.. Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?.. — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.
Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний.
Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно.
Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.
В десять часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.
Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день стала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все: она, мама, Соня — были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масак? бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны ? la grecque.
Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.
— Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. — Не так бант, поди сюда. — Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.
— Позвольте, барышня, нельзя так, — говорила горничная, державшая волоса Наташи.
— Ах, боже мой, ну после! Вот так, Соня.
— Скоро ли вы? — послышался голос графини. — Уж десять сейчас.
— Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?
— Только току приколоть.
— Не делайте без меня, — крикнула Наташа, — вы не сумеете!
— Да уж десять.
На бале решено было быть в половине одиннадцатого, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.
Окончив прическу, Наташа, в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку.
Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.
— Мавруша, скорее, голубушка!
— Дайте наперсток оттуда, барышня.
— Скоро ли, наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Перонская уж заждалась.
— Готово, барышня, — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.
Наташа стала надевать платье.
— Сейчас, сейчас, не ходи, папа! — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.
— Папа, ты как хорош, прелесть! — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.
— Позвольте, барышня, позвольте, — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.
— Воля твоя, — с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, — воля твоя, опять длинно!
Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.
— Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, — сказала Мав-руша, ползавшая по полу за барышней.
— Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем, — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.
В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.
— Уу! Моя красавица! — закричал граф. — Лучше вас всех!.. — Он хотел обнять ее, но она, краснея, отстранилась, чтобы не измяться.
— Мама, больше набок току, — проговорила Наташа. — Я переколю, — и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.
— Боже мой! Что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата…
— Ничего, заметаю, не видно будет, — говорила Дуняша.
— Красавица, краля-то моя! — сказала из-за двери вошедшая няня. — А Сонюшка-то, ну красавицы!..
В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.
Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно помыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.
Ростовы похвалили ее вкус и туалет и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.
XVНаташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.
В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.
Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «Charm? de vous voir»[242], — так же встретили и Ростовых с Перонской.
Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?
— Charmante![243] — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.
В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.
«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она.
Перонская называла графине самых значительных из лиц, бывших на бале.
— Вот это голландский посланник, видите, седой, — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться.
— А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, — говорила она, указывая на входившую Элен.
— Как хороша! Не уступит Марье Антоновне: смотрите, как за ней увиваются и старые и молодые. И хороша и умна. Говорят, принц… без ума от нее. А вот эти две хоть и не хороши, да еще больше окружены.
Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.
— Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи.
— Это брат Безуховой — Анатоль Курагин, — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы, через дам глядя куда-то. — Как хорош! Не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то cousin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник, — отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, все лучше всех наша Марья-то Антоновна! И как просто одета. Прелесть!
— А это-то, толстый, в очках, фармазон всемирный, — сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женою-то его рядом поставьте: то-то шут гороховый!
Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то.
Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.
Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.
— Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.
— А, вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. Il fait ? pr?sent la pluie et le beau temps[244]. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами.
XVIВдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского.
Все расступились, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М.А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых, не умолкая, называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская, — у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А! Это не она, так и нечего смотреть!» Нет, это не может быть! — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».
Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно — воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним.
Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье.
Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута — никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развеваясь, бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.
Князь Андрей в своем полковничьем, белом мундире (по кавалерии), в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании Государственного совета. Князь Андрей, как человек, близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцевать кавалеров, не решавших вступить в круг.
Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.
Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.
— Вы всегда танцуете. Тут есть моя proteg?e, Ростова молодая, пригласите ее, — сказал он.
— Где? — спросил Болконский. — Виноват, — сказал он, обращаясь к барону, — этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцевать. — Он вышел вперед, по направлению, которое ему указал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.
— Позвольте вас познакомить с моей дочерью, — сказала графиня, краснея.
— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.
«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.
Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу потому, что на нее указал ему Пьер, и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.
XVIIПосле князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцевал с Наташей. Она напомнил ей о их первом свиданье в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.
Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, кончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась и, видимо, подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.
«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем», — и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.
«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой, — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине.
«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж… Это здесь редкость», — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.
В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «Как можно было спрашивать об этом?»
— Так весело, как никогда в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя.
Том III
IIIРусский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.
Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.
После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.
В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена — на бале, даваемом генерал-адъютантами.
Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.
Борис Друбецкой, en gar?on (холостяком), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал-адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.
В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.
При начале мазурки Борис видел, что генерал-адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и непридворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно, поняв, что Балашев поступил так только потому, что на то были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним; Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая-то, очевидно важная, новость не через него передана государю.)
Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними.
Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Ба-лашев и каким бы образом узнать ее прежде других.
В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолоке и нагнул голову.
Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова:
— Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле, — сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова; он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их.
— Чтоб никто ничего не знал! — прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.
Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ.
Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывавшегося ожидания, и на бале! Государь, в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому понравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.
Марина Цветаева
Генералам двенадцатого годаВы, чьи широкие шинелиНапоминали паруса,Чьи шпоры весело звенелиИ голоса,И чьи глаза, как бриллианты,На сердце оставляли след, —Очаровательные франтыМинувших лет!Одним ожесточеньем волиВы брали сердце и скалу, —Цари на каждом бранном полеИ на балу.Вас охраняла длань ГосподняИ сердце матери, — вчераМалютки-мальчики, сегодня —Офицера!Вам все вершины были малыИ мягок самый черствый хлеб,О, молодые генералыСвоих судеб!* * *Ах, на гравюре полустертой,В один великолепный миг,Я видела, Тучков-четвертый,Ваш нежный лик.И Вашу хрупкую фигуру,И золотые ордена…И я, поцеловав гравюру,Не знала сна…О, как, мне кажется, могли выРукою, полною перстней,И кудри дев ласкать — и гривыСвоих коней.В одной невероятной скачкеВы прожили свой краткий век…И ваши кудри, ваши бачкиЗасыпал снег.Три сотни побеждало — трое!Лишь мертвый не вставал с земли.Вы были дети и герои,Вы все могли!Что так же трогательно-юно,Как ваша бешеная рать?Вас златокудрая ФортунаВела, как мать.Вы побеждали и любилиЛюбовь и сабли острие —И весело переходилиВ небытие.
Александр Бестужев-Марлинский
Испытание
Отрывок из повести
IIIВы клятву дали? Эта клятва —
Лишь перелетным ветрам жатва.
В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дня после Рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к рассвещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлином своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.
Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах; теснота в зале танцев — и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее — свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, «не утолимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (mariage-hunters) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах, как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***; она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна, — думает один, — но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но говорят, он колеблется, — тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалека, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, — старая, но всегда удачная дипломатика, — потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.
Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «Маски, маски!» — привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадриля, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание, равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадриль их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостию и развязностию движений, новостью и благородством фигур. Наконец, послышалась одушевленная живая музыка французского кадриля, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.
— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.
— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?
— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.
Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.
— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.
— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения… Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его, — я называюсь дон Алонзо де Гверера с Молина е Фуэнтес е Риэго е Калибрадос…
— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете?
— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!
Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu’ils sont charmants! Ah, comme c’est beau Cab![245]» Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними — они пересняли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попурри — и снова получил согласие. Попурри и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовою женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими oui, Monsieur, certainement, Monsieur[246]. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заране, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастие, однако же, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попурри, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин, — думала она сама с собою, — тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень за выражениями ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графинею, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия, спросил:
— Скажите, графиня, неужели это прыгающее memento mori[247] — князь Пронский? Он так часто меняет свои покрои, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.
— Не дивитесь этому, дон Алонзо; разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?
— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, pendant[248] князя Пронского, летающая воланом со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня?
Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.
— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминным лицом, стоящий в рисовальной позиции?
— Это представитель всех предрассудков века Людовика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.
— Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон-Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре… Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.
— Вы, дон Алонзо е Фуэнтес е Калибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?
— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня, — отвечал с чувством испанец, устремя на нее сверкающие глаза.
Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.
— Вы сказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петербурге и на бале, и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадриля. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя… Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга?
— Я ничего не видел, кроме вас!
— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо… молодой человек с усиками в венском фраке… Но вы не туда смотрите, дон Алонзо!
— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым dejeuner dansant[249] глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? Mais il n’est pas mal, vraiment[250]. Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.
— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.
— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: «Любите меня, или смерть!»
— Многие находят его весьма остроумным.
— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстухов и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!
— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!
— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?
— Конечно, дон Алонзо! В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.
— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.
— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, дон Алонзо. Комплименты врага — опасные переметчики.
— Они выдуманы не для вас, графиня; самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.
— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!
— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.
— Вашу искренность, дон Алонзо! Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.
— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание… более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску… может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою… может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.
— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.
— Верьте, графиня, я уже плачу за него и… — Вихорь вальса умчал графиню на средину, где законы попурри заставили ее потанцевать соло в pastourelle[251], одной из фигур французских кадрилей.
— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.
— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!
— О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!
— Не более как историк, графиня… беспристрастный историк… — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:
— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед…
Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца, он едва мог у ней попросить позволения явится на другой день для объяснения загадки.
— Я этого требую, — отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей двумя веч-ностями, она была задумчива, рассеянна, отвечала нет, где надобно было говорить да, и мне очень жаль — вместо я очень рада. «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.
Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.
Евдокия Ростопчина
Бал на фрегатеКомандиру и офицерам «Мельпомены»
Залива Финского лениво дремлют волны,Уж вечер догорел, уж чайки улеглись;Лес, скалы, берега молчаньем томным полны,И звезды ранние на небесах зажглись.Здесь северная ночь среди погоды ясной,Как ночи южные, отрадна и прекраснаИ чудной негою пленительно блестит;А море синее и плещет и шумит.Фрегат воинственный, на якоре качаясь,Средь зеркальных зыбей красуется царем,И флаги пестрые, роскошно развеваясь,Над палубой его сошлись, сплелись шатром.Он убран, он горит радушными огнями;Дека унизаны веселыми гостями,Живая музыка призывно так гремит;А море синее и плещет и шумит.На «Мельпомене» бал! Наряды дам блистаютМеж эполетами, пред строем моряков;Их ножки легкие свободно попираютЖилище бранных смут, опасностей, трудов.Лафеты креслами им служат; завоеванБез боя весь фрегат — и вмиг преобразован:Не вихрь морской по нем, а быстрый вальс летит;А море синее и плещет и шумит.Но женский ум пытлив: по переходам длинным,По узким лестницам, по декам, по жильямПопарно бал идет, и «польский» тактом чиннымВдали сопутствует гуляющим четам.Вот тесных келий ряд вкруг офицерской залы, —Где много жизни лет у каждого пропало,Где в вечных странствиях далекий свет забыт…А море синее и плещет и шумит!Вот в дальней комнате две пушки, — и меж нимиДиван, часы и стол: здесь капитан живет,Один, с заботами и думами своими,И блага общего ответственность несет.Здесь суд, закон и власть!Здесь участь подчиненных,Их жизнь, их смерть, их честьВ руках отягощенных, —Владыка на море, — он держит и хранит,И, с ним беседуя, волна под ним шумит.О! кто, кто здесь из нас, танцующих беспечно,Постигнет подвиги и долю моряка?..Как в одиночестве, без радости сердечной,Томить его должна по родине тоска!Как скучны дни его, как однозвучны годы!Как он всегда лишен простора и свободы!Как вечно гибелью в глаза ему грозитТо море синее, что плещет и шумит!И здесь, на палубе, где мы танцуем ныне,Здесь был иль может быть кровопролитный бой,Когда, метая гром по трепетной пучинеИ сыпля молньями, фрегат летит грозойНа вражеский корабль, — и вдруг они сойдутся,И двух противных сил напоры размахнутся,И битва жаркая меж ними закипит,А море синее все плещет и шумит!И много, может быть, здесь ляжет братьев наших,И много женских слез вдали прольют по ним!Танцуйте!.. Радуйтесь!.. Но я в забавах вашихУж не участница!.. К картинам роковымВоображение влекло меня невольно…И содрогнулась мысль… и cepдцy стало больно…С участьем горестным мой взор на все глядит,А море синее и плещет и шумит!
Владимир Соллогуб
Большой свет
Повесть в двух танцах
Отрывок из повести
II
МазуркаСледуя аристократическому обычаю петербургской знати, Наденька тщательно скрывалась от всех глаз до роковой минуты вступления в свет. Минута эта наступила, и она ожидала ее без боязни и без восторга.
Быть может, в девственных мечтах ее, меж цветов и бальных звуков, и слышался ей неведомый шепот, и чудились ей предугадываемые чувства… Кто проникнет в сердечные грезы молодой девушки? Кто поймет неиспорченным сердцем первые думы, первую задумчивость и неясные откровения души девственной, души, открытой всему прекрасному?
Дом старой княгини, тетки Щетинина, был назначен для первого выезда Наденьки.
Наступил день бала.
Все по-старому пышно и хорошо. Кареты тянулись длинною нитью у ярко освещенного подъезда. Дверцы поминутно хлопали, и из кареты выпархивали разряженные девушки, одюжевшие матушки, вышаркивали камер-юнкеры.
И Леонин явился, по привычке, на бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя, начальник его обещал ему, за нерадение к службе, отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головною болью, хотя трое саней стояло у ее подъезда.
Ему было неимоверно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели, и никто не заметил.
А бал был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором, женщины, украшенные цветами, сверкавшие очами и брильянтами, наклонялись на кавалеров и кружились с ними в упоительном вальсе.
Леонину все это стало противно. На роскошь праздника он взгляда не бросил, и ко всем окружавшим он почувствовал неодолимое отвращение.
В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчовый тюрбан увивался около ее головы; темно-бархатное платье чудно выказывало удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение.
За графиней шла молоденькая девушка в белом платье с голубыми цветками.
«Сестра графини!» — раздалось шепотом повсюду. Все кинули на нее испытующий взгляд; даже старые сановники, занятые в штофной гостиной вистом, невольно удостоили ее мгновенным и одобрительным осмотром; даже женщины взглянули на нее благосклонно.
Леонин видел ее несколько раз мельком у графини, но едва лишь заметил. И точно, что значит девочка в простом платье, с потупленным взором в сравнении с графиней, расточающей все прелести своего кокетства, все роскошные изобретения парижских мод! Теперь Леонину показалось, что он видит Наденьку в первый раз. Глядя на нее, ему как-то отраднее стало, и он невольно к ней приблизился и очутился с ней во французской кадрили.
— Ну, что, — спросил он, — какое впечатление делает на вас ваш первый бал?
— Хорошо, — отвечала Наденька, — хорошо; только я думала, что будет лучше. Я думала, что мне будет очень весело.
— Что же, вам не весело?
— Нет, не то чтоб и скучно, а как-то странно… Все осматривают меня с ног до головы. Боюсь, чтоб платье мое кто-нибудь из кавалеров не изорвал… Да жарко здесь очень!
— Да, — сказал Леонин, — здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно!.. Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные.
Он невольно повторил слова, слышанные им некогда в маскараде. Наденька взглянула на него с удивлением.
— Да нам какое до того дело? Если женщины румянятся, тем хуже для них; если мужчины низки, тем для них стыднее.
«Правда», — подумал Леонин.
— И почему, — продолжала Наденька, — искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие, но зато достоинства у каждого человека отдельны и принадлежат ему собственно. Их-то, кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе.
Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому франту всю тайну большого света. Следующую кадриль Леонин танцевал с графиней.
— Графиня, — сказал он, — два года назад, во время маскарада, одна маска показалась мне чрезвычайно жалкою. Она не знала меня, и обратилась ко мне как к другу, и раскрыла мне все раны своего сердца.
— Право? — рассеянно сказала графиня, приложив веер к губам.
— Она была точно жалка, — сказал Леонин. — Никто ее не любил, а она жаждала счастья найти душу, которая могла бы ее любить. Под маской были вы, графиня.
— Вы думаете?..
— Я в том уверен. И с тех пор я бросил всю прежнюю жизнь свою; я оставил всех своих знакомых; я отказался от девушки, которая меня любила; я втерся в новый круг, где я терпел все унижения и все досады; я вышел из пределов моего состояния, я прилепился к следам вашим, для вас одной, и я не просил ничего, и, когда я был вам нужен, я был всегда под рукой, и, когда вы кокетничали с людьми, мне ненавистными, я молчал… И я думал тронуть вас своим постоянством и своей любовью, я думал, что в награду всех мучений, которые я претерпел для вас, вы бросите мне взгляд сожаления и будете ко мне неравнодушны.
— Чего же вы хотите? — спросила графиня.
— Я хочу знать, любите ли вы меня!
Графиня горделиво подняла голову.
— Вы, кажется, с ума сошли? — сказала она.
В ее голосе было столько презрения, что бедный Леонин, как опьянелый, вышел в другую комнату.
В то же время князь Чудин подошел с другой стороны к графине, перекачиваясь с ноги на ногу.
— Прелестная графиня, — сказал он, — два слова. Вот два года, как в свете говорят, что я в вас влюблен. Что вы думаете: правда ли это?
— Не знаю, — сказала графиня, смеясь.
— Оно бы, может, и было правда, — сказал fashionable[252], — да дело в том, что я никак не умею вздыхать, плакать и падать в обморок… Для меня ремесло собачки, которая должна служить и прыгать для своей хозяйки, — нестерпимо. Я люблю действовать решительно и требую решительных ответов: да или нет. Я никому не дам удовольствия видеть, как я буду сентиментальничать. Это не моя привычка. Угодно вам будет мне отвечать?
— Вы, кажется, с ума сошли! — сказала, рассмеявшись, графиня и протянула ручку свою известному нам генералу, который пожал ее с чувством рыцарской благодарности, а потом уселись они вдвоем на кушетке, в уголку соседней гостиной, и начали разговаривать, не обращая ни на кого внимания. Генерал был очень счастлив. Он вежливо протянул руку проходящему мимо мужу графини, который почтительно мимо него прошаркнул и уселся с некоторыми лицами за карточный стол.
Заиграли мазурку. Пары уселись вдоль стены. Щетинин танцевал с графиней. Он был в самом светском расположении духа, злословил и смеялся. Вообще, нет ничего пошлее мазурочных разговоров, даже если и вмешается в них какое-нибудь сердечное отношение. Во-первых, жара, теснота, необходимость вставать поминутно для фигур, усталость и поздняя ночь в состоянии отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Тогда невольно ищешь самых простых слов и самых простых мыслей; тогда женские уста, отверстые невольно для зевоты, смыкаются лишь из приличия улыбкой.
— Графиня, — говорил Щетинин, — замечаете вы в Петербурге новую странность: молодые девушки совершенно забыты? Видите, сколько сидит их по разным углам с недовольными лицами и без надежды на кавалеров? Барышня уничтожается в нашем образованном обществе и остается единственно на попечении своих двоюродных братьев или друзей дома, то есть несноснейших людей в мире. Вы будете в кипсеке?
— Нет. Да этого кипсека никогда не будет.
— Напротив, он скоро должен выйти в свет с изображениями наших красавиц. Вам первое место следует по праву.
— Благодарю покорно. Моего портрета, однако, не будет. Может быть, я недовольно хороша, я недовольно bon genre для подобной чести.
— Графиня, bon genre теперь не говорится более, а говорится genre fracas[253]: оно новее и выразительнее, не правда ли? Вы были вчера на бале — fracas. Вы танцевали мазурку с вашим обожателем — fracas! А если вы задумались, если вы вздохнули, если вы хоть слово сказали — это могло дать подумать, что сердце ваше тронуто, — fracas! fracas! Все, что от нас идет и к нам обращается, — все fracas! А где друг мой и приятель m-r Leonine, ваш постоянный обожатель, ваш безнадежный вздыхатель, господин де Грандисон? Вот уж вовсе не fracas.
— Вообразите, — отвечала, смеясь, графиня, — что он не на шутку требовал от меня нынче объяснения; он хотел, чтоб я призналась в любви к нему!.. И теперь он сердится и ходит бледный и сердитый, как тень Гамлета.
— Я очень рад, — продолжал, также смеясь, Щетинин, — я очень рад: авось это отучит вас от страсти собирать около себя целое стадо обожателей — к чему они все вам?
— О! этого я должна была отличать между прочими по обстоятельствам, мне известным. Виновата ли я, что он принял за любовь все, что было лишь приличие? Может быть, я и виновата немного. Да какой женщине, скажите, не хочется нравиться?
— И вы, наверное, знаете, что вы не любите моего рыцаря печального образа?
— О! что до этого, вы можете быть совершенно спокойны. Он не глуп, а все-таки не только не fracas, а просто — mauvais genre[254], и тон его, сказать вправду, иногда бывает очень дурен. Если б у меня была наклонность, я бы умела ее лучше выбирать.
— О, бедный господин де Грандисон! — смеясь, продолжал Щетинин. — О, сентиментальный юноша!
— Я вам должна признаться, — прибавила графиня, — что ваш приятель бывает иногда чрезмерно скучен: молчит и вздыхает, вздыхает и молчит. И потом, два года назад он был мне нужен, а теперь бог с ним!
Князь Чудин протянул небрежно руку к графине; она улыбнулась и, встав с своего места, порхнула с князем в пирамидную фигуру.
— Князь! — сказал на ухo Щетинину дрожащий голос.
Щетинин обернулся. За стулом стоял Леонин с посиневшими губами, за Леониным стоял Сафьев, с пальцем задетым за жилет и с вечной улыбкой.
— Князь, — продолжал Леонин, — в романе господина де Грандисона недостает одной главы — поединка. Вы знаете, что романы без поединка теперь не обходятся. Не угодно ли вам будет дополнить этот недостаток?
— Извольте, — отвечал Щетинин, — желаю, чтоб эта глава была из лучших в вашем романе. Кто секундант ваш?
— Г-н Сафьев, — продолжал Леонин, — не правда ли?
— По-моему, — сказал Сафьев, — всякая дуэль — большая глупость. Однако, душа моя, как здесь ты немного найдешь охотников, так я, пожалуй, рад быть твоим секундантом. Только вот что: прошу не мешаться ни во что, а все предоставить мне. К кому прикажете, — прибавил он, наклонившись к Щетинину, — явиться мне для нужных переговоров?
— Я буду просить графа Воротынского быть моим секундантом, — отвечал Щетинин.
— Графа, графа! — с удивлением заметил Сафьев. — Ну, да быть так: я поеду к графу.
Князь Чудин возвратился к месту графини и, оставив ее у стула, поднял с пола свою шляпу и стал, с лорнетом в глазе, в числе нетанцующих.
Князь Щетинин продолжал разговор как бы ни в чем не бывало, но злословил и смеялся больше обыкновенного. Мазурка весело переходила от фигуры пирамид к фигуре замысловатых выборов.
Графиня мигом разгадала все, что было в ее отсутствие, но, как женщина опытная, она не обнаружила своего смущения, напротив, веселость ее сделалась живее, глаза заискрились, румянец заиграл на щеках ее. Она отвечала шутками на шутки, улыбками на улыбки и порхала между танцующими с такой откровенной веселостью, что собой оживила целый бал. Никогда еще, может быть, она не была так привлекательна и прелестна. Шепот восхищения зажужжал вокруг нее, провозглашая ее единогласно царицею вечера; и точно, нельзя было довольно ею налюбоваться. Стройная, живая, с лихорадочным огнем в глазах и с улыбкой сладострастной на устах, с длинными волосами, распущенными по плечам, она носилась, не касаясь пола своими ножками, осуществляя собой все страстные мечты, все страстные желания юноши. Кругом ее все смешалось и закипело. Молодые люди, молодые женщины начали кружиться и чаще, и быстрее; музыка заиграла громче, свечи засверкали яснее, цветущие кусты распустились ароматнее.
— Славный бал! — говорили старики, оживляясь воспоминанием при веселии молодежи.
— Чудный бал! — говорили молодые дамы, махая веерами.
— Прелестный бал! — говорили юноши, улыбаясь своим успехам.
И среди этого шума, этого хаоса торжествующих лиц одна молодая девушка стояла задумчиво и не радуясь радости, которой она не понимала. Ее большие голубые глаза устремились с скромным удивлением на ликующую толпу. Она чувствовала себя неуместною среди редких порывов светского восторга, и то, что всех восхищало, приводило ее в неодолимое смущение. На всех лицах резко выражалось какое-то торжественное волнение, а на чертах ее изображалось какое-то душевное спокойствие, отблеск небесной непорочности и отсутствия возмутительных мыслей.
Леонин прислонился к двери, с горькой думой и окинул взором все собрание, которое прежде так увлекало и ослепляло его. Вдруг взор его остановился на прекрасном и спокойном лице Наденьки — и мысль его приняла другое направление.
Загадка большого света начала перед ним разгадываться. Он понял всю ничтожность светской цели, всю неизмеримую красоту чувства высокого и спокойного. Он все более и более приковывался взором и сердцем к Наденьке, к ее безмятежному лику, к ее необдуманным движениям. Он долго глядел на нее, он долго любовался ею с какой-то восторженной грустью…
И вдруг, по какому-то магнетическому сочувствию, взоры его встретились с взорами Щетинина, устремились вместе на Наденьку и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды.
Алексей Плещеев* * *Когда я в зале многолюдной,Тревогой тайною томим,Внимаю Штрауса звукам чудным,То полным грусти, то живым;Когда пестреет предо мноюТолпа при свете ярких свеч;И вот, улыбкой молодоюИ белизной прозрачных плечБлистая, ты ко мне подходишь,В меня вперяя долгий взор;И разговор со мной заводишь,Летучий, бальный разговор…О, отчего так грустно, больноМне станет вдруг?.. Тебе едваЯ отвечаю, и невольноНа грудь клонится голова.И все мне кажется, судьбоюНа муки ты обречена,Что будет тяжкою борьбоюИ эта грудь изнурена;Что взор горит огнем страданья,Слезу напрасно затая;Что безотрадное рыданьеЗа смехом звонким слышу я!И жаль мне, жаль тебя — и слезыГотовы кануть из очей…Но это все больные грезыДуши расстроенной моей!Прости мне, друг; не зная скуки,Забыв пророческую речь,Кружись, порхай под эти звукиПри ярком свете бальных свеч!
Лев Толстой
Детство
Отрывок из повести
Глава XX
Собираются гостиСудя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.
При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь ванька с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая, в синем салопе с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.
Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.
Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.
Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «Quelle charmante enfant!»[255] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.
— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, — сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок, — прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера, — прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою.
Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.
Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.
Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.
— Не знаю, — отвечал он мне небрежно, — я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, — прибавил он с выразительным жестом, — прекрасно!
— Ваше сиятельство, — сказал лакей, входя в переднюю. — Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?
— Как куда дел? да я ему отдал.
— Он говорит, что не отдавали.
— Ну, так на фонарь повесил.
— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство, — продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.
Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу.
— Ну, потерял так потерял, — сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений, — что стоит ему кнут, так я и заплачу. Вот уморительно! — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.
— Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год. Петрушке…
— Замолчишь ли ты! — крикнул молодой князь, побледнев от злости. — Вот я все это скажу.
— Все скажу, все скажу! — проговорил лакей. — Нехорошо, ваше сиятельство! — прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.
— Вот так, так! — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.
Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла вы и ты наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его вы, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого сложения: он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что, когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.
Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.
Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.
Глава XXI
До мазурки— Э! да у вас, видно, будут танцы, — сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток, — надо перчатки надевать.
«Как же быть? а у нас перчаток-то нет, — подумал я, — надо пойти наверх — поискать».
Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Иванычем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.
— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее, верно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватятся. Что мне делать? — говорил я, размахивая руками.
— Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя, — иди ангажируй даму… сейчас начнется.
— Володя, — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию, — Володя, ты и не подумал об этом!
— О чем? — сказал он с нетерпением. — А! о перчатках, — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку, — и точно нет; надо спросить у бабушки… что она скажет? — и, нимало не задумавшись, побежал вниз.
Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.
Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей:
— Бабушка! что нам делать? у нас перчаток нет!
— Что, мой друг?
— У нас перчаток нет, — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.
— А это что, — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. — Voyez, ma chere[256], — продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной, — voyez comme се jeune homne s’est fait elegant pour danser avec vorte fille.[257]
Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим.
Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею, эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, — в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.
Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было, — страдание прекращается.
Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в cha?ne[258] подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она jet?-as-sembl? своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал chass? en avant, chass? en arri?re, glissade[259] и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.
Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Vous ?tes une habitante de Moscou? — сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал: — Et moi, je n’ai encore jamais fr?quent? la capitale»[260], — рассчитывая в особенности на эффект слова «fr?quenter»[261]. Я чувствовал, однако, что хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии, еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось: я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?
Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «merci» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — подумал я, беззаботно разгуливая по зале, — я готов на все!»
Сережа предложил мне быть с ним vis-a-vis. «Хорошо, — сказал я, — хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.
Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.
Глава XXII
МазуркаМолодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать pas de Basques[262], которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинув ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.
Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою. — Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, a pas de Basques не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла…» Мне было чрезвычайно весело.
Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив, большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, — должно быть, желая тем угодить бабушке, — подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Rose ou hortie?»[263] — сказала она мне.
— А, ты здесь! — сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка. — Иди же, мой дружок, иди.
Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — я встал, сказал «rose»[264] и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.
Я знал, что pas de Basques неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые в свою очередь передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что, если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился, с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas![265] — сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
«Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!»…………………………………………..
Все презирают меня и всегда будут презирать… мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям… все пропало! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княж на так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка… она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку… И мое вообра жение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.
Глава XXIII
После мазуркиЗа ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастия, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к мо ему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
Вдруг раздались из залы звуки гросфатера, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.
— Еще полчасика, — убедительно говорила Сонечка.
— Право, нельзя, мой ангел.
— Ну для меня, пожалуйста, — говорила она, ласкаясь.
— Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? — сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.
— А, позволила! останемся? — заговорила Сонечка, прыгая от радости.
— Что с тобой делать? Иди же, танцуй… вот тебе и кавалер, — сказала она, указывая на меня.
Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу.
Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.
Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.
«Если бы я был всегда такой, как теперь, — подумал я, — я бы еще мог понравиться».
Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.
Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастием. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать.
Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастие, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем».
— Не правда ли, что нынче очень весело? — сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.
— Да… очень! — отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.
— Особенно после ужина… Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.
— Отчего же не увидимся? — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы походили, — каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.
— Знаете что? — сказала вдруг Сонечка, — я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю ты; давайте и с вами говорить ты. Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.
В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера.
— Давай…те, — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.
— Давай ты, а не давайте, — поправила Сонечка и засмеялась.
Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с ты, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.
Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.
Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.
Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.
Алексей Толстой* * *Средь шумного бала, случайно,В тревоге мирской суеты,Тебя я увидел, но тайнаТвои покрывала черты.Лишь очи печально глядели,А голос так дивно звучал,Как звон отдаленной свирели,Как моря играющий вал.Мне стан твой понравился тонкийИ весь твой задумчивый вид,А смех твой, и грустный и звонкий,С тех пор в моем сердце звучит.В часы одинокие ночиЛюблю я, усталый, прилечь —Я вижу печальные очи,Я слышу веселую речь;И грустно я так засыпаю,И в грезах неведомых сплю…Люблю ли тебя — я не знаю,Но кажется мне, что люблю!
Михаил Лермонтов
Герой нашего времени
Отрывок из романа
Княжна Мери22-го мая
Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин — там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце… Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.
Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:
— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет… C'est impayable!..[266] И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить…
— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.
Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танце вать с незнакомыми дамами.
Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей… Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва мог ли прошептать необходимое: «Merci, monsieur».[267]
После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:
— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость… что вы меня нашли дерзким… неужели это правда?
— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.
— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще б?льшую дерзость просить у вас прощения… И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались…
— Вам это будет довольно трудно…
— Отчего же?..
— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.
«Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты».
— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее… и тогда…
Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:
— Пермете…[268] ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку…
— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешанным в историю.
— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure…[269] Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить…
Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.
Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.
— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.
Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.
Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все, та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.
— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она, — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин… не правда ли?
Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.
Кадрили тянулись ужасно долго.
Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.
Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор бы остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки… Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.
— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.
— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.
— Вы напрасно боялись! Они все прескучные…
— Все! Неужели все?
Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: все!
— Даже мой друг Грушницкий?
— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.
— Да.
— Он, конечно, не входит в разряд скучных…
— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.
— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте…
— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!
— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала…
— Что вы думали?..
— Ничего!.. Кто эта дама?
Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.
Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались… Я пошел ужинать и встретил Вернера.
— А-га! — сказал он, — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.
— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..
— Как это? Расскажите!..
— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий все на свете!
23-го мая
Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:
— Благодарю тебя, Печорин… Ты понимаешь меня?..
— Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.
— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала…
— А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..
— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно, — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем… Видишь: я ее люблю до безумия… и я думаю, я надеюсь, она также меня любит… У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером… обещай мне замечать все; я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин… Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает… То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков… Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны…
— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.
— Ты во всем видишь худую сторону… матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем, переменим материю, — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.
В девятом часу мы вместе пошли к княгине.
Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли; она находит, что томность к ней идет, — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.
После чая все пошли в залу.
— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.
Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих… Вышло — вздор…
Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду… О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..
Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо… впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Charmant! d?licieux!»[270]
— Послушай, — говорила мне Вера, — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться…
— Только?..
Она покраснела и продолжала:
— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться… и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию… не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.
Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.
— Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?..
— Напротив… после обеда особенно.
— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы… и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении…
— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична…
Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный раз говор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы до вольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде…
Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.
В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец уда лился. Княжна торжествовала, Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь… вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие… Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет…
Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине… За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями… Неужели зло так привлекательно?..
Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:
— Ну что?
«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.
Евдокия Ростопчина
Отрывки из «Дневника девушки»
Отрывок из романа в стихах1Он хочет знать, зачем в моих глазахПриметы слез, зачем я потерялаУлыбку прежнюю, зачем в моих устахЖивых речей и песней вдруг не стало…Ему ли трудно отгадатьТо, что не смею я сказать?Бывало, я с доверием беспечнымЗадумчивый его встречала взор;Бывало, ласково, с спокойствием сердечнымЯ с ним вела короткий разговор…Теперь боюсь его очей,Боюсь ласкающих речей!Его слова мне на душу запали,Его глаза преследуют меня;Отсутствия часы мне длинной казнью стали,И лишь при нем живу и мыслю я…О! кто поймет, кто объяснит,Чем сердце полно, чем болит?2Люблю тебя, люблю тебя, —Я тайну сердца разгадала,Я в сердце робком прочитала,Что долго крылось от меня.Я знаю, что сбылось с душоюИ почему тоскую я…Я очарована тобою,Люблю тебя!Когда на бале вальс безумныйЧету уносит за четой,Когда в толпе светло и шумно,Привольно младости живой, —Тогда, в тиши уединенья,От всех веселий бытияОдно дано мне услажденье:Люблю тебя!Когда, читая, увлекаюсьЯ красноречием страстей;Когда я песнью восхищаюсьИль есть мечта в душе моей, —Тебя виденье мне являет,С тобой делю все чувства я;Припев один лишь сердце знает:Люблю тебя!Когда с людьми я и придетсяМне в жизни их участье брать:Смеяться, если им смеется,Их мыслям мыслью отвечать, —Я говорящим не внимаю;Их мир — мир чуждый для меня;Со мною ты!.. Я повторяю:Люблю тебя!И если смерть рукой холоднойНить жизни юной перервет,Душе откроет путь свободный,Меня на вечность призовет;Когда житейское забуду,Когда с землей прощуся я, —Шептать, смыкая очи, буду:Люблю тебя!
Иван Тургенев
Затишье
Отрывок из повестиГаврила Степаныч Акилин, у которого назначен был бал, принадлежал к числу помещиков, возбуждающих удивление соседей искусством жить хорошо и открыто при незначительных средствах. Имея не более четырехсот душ крестьян, он принимал всю губернию в огромных, им самим воздвигнутых каменных палатах с колоннами, башней и флагом на башне. Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством; Гаврила Степаныч долго находился в отсутствии, служил в Петербурге; наконец, лет пятнадцать тому назад, вернулся он на родину в чине коллежского асессора, с женою и тремя дочерьми, в одно и то же время принялся за преобразования и за постройки, немедленно завел оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение; не раз носились слухи о продаже имения Гаврилы Степаныча с молотка; но годы шли, обеды, балы, пирушки, концерты следовали друг за другом обычной чередой, новые строения, как грибы, вырастали из земли, а имение Гаврилы Степаныча с молотка все-таки не продавалось, и сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседей приняли другое направление; стали намекать на какие-то важные, будто бы утаенные суммы, заговорили о кладе… «И хотя бы хозяин он был хороший, — так рассуждали дворяне между собою, — а то ведь нет! нисколько! Вот ведь что удивления достойно и непонятно». Как бы то ни было, но к Гавриле Степанычу все ездили очень охотно: он принимал гостей радушно и в карты играл по какой угодно цене. Это был маленький, седенький человечек с вострой головкой, желтым лицом и желтыми глазами, всегда тщательно выбритый и надушенный одеколоном; он и в будни и в праздники носил просторный синий фрак, застегнутый доверху, большой галстук, в который имел привычку прятать подбородок, и щеголял бельем; он жмурил глаза и вытягивал губы, когда нюхал табак, и говорил весьма приветливо и мягко, с беспрестанными слово-ериками. С виду Гаврила Степаныч не отличался бойкостью и вообще наружностью не брал и не глядел умницей, хотя по временам в его глазах светилось лукавство. Старших двух дочерей он выгодно пристроил, младшая оставалась еще в доме невестой. Была у Гаврилы Степаныча и жена, существо незначительное и бессловесное.
Владимир Сергеич в семь часов вечера явился к Ипатовым во фраке и белых перчатках. Он застал уже всех совершенно одетыми; девочки чинно сидели, боясь измять свои беленькие накрахмаленные платьица; старик Ипатов, увидя Владимира Сергеича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук; на Марье Павловне было темно-розовое кисейное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеич сказал ей несколько любезностей. Красота Марьи Павловны его привлекала, хотя она видимо его дичилась; Надежда Алексеевна ему тоже нравилась, но непринужденность ее обращения его несколько смущала. Притом в ее речах, взглядах, самых улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он бы не прочь был подтрунить с нею над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим.
Бал уже начался; гостей собралось довольно много, и доморощенный оркестр трещал, гудел и взвизгивал на хорах, когда семейство Ипатовых вместе с Владимиром Сергеичем вступило в залу акилинского дома. Хозяин встретил их у самых дверей, поблагодарил Владимира Сергеича за чувствительное доставление приятного сюрприза — так он выразился — и, взяв Ипатова под руку, повел его в гостиную, к карточным столам. Гаврила Степаныч воспитание получил плохое, и все у него в доме, и музыка, и мебель, и кушанья, и вина, не только не могло назваться первостепенным, но даже и во вторую степень не годилось. Зато всего было вволю, и сам он не ломался, не кичился… Дворяне больше ничего от него и не требовали и оставались совершенно довольны его угощением. За ужином, например, подавали икру, нарезанную в кусочки и сильно посоленную; но никто не мешал брать ее пальцами, и запить ее было чем, правда, дешевеньким, но все же виноградным вином, а не другим каким-либо напитком. Пружины в мебели Гаврилы Степаныча были действительно несколько беспокойны по причине их неподатливости и тугости; но, не говоря уже о том, что во многих диванах и креслах пружин не было вовсе, всяк мог подложить под себя гарусную подушку, а подобных подушек, вышитых собственными руками супруги Гаврилы Степаныча, лежало везде многое множество — и тогда уже ничего не оставалось желать.
Словом, дом Гаврилы Степаныча пришелся как нельзя более под лад общежительному и бесцеремонному образу мыслей обитателей — го уезда, и единственно скромность г. Акилина была причиною тому, что на дворянских съездах в предводители избирался не он, а отставной майор Подпекин, человек тоже весьма почтенный и достойный, хотя он и зачесывал себе волосы на правый висок из-за левого уха, красил усы в лиловую краску и, страдая одышкой, в послеобеденное время впадал в меланхолию.
Итак, бал уже начался. Танцевали кадриль в десять пар. Кавалерами были офицеры близстоявшего полка, юные, а иные и не совсем юные помещики, два-три чиновника из города. Все было как следует, все шло своим порядком. Предводитель играл в карты с отставным действительным статским советником и богатым барином, владельцем трех тысяч душ. Действительный статский советник носил на указательном пальце перстень с алмазом, говорил очень тихо, не раздвигал соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы, до половины закрытой отличнейшим бархатным воротником; богатый барин, напротив, все чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бодряков, человек вида неуклюжего и дикого, разговаривал в углу с ученым историком Евсюковым; они оба держали друг друга за пуговицы. Возле них один дворянин, с необыкновенно длинной талией, излагал какие-то смелые мнения перед другим дворянином, с робостью смотревшим ему в лоб. Вдоль стен сидели маменьки в пестрых чепцах, у дверей жались господа простого покроя, молодые с смущенными, пожилые с смирными лицами; но всего не опишешь. Повторяем: все было как следует.
Надежда Алексеевна приехала еще раньше Ипатовых: Владимир Сергеич увидал ее танцующею с молодым человеком красивой наружности, в щегольском фраке, с выразительными глазами, тонкими черными усиками и блестящими зубами; золотая цепочка висела полукругом у него на желудке. На Надежде Алексеевне было голубое платье с белыми цветами; небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку; она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом; она чувствовала себя царицей бала, Владимир Сергеич подошел к ней, поклонился и, любезно взглянув ей в лицо, спросил ее, помнит ли она вчерашнее обещание?
— Какое обещание?
— Ведь вы со мною танцуете мазурку?
— Да, конечно, с вами.
Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел.
— Вы, mademoiselle, вероятно, забыли, — начал он, — что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку.
Надежда Алексеевна смешалась.
— Ах, боже мой, как же быть? — заговорила она, — извините меня, пожалуйста, мосье Стельчинский, я такая рассеянная; мне, право, так совестно…
Мосье Стельчинский ничего не отвечал и только глаза опустил; Владимир Сергеич слегка приосанился.
— Будьте так добры, мосье Стельчинский, — продолжала Надежда Алексеевна, — мы ведь с вами старинные знакомые, а мосье Астахов у нас чужой: не ставьте меня в затруднительное положение, позвольте мне танцевать с ним.
— Как вам угодно, — возразил молодой человек. — Однако вам начинать.
— Благодарствуйте, — промолвила Надежда Алексеевна и порхнула навстречу своего визави.
Стельчинский глянул ей вслед, потом посмотрел на Владимира Сергеича. Владимир Сергеич в свою очередь посмотрел на него и отошел в сторону.
Кадриль скоро кончилась. Владимир Сергеич походил немного по зале, потом направился в гостиную и остановился у одного из карточных столов. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к его руке; он обернулся — перед ним стоял Стельчинский.
— Мне нужно с вами в соседнюю комнату на пару слов, если вы позволите, — промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором.
Владимир Сергеич последовал за ним. Стельчинский остановился у окна.
— В присутствии дамы, — начал он на том же языке, — я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал; но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку с mademoiselle Veretieff.
Владимир Сергеич изумился.
— Как так? — спросил он.
— Да так же-с, — спокойно отвечал Стельчинский, положил руку за пазуху и раздул ноздри. — Не намерен, да и только.
Владимир Сергеич тоже положил руку за пазуху, но ноздрей не раздул.
— Позвольте вам заметить, милостивый государь, — начал он, — вы чрез это можете вовлечь mademoiselle Vere-tieff в неприятность, и я полагаю…
— Мне самому это было бы крайне неприятно, но никто не мешает вам отказаться, объявить себя больным и уехать…
— Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете?
— В таком случае я вынужден буду требовать от вас удовлетворения.
— То есть в каком это смысле… удовлетворения?
— Известно, в каком смысле.
— Вы меня вызовете на дуэль?
— Точно так-с, если вы не откажетесь от мазурки.
Стельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеича сердце екнуло. Он посмотрел своему недуманному-негаданному противнику в лицо. «Фу ты, господи, какая глупость!» — подумал он.
— Вы не шутите? — произнес он громко.
— Я вообще не имею привычки шутить, — ответил с важностью Стельчинский, — и в особенности с людьми, мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки? — прибавил он, помолчав немного.
— Не отказываюсь, — возразил Владимир Сергеич, как бы размышляя.
— Прекрасно! Мы завтра деремся.
— Очень хорошо.
— Завтра поутру мой секундант будет у вас.
И, учтиво поклонившись, Стельчинский удалился, видимо довольный собою.
Владимир Сергеич остался еще несколько мгновений у окна.
«Вот тебе на! — думал он, — вот тебе и новые знакомства! нужно было приезжать! Хорошо! Славно!»
Однако он, наконец, оправился и вышел в залу.
В зале уже танцевали польку. Перед глазами Владимира Сергеича промелькнула Марья Павловна с Петром Алексеичем, которого он до того мгновения не заметил; она казалась бледной и даже печальной; потом пронеслась Надежда Алексеевна, вся светлая и радостная, с каким-то маленьким, кривоногим, но пламенным артиллеристом; на второй тур она пошла со Стельчинским. Стельчинский, танцуя, сильно встряхивал волосами.
— Что, батюшка, — раздался вдруг за спиной Владимира Сергеича голос Ипатова, — только глядите, а сами не танцуете? А признайтесь-ка, даром что у нас, так сказать, затишье, ведь недурно и у нас, ась?
«Хорошо, к черту, затишье», — подумал Владимир Сергеич и, пробормотав что-то в ответ Ипатову, отошел в другой угол залы.
«Надо будет секунданта сыскать, — продолжал он свои размышления, — а где его, к черту, найти? Веретьева нельзя, других я никого не знаю; черт знает что за нелепость такая!»
Владимир Сергеич, когда сердился, любил поминать черта.
В это мгновение глаза Владимира Сергеича упали на Складную Душу, Ивана Ильича, стоявшего в бездействии у окна.
«Уж не его ли? — подумал он и, пожав плечами, прибавил почти вслух: — Придется его».
Владимир Сергеич подошел к нему.
— Со мной очень странное происшествие сейчас случилось, — начал наш герой с натянутой улыбкой, — вообразите, меня какой-то незнакомый молодой человек на дуэль вызвал, отказаться нет никакой возможности, мне необходимо нужен секундант, не хотите ли вы?
Хотя Иван Ильич отличался, как известно, невозмутимым равнодушием, но такое необыкновенное предложение по разило и его. Полный недоумения, уставился он на Владимира Сергеича.
— Да, — повторил Владимир Сергеич, — я бы очень вам был обязан, я здесь ни с кем не знаком. Вы одни…
— Не могу, — промолвил Иван Ильич, словно просыпаясь, — совершенно не могу.
— Отчего же? Вы боитесь неприятностей, но, я надеюсь, все это останется в тайне…
Говоря эти слова, Владимир Сергеич чувствовал сам, что краснел и смущался.
«Как глупо! как все это ужасно глупо!» — мысленно твердил он в то же время.
— Извините меня, никак не могу, — повторил Иван Ильич, замотал головой и попятился, причем опять повалил стул.
В первый раз в жизни ему приходилось отвечать на просьбу отказом, да ведь и просьба же была какова!
— По крайней мере, — продолжал встревоженным голосом Владимир Сергеич, поймав его за руку, — вы уж сделайте одолжение, никому не говорите о том, что я вам сказал, я вас покорнейше прошу об этом.
— Это я могу, это я могу, — поспешно возразил Иван Ильич, — а то не могу, воля ваша, решительно не в состоянии.
— Ну хорошо, хорошо, — промолвил Владимир Сергеич, — но не забудьте, я надеюсь на вашу скромность…
Я объявлю завтра этому господину, — пробормотал он про себя с досадой, — что я не мог найти секунданта, пусть он сам распорядится, как знает, я здесь человек чужой. И черт меня дернул обратиться к этому господину! Да что же было делать?
Владимиру Сергеичу было очень и очень не по себе.
Между тем бал продолжался. Владимир Сергеич весьма бы желал уехать тотчас, но до конца мазурки нечего было думать об отъезде. Как дать восторжествовать противнику? К несчастью Владимира Сергеича, танцами распоряжался один молодой развязный господин, с длинными волосами и впалой грудью, по которой, в виде маленького водопада, извивался черный атласный галстух, проколотый огромной золотой булавкой. Молодой этот господин слыл по всей губернии за человека, до тонкости изучившего все обычаи и уставы высшего света, хотя он в Петербурге прожил всего шесть месяцев и выше домов коллежского советника Сандараки и зятя его статского советника Костандараки проникнуть не успел. На всех балах танцами распоряжался он, подавал музыкантам знак хлопаньем в ладоши, посреди воя труб и визга скрипок кричал: «En avant deux!»[271], или: «Grande chaine!»[272], или: «A vous, mademoiselle!»[273], то и дело летал, стремительно скользя и шаркая, по зале, весь бледный и в поту. Мазурку он никогда раньше полуночи не начинал. «И это милость, — говорил он, — я бы вас в Петербурге до двух часов проморил». Длинен показался этот бал Владимиру Сергеичу. Он бродил, как тень, из залы в гостиную, изредка обмениваясь холодными взглядами с своим соперником, не пропускав шим ни одного танца, попросил было Марью Павловну на кадриль, но она уже была приглашена, — и раза два пере кинулся словами с заботливым хозяином, которого, казалось, беспокоила скука, написанная на лице нового гостя. Наконец, загремела желанная мазурка. Владимир Сергеич отыскал свою даму, принес два стула и сел с ней в последних парах, почти напротив Стельчинского.
В первую пару сел, как оно и следовало ожидать, молодой человек, распорядитель. С каким лицом он начал мазурку, как поволок за собой свою даму, как ударял притом ножкой в пол и вздергивал головой — описать все это едва ли не выше пера человеческого.
— А вы, мосье Астахов, мне кажется, скучаете? — начала Надежда Алексеевна, внезапно обратясь к Владимиру Сергеичу.
— Я? Нисколько. Почему вам это кажется?
— Да так, по выражению вашего лица… Вы, с тех пор как приехали, ни разу не усмехнулись. Я этого от вас не ожидала. Вам, господам положительным людям, нейдет дичиться и хмуриться ? la Byron[274]. Предоставьте это сочинителям.
— Я замечаю, Надежда Алексеевна, что вы часто называете меня положительным человеком, как бы в насмешку. Вы, должно быть, считаете меня холоднейшим и благоразумнейшим существом, не способным ни на что такое… А знаете ли, что я вам доложу: положительному человеку часто бывает очень нелегко на сердце, но он не считает нужным выказывать перед другими, что у него там, внутри, происходит; он предпочитает молчать.
— Что вы хотите сказать этим? — спросила Надежда Алексеевна, окинув его взором.
— Ничего-с, — возразил с притворным равнодушием Владимир Сергеич и принял таинственный вид.
— Однако?
— Право, ничего…
— Когда-нибудь узнаете, после.
Надежда Алексеевна хотела было продолжать свои расспросы, но в это мгновение девица, хозяйская дочь, подвела к ней Стельчинского и другого кавалера в синих очках.
— Жизнь или смерть? — спросила она ее по-французски.
— Жизнь! — воскликнула Надежда Алексеевна, — я не хочу еще смерти.
Стельчинский наклонился; она пошла с ним.
Кавалер в синих очках, назвавшийся смертью, пошел с хозяйской дочерью. Оба имени были придуманы Стельчинским.
— Скажите, пожалуйста, кто тот господин Стельчинский? — спросил Владимир Сергеич Надежду Алексеевну, как только та возвратилась на свое место.
— Он у губернатора служит, очень любезный молодой человек. Он не здешний, немножко фат, но это у них всех в крови. Я надеюсь, вы никаких с ним не имели объяснений по поводу мазурки!
— Никаких, помилуйте, — возразил с маленькой запинкой Владимир Сергеич.
— Я такая забывчивая! Вы не можете себе представить!
— Я должен радоваться вашей забывчивости: она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами.
Надежда Алексеевна посмотрела на него, слегка прищурясь.
— В самом деле? Вам приятно танцевать со мною?
Владимир Сергеич отвечал ей комплиментом. Понемногу он разговорился, Надежда Алексеевна была очень мила всегда и особенно в тот вечер; Владимиру Сергеичу она показалась прелестной. Мысль о завтрашнем поединке, раздражая его нервы, придавала блеск и оживление его речам; под влиянием ее он позволил себе небольшие преувеличения в выражении чувств своих… «Куда ни шло!» — думал он. Во всех словах его, в подавленных вздохах, в омрачавшихся внезапно взорах проступало что-то таинственное, невольно грустное, что-то изящно-безнадежное. Он, наконец, доболтался до того, что уже начал рассуждать о любви, о женщинах, о своем будущем, о том, как он понимает счастье и чего требует от судьбы… Он изъяснялся иносказательно, намеками. Накануне возможной смерти Владимир Сергеич кокетничал с Надеждой Алексеевной.
Она слушала его внимательно, посмеивалась, качала головой, то спорила с ним, то притворялась недоверчивой… Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное… Владимир Сергеич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, об ее характере, об ее симпатиях… Она сперва отшучивалась, потом вдруг, совершенно неожиданно для Владимира Сергеича, спросила его, когда он едет.
— Куда? — проговорил он с изумлением.
— К себе домой.
— В Сасово?
— Нет, домой, в вашу деревню, за сто верст отсюда.
Владимир Сергеич опустил глаза.
— Хотелось бы поскорей, — промолвил он с озабоченным лицом. — Думаю, завтра… если только жив буду. Ведь у меня дела! Но почему вам вдруг вздумалось спросить меня об этом?
— Так! — возразила Надежда Алексеевна.
— Однако какая причина?
— Так! — повторила она. — Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер…
— Но позвольте… — начал было Владимир Сергеич…
— Ах, вот кстати… прочтите, — со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билет с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столика, а сама поднялась навстречу Марье Павловне, остановившейся перед ней вместе с другой дамой.
Марья Павловна танцевала с Петром Алексеичем. Лицо ее покрылось румянцем, разгорелось, но не повеселело.
Владимир Сергеич взглянул на билет — на нем плохими французскими буквами было напечатано:
Qui me n?glige, me perd.[275]Он поднял глаза и встретил взор Стельчинского, устремленный прямо на него. Владимир Сергеич усмехнулся принужденно, облокотился на спину стула и положил ногу на ногу. «Вот, мол, тебе!»
Пламенный артиллерист примчал Надежду Алексеевну к ее стулу, лихо повертелся с ней пред ним, поклонился, звякнул шпорами и ушел. Она села.
— Позвольте узнать, — начал с расстановкой Владимир Сергеич, — как мне понять этот билет…
— А что бишь на нем стояло, — проговорила Надежда Алексеевна. — Ах да! Qui me n?glige, me perd. Что ж! Это прекрасное житейское правило, которое на каждом шагу может пригодиться. Для того, чтоб успеть в чем бы то ни было, не нужно ничем пренебрегать… Должно добиваться всего: может быть, хоть что-нибудь достанется. Но мне смешно, я… я вам, практическому человеку, толкую о житейских правилах…
Надежда Алексеевна засмеялась, и уже напрасно, до самого конца мазурки, старался Владимир Сергеич возобновить напряженный разговор. Надежда Алексеевна уклонялась от него с своенравием прихотливого ребенка. Владимир Сергеич толковал ей о своих чувствах, а она либо не отвечала ему вовсе, либо обращала его внимание на платья дам, на смешные лица иных мужчин, на ловкость, с которой танцевал ее брат, на красоту Марьи Павловны, заговаривала о музыке, о вчерашнем дне, о Егоре Капитоныче и супруге его Матрене Марковне… и только при самом конце мазурки, когда Владимир Сергеич начал с ней раскланиваться, с иронической улыбкой на губах и во взоре проговорила:
— Итак, вы решительно завтра едете?
— Да; и, может быть, очень далеко, — значительно промолвил Владимир Сергеич.
— Желаю вам счастливого пути.
И Надежда Алексеевна быстро приблизилась к своему брату, весело шепнула ему что-то на ухо, потом спросила громко:
— Благодарен мне? Да? не правда ли? а то бы он ее пригласил на мазурку.
Он пожал плечами и промолвил:
— Все-таки ничего из этого не выйдет…
Она увела его в гостиную.
«Кокетка!» — подумал Владимир Сергеич и, взяв шляпу в руку, выскользнул незаметно из залы, сыскал своего лакея, которому он заранее приказал быть наготове, и уже надевал пальто, как вдруг, к крайнему его изумлению, лакей доложил ему, что ехать нельзя, что кучер неизвестно каким образом напился пьян и что разбудить его нет никакой возможности. Выбранив кучера необыкновенно кратко, но чрезвычайно сильно (дело происходило в передней, посторонние свидетели присутствовали) и объявив лакею, что если завтра чуть свет кучер не будет в исправности, то никто в мире не в состоянии себе представить, что из этого может выйти, Владимир Сергеич вернулся в залу и попросил дворецкого отвести ему комнатку, не дожидаясь ужина, уже приготовляемого в гостиной. Хозяин дома вдруг словно вырос из-под полу возле самого локтя Владимира Сергеича (Гаврила Степаныч носил сапоги без каблуков и потому двигался безо всякого шума) и начал его удерживать, уверяя, что за ужином будет икра первый сорт; но Владимир Сергеич отговорился головною болью. Полчаса спустя он уже лежал на небольшой кроватке, под коротким одеялом, и силился заснуть.
Евдокия Ростопчина
ИскушениеДвенадцать бьет, двенадцать бьет!..О, балов час блестящий, —Как незаметен твой приходСреди природы спящей!Как здесь, в безлюдной тишине,В светлице безмятежной,Ты прозвучал протяжно мне,Беззывно, безнадежно!Бывало, только ты пробьешь,Я в полном упоеньи,И ты мне радостно несешьВсе света обольщенья.Теперь находишь ты меняЗа книгой, за работой…Двух люлек шорох слышу яС улыбкой и заботой.И светел, сладок мой покой,И дома мне не тесно…Но ты смутил ум слабый мойТревогою безвестной;Но ты внезапно оживилМои воспоминанья,В безумном сердце пробудилБезумные желанья!И мне представилось: теперь танцуют там,На дальной родине, навек избранной мною…Рисуются в толпе наряды наших дам,Их ткани легкие с отделкой щегольскою;Ярчей наследственных алмазов там блестятГлаза бессчетные, весельем разгоревшись;Опередив весну, до время разогревшись,Там свежие цветы свой сыплют аромат…Красавицы летят, красавицы порхают,Их вальсы Ланнера и Штрауса увлекаютНеодолимою игривостью своей…И все шумнее бал и танцы все живей!И мне все чудится!.. Но, ах! в одном мечтанье!Меня там нет! меня там нет!И, может быть, мое существованьеДавно забыл беспамятный сей свет!В тот час, когда меня волнует искушенье,Когда к утраченным утехам я стремлюсь,Я сердцем мнительным боюсь, —Что всякое о нем умолкло сожаленье…Что если бы теперь меж них предстала я,Они спросили бы, минутные друзья:«Кто это новое явленье?»О! пусть сокроются навек мои мечты,Мое пристрастие и к обществу и к светуОт вас, гонители невинной суеты!Неумолимые, вы женщине-поэтуВелите мыслию и вдохновеньем жить,Живую молодость лишь песням посвятить,От всех блистательных игрушек отказаться,Все нам врожденное надменно истребить,От резвых прихотей раздумьем ограждаться.Вам, судьи строгие, вам недоступен он,Ребяческий восторг на праздниках веселых!Вы не поймете нас, — ваш ум предубежден,Ваш ум привык коснеть в мышлениях тяжелых.Чтоб обаяние средь света находить,Быть надо женщиной иль юношей беспечным,Бесспорно следовать влечениям сердечным,Не мудрствовать вотще, радушный смех любить…А я, я женщина во всем значенье слова,Всем женским склонностям покорна я вполне;Я только женщина, — гордиться тем готова,Я бал люблю!.. отдайте балы мне!
Николай Гоголь
Мертвые души
Отрывок из поэмыО себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими места ми, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и недостоин того, что бы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, по чел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами.
Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских: имели так же весьма чисто, обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват; волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы; волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он на конец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, не сколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном.
……………………………………………………………………………….
Немного спустя принесли к нему, точно, приглашенье на бал к губернатору — дело весьма обыкновенное в губернских городах; где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.
Все постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого созданья света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи увеpeн, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» — и стал одеваться. Самое довольнoe расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостию, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод и упала со стола щетка.
Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «А нижний земский суд отвечает на это…», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору… Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, — только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые от него подалее и которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода, какой-нибудь полицейский, от роду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот, по неизменным законам отражения, выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собрался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему, несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова.
Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо, в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» — и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга; чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось…
— Вона! Пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и, как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать, нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, — сказал сам в себе Чичиков, — женщины, это такой предмет… — Здесь он и рукой махнул: — Просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки, а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек, — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну, попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает, какого нет еще! И жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге, так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком.
Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода и ничего больше!»
Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений, по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии. А вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рот да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.
…………………………………………………………………………………
Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становится обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пpeнеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.
Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, — что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла ласковым и несколько даже лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович! так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами. Герой наш поворотился в ту же минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.
Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку, с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги: ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.
— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша. — Институтка, только что выпущена.
Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, не платок ли, но платок в кармане, не деньги ли, но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостию и любезностию: «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаетe?», «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?», «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?». Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренне решилась употребить все возможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, я говорю, у некоторых, это не то, что у всех, есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза, и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос» или «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» — а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностию опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, — которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите[276] в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, — не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.
Но все это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колебалась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он пpoтеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собой целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость.
Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви, но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький-тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и cветлою из мутной и непрозрачной толпы.
Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов, но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но… здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики, и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Флора Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами Софьей Александровной и Маклатурой Александровной.
Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось, вместе с запахом фиалок, довольно колкое и язвительное замечание. Но или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо; ибо мнением дам нужно дорожить; в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть, поздно.
Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего, что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели после наглого завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.
А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев.
Иван Тургенев
Отцы и дети
Отрывок из романаНесколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал, собственно, из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier fran?ais»[277] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясно го, но приветливого мычания, в котором только и можно было разобрать, что «я…» да «cсьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchant?»[278]. Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi»[279] и т. п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским шиком, и в то же время говорил «si j’aurais» вместо «si j’avais»[280], «absolument»[281] в смысле: «непременно», словом, выражался в том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».
Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось, и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил:
— Одинцова приехала.
Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.
— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.
— Коротко. Хотите, я вас представлю?
— Пожалуй… после этой кадрили.
Базаров также обратил внимание на Одинцову.
— Это что за фигура? — проговорил он. — На остальных баб не похожа.
Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она слышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?
— Точно так.
— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, — продолжала она, — я очень рада с вами познакомиться.
В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась.
— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.
— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?
— Помилуйте, как можно… Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.
Одинцова снисходительно усмехнулась.
— Извольте, — сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.
Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она также непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.
Аркадий ощутил на сердце некоторую робость, когда, при первых звуках мазурки, он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастием находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое…
— С кем вы это стояли, — спросила она его, — когда господин Ситников подвел вас ко мне?
— А вы его заметили? — спросил, в свою очередь, Аркадий. — Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.
Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».
Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным… но молодые сердца не тяготятся этим чувством.
Музыка умолкла.
— Mersi, — промолвила Одинцова, вставая. — Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.
Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновение она уже забыла о моем существовании», — почувствовал на душе какое-то изящное смирение…
— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок, — получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?
— Я этого определенья не совсем понимаю, — отвечал Аркадий.
— Вот еще! Какой невинный!
— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что…
— В тихом омуте… ты знаешь! — подхватил Базаров. — Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть, ведь ты любишь мороженое?
— Может быть, — пробормотал Аркадий, — я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.
— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.
Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось…
— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? — проговорил он вполголоса.
— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.
Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.
Иван Бунин
ВальсПохолодели лепесткиРаскрытых губ, по-детски влажных —И зал плывет, плывет в протяжныхНапевах счастья и тоски.Сиянье люстр и зыбь зеркалСлились в один мираж хрустальный —И веет, веет ветер бальныйТеплом душистых опахал.
Лев Толстой
Анна Каренина
Отрывок из романа
XXIIБал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движенья, и, пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически и платья, из залы послышались осторожно-отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любуясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити.
Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху ее.
Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно.
Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер ба лов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которою он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и под бежал к ней тою особенною, свойственною только дирижерам балов развязною иноходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.
— Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он ей, обнимая ее талию, — а то, что за манера опаздывать.
Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых башмаках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету.
— Отдыхаешь, вальсируя с вами, — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. — Прелесть, какая легкость, precision, — говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым.
Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, — она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своею лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества; туда смотрели юноши, не смея подойти; и там она нашла глазами Стиву и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрел на нее.
— Что ж, еще тур? Вы не устали? — сказал Корсунский, слегка запыхавшись.
— Нет, благодарствуйте.
— Куда же отвести вас?
— Каренина тут, кажется… отведите меня к ней.
— Куда прикажете.
И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и, лавируя между морем кружев, тюля и лент и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее к Анне Аркадьевне. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда вы бивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.
Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная.
Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову.
— Нет, я не брошу камня, — отвечала она ему на что-то, — хотя я не понимаю, — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежною улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити, одобрительное ее туалету и красоте движенье головой. — Вы и в залу входите, танцуя, — прибавила она.
— Это одна из моих вернейших помощниц, — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. — Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса, — сказал он, нагибаясь.
— А вы знакомы? — спросил хозяин.
— С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, — отвечал Корсунский. — Тур вальса, Анна Аркадьевна.
— Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она.
— Но нынче нельзя, — отвечал Корсунский.
В это время подходил Вронский.
— Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского.
«За что она недовольна им?» — подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и дол го потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.
— Pardon, pardon! Вальс, вальс! — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.
XXIIIВронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать не сколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор то о Корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть vis-avis с Вронским и Анной. Она не сходилась с Анной с самого приезда и тут вдруг увидала ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство, и знала его признаки, и видела их на Анне — видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений.
«Кто? — спросила она себя. — Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело-громким повелительным крюкам Корсунского, то бросающего всех в grand rond, то в chaine, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. «Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале лица Анны, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, — каждый раз как будто говорил его взгляд, — но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде.
Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтоб ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтоб она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитою.
Она зашла в глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце. «А может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не было?» И она опять вспоминала все, что она видела.
— Кити, что ж это такое? — сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. — Я не понимаю этого.
У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.
— Кити, ты не танцуешь мазурку?
— Нет, нет, — сказала Кити дрожащим от слез голосом.
— Он при мне звал ее на мазурку, — сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. — Она сказала: разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?
— Ах, мне все равно! — отвечала Кити.
Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого.
Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити.
Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастие ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.
Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.
Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала, Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее — так она изменилась.
— Прекрасный бал! — сказал он ей, чтобы сказать чего-нибудь.
— Да, — отвечала она.
В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой.
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити.
Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее.
— Полно, Анна Аркадьевна, — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака.
— Какая у меня идея котильона! Un bijou!
И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно.
— Нет, я не останусь, — ответила Анна улыбаясь; но, несмотря на улыбку, и Корсунский и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется. — Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, — сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. — Надо отдохнуть перед дорогой.
— А вы решительно едете завтра? — спросил Вронский.
— Да, я думаю, — отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.
Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.
Афанасий Фет
БалКогда трепещут эти звукиИ дразнит ноющий смычок,Слагая на коленях руки,Сажусь в забытый уголок.И, как зари румянец дальныйИль дней былых немая речь,Меня пленяет вихорь бальныйИ шевелит мерцанье свеч.О, как, ничем неукротимо,Уносит к юности былойВблизи порхающее мимоКруженье пары молодой!Чего хочу? Иль, может статься,Бывалой жизнию дыша,В чужой восторг переселятьсяЗаране учится душа?
Антон Чехов
Анна на шее
Отрывок из рассказа
IIНаступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер, после карт, Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:
— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.
И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux[282] и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.
Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:
— Вот ты у меня какая… вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. — Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!
Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» — и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу… Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.
— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом, — и никогда еще я так не жалел, что ты по спешила замуж… Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но… — Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.
Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.
«Как он мил, когда трезв!» — думала она.
Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.
— Браво, браво!.. — говорили в публике.
Но мало-помалу и громадного офицера прорвало: он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки… Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.
— Очень рад, очень рад… — начал он. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку. — Вы должны помочь нам… М-да… Нужно назначить вам премию за красоту… как в Америке… М-да… Американцы… Моя жена ждет вас с нетерпением.
Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.
— Помогите нам, — сказала она в нос, нараспев. — Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?
Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и все это молча, страдая астмой… Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась, и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.
МаскаВ Х — ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли мест ные барышни, бал-парей.[283]
Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыcлили».
Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.
— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!
Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакеи с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.
— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол… Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь… нечего тут!
Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.
— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь, некогда тут с газетами да с политикой… Бросайте!
— Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет… Здесь не место пить.
— Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудн?! Но… некогда разговаривать! Бросайте газеты… Почитали малость и будет с вас, и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего — я не желаю и все тут.
Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.
— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!
Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.
— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..
— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь…
Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.
— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это… это даже сверхъестественно…
— Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно… Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти… Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!
— То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю… Какой-то нахал врывается сюда и… вдруг этакие вещи!
— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!
— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!
Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.
— Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!
— Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал?
— Прошу не тыкать, а извольте выйти!
— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний… Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.
— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!
— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч?
Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.
— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил… Хе-хе-хе!
— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Ев-страт Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!
B читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.
Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
— Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз… два… три!!.
Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.
В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению.
— Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.
Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.
— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал?
— Не велели сказывать-с!
— Нe велели сказывать… Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать».
Вон!!. А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа… Не люблю, ей-богу!
Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе… Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.
В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил го лову и захрапел.
— Не играйте! — замахали старшины музыкантам. — Тсс!.. Егор Нилыч спит…
— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.
Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.
— Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин, — или сказать, чтоб экипаж подали?
— А? Ково? Ты… чево тебе?
— Проводить домой-с… Баиньки пора…
— До-домой желаю… Прроводи!
Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.
— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу… Ха-ха… А мы-то кипятимся, хлопочем! Xa-xа! Верите, и в театрах никогда так не смеялся… Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!
Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится.
— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..
Дорогие уроки
Отрывок из рассказаАлиса Осиповна явилась однажды на урок в нарядном розовом платье, с маленьким декольте, и от нее шел такой аромат, что казалось, будто она окутана облаком, будто стоит только дунуть на нее, как она полетит или рассеется, как дым. Она извинилась и сказала, что может заниматься только полчаса, так как с урока пойдет прямо на бал.
Он смотрел на ее шею и на спину, оголенную около шеи, и, казалось ему, понимал, отчего это француженки пользуются репутацией легкомысленных и легко падающих созданий; он тонул в этом облаке ароматов, красоты, наготы, а она, не зная его мыслей и, вероятно, нисколько не интересуясь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всех парах:
— Он ходил на улице и встречал господина своего знакомого и сказал: «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое бледное, это делает мне больно».
M?moires давно уже были кончены, и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Раз она пришла на урок часом раньше, извиняясь тем, что в семь часов ей нужно ехать в Малый театр. Проводив ее после урока, Воротов оделся и тоже поехал в театр. Он поехал, как казалось ему, только затем, чтобы отдохнуть, развлечься, а об Алисе у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьезный, готовящийся к ученой карьере, тяжелый на подъем, бросил дело и поехал в театр только затем, чтобы встретиться там с малознакомой, не умной, малоинтеллигентной девушкой…
Но почему-то в антрактах у него билось сердце, он, сам того не замечая, как мальчик, бегал по фойе и по коридорам, нетерпеливо отыскивая кого-то; и ему становилось скучно, когда антракт кончался; а когда он увидел знакомое розовое платье и красивые плечи под тюлем, сердце его сжалось, точно от предчувствия счастья, он радостно улыбнулся и первый раз в жизни испытал ревнивое чувство.
Алиса шла с какими-то двумя некрасивыми студентами и с офицером. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала; такою никогда не видел ее Воротов. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренна, тепла. Отчего? Почему? Оттого, быть может, что эти люди были близки ей, из того же круга, что и она… И Воротов почувствовал страшную пропасть между собой и этим кругом. Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо; ей, по-видимому, не хотелось, чтобы ее кавалеры знали, что у нее есть ученики и что она от нужды дает уроки.
После встречи в театре Воротов понял, что он влюблен… Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собою, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холодным, ровно в восемь часов каждого вечера она спокойно говорила «au revoir, monsieur», и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушной и — положение его безнадежно.
Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно любовное объяснение, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь ее на терраcy. Раз он, опьянев, забывшись, как в бреду, не выдержал и, загораживая ей дорогу, когда она выходила после урока из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви:
— Вы мне дороги! Я… я люблю вас! Позвольте мне говорить!
А Алиca побледнела — вероятно, от страха, соображая, что после этого объяснения ей уж нельзя будет ходить сюда и получать рубль за урок; она сделала испуганные глаза и громко зашептала:
— Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас! Нельзя!
И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, бранил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже не придет к нему.
Он решил узнать утром в адресном столе ее адрес и написать ей извинительное письмо, но Алиса пришла и без письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потом раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, как всегда:
— О, молодой господин, не разрывайте эти цветы в моем саду, которые я хочу давать своей больной дочери…
Ходит она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротов не знает ничего, кроме слова «m?moires», и когда его спрашивают об его научной работке, то он машет рукой и, не ответив на вопрос, заводит речь о погоде.
Николай ЛистовЯ помню вальса звук прелестныйВесенней ночью в поздний час,Его пел голос неизвестный,И песня чудная лилась.Да, то был вальс прелестный, томный,Да, то был дивный вальс!Теперь зима, и те же елиПокрыты сумраком стоят,А под окном шумят метели,И звуки вальса не звучат…Где ж этот вальс старинный, томный,Где ж этот дивный вальс!
Александр Куприн
Юнкера
Отрывок из романа
Глава ХХ
Полонез— Полонез, господа, приглашайте ваших дам, — высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. — Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.
Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.
— Позвольте просить вас на полонез, — сказал юнкер с поклоном.
Ее улыбка стала еще милее.
— Благодарю, с удовольствием.
Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», — подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары.
— Я видела, как вы делали реверанс нашей славной ma-man, — сказала девушка. — У вас вышло очень изящно.
Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят.
— А в особенности насмешливые глаза хорошеньких барышень, — подхватил Александров.
— Признайтесь, вы сильно волновались?
— Скажу вам по секрету — ужасно! Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, а вообразил, что я — это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно.
Она весело засмеялась.
— И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю. Я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке: подруги, или классной дамы, или учителя, и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт… Но посмотрите, посмотрите вперед. — Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. — Видите, кто в первой паре?
В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Олсуфьев в темно-зеленом мундире (теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета) и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей голо вой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками казалась еще бо лее жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент.
— Боюсь, смешной у них выйдет полонез, — сказал с непритворным сожалением Александров.
— Ну вот, уж непременно и смешной, — заступилась его прекрасная дама. — Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих.
Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал:
— Прошу! По-ло-нез!
Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него; протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев.
Сверху, с хор, раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова.
— Это — Глинка, — сказал шепотом Александров.
— Да, — ответила она так же тихо. — Из «Жизни за царя». Превосходно, я обожаю эту оперу.
Александров, не переставший глядеть вперед, туда, где полукругом загибала вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился, по дурной школьной привычке, черным словом.
— Ч… — но он быстро сдержался на разлете. — Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь только, граф-то ваш и начальница. Охотно беру свои слова обратно.
И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно-изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными, прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверенны и женственны: наклоняла ли она голову к своему кавалеру или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны.
И граф Олсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да! Теперь он был лихой гусар прежних золотых, легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова.
Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вот вдруг бал в Вильно, по случаю приезда государя, только что слезши с коня, едва успев переодеться и надушиться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Олсуфьев бросает на свою очаровательную даму!.. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или, по крайней мере, на сутки.
— Как они оба хороши, — говорит восхищенно Александров, — не правда ли, это какое-то чудо!
— Ну что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись.
В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он, — правда, не поет, — но выговаривает речитативом:
Вчера был бой,Сегодня бал,Быть может, завтра снова в бой.Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями.— Нам начинать, — говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями.
— Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня, — говорит Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. — Как я рад. И подумать только, что из-за пустяка, но маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать.
— Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?
— Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства.
— Ах, бедный, как я вас жалею!
— Ну да, по наряду. Я стал отговариваться. Я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло.
— Ах, несчастный, несчастный.
— Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в Благородное собрание.
— Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной погибели.
— О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени наверху блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую…
— Нет, нет, — смеясь, перебивает его она. — Только, пожалуйста, не о чувствах. Это запрещено.
— О чувствах, приходящих мгновенно и сразу… овладева…
— Тем более, тем более. Танцуйте старательнее и не болтайте пустяков.
Она обмахивается веером. Она — девочка — кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие, гримаски она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки.
«Точно природа закончила изящный, неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее — совершенство».
Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется.
— Могу ли я просить вас на вальс?
— Хорошо.
— И на первую кадриль.
— По-вашему, это не слишком много?
— И еще на третью.
— Нет, это невозможно.
Но она благодарит улыбкой.
Глава XXI
ВальсВкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов — члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.
Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.
— В три темпа или в два? — спрашивает Александров.
— Если хотите, то в три, а уж потом в два.
В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки.
В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежности смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону.
О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зло вещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога — другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но та секунда уплыла навсегда…
Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку. Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.
Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцорки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.
— Ты очень ловкий кавалер, Алеша, — говорила она, — но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой. Или точно играешь на немом пианино.
Он ей отвечал не менее любезно:
— А я тебя обнимаю, точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная.
Однако никогда еще в жизни не случалось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы, их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них — одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.
Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка, нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевитыми реющими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством бриллиантов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блестки.
И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу — танцу-полету — не будет конца.
Не глядя, видел, нет, скорее чувствовал Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?
И точно отвечая на его безмолвный вопрос, — это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, — она сказала:
— Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.
Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.
— Какие у вас славные духи, — сказал Александров.
Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо.
— О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.
— Не позволяют?
— Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша maman как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».
Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание… Да… Положительно, оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:
— Я не могу выразить словом, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.
— Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест… соскучимся…
Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукой своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить eго слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умевший лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной, нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не разрешил этого вопроса.
Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.
— Я, кажется, немного устала, — сказала она. — Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.
Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.
Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя — Зинаида Белышева.
— Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида — это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида — как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида…
— Очень красиво — Зина, — подсказал юнкер.
— Да, для мамы и папы, — схитрила она. — Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?
— Признаться, не слыхал.
— Да, да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого, есть какой-то мужик Зина. И кажется, не очень-то порядочный.
— А Зиночка?
— Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат — просто Зинка-резинка.
— Я вас буду мысленно называть Зиночкой, — сболтнул юнкер.
— Не смейте. Я вам это не позволяю, — сказала она, непринужденно смеясь.
— Но кто же может знать и контролировать мысли? — возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.
Она воскликнула с увлечением:
— Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно — чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?
Юнкер поклонился головою.
— Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?
И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги…
— А теперь пойдемте еще потанцуем, — сказала она, вставая. — Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж.
И она опять слегка покраснела.
Глава XXII
СсораОни танцуют третью кадриль. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль; круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик — вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.
— Не правда ли, как мила? — вполголоса спрашивает Зиночка.
Александров наклоняется к ней.
— Просто прелесть, — говорит он. — Она, наверно, получила бы первый приз на выставке.
Зиночка смотрит на него с легким недоверием.
— На какой выставке? Я вас не поняла.
— На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.
Зиночка сердится и как будто непритворно:
— Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло — это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы — Зоил.
«Зоил… вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? — Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. — Зола и ил… Что-то не особенно лестное, не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.
— Тогда прошу простить, — смиренно говорит он. — Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил, и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелло очаровательна.
Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз.
— Вы правы, — говорит она с кротким вздохом. — Я бы очень хотела быть такой, как она.
Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно. Какой я тюлень!
Но оркестр играет вторую ритурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадриль — попурри из русских песен. Он знает наивные и смешные слова:
Нет, нет, нет,Она меня не любит.Нет, нет, нет,Она меня погубит.Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякаемой болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоской замечает, что все его кадрильные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются, он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» — и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.
Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Проделывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и балянсе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме, о звездах, д?хах и дух?х, о Царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и хмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр, как нарочно, поддразнивает его в пятой фигуре:
Нет, нет, нет,Она меня не любит… —и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!»
Ужасно много времени длится эта злополучная кадриль, наконец она кончена.
— Гран-рон![284] — кричит адъютант, весело раскатываясь на рр…
Зиночка Белышева от гран-рон отказывается.
— Я не люблю этой тесноты и толкотни, — говорит она.
Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка.
Зиночка садится на стуле в галерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.
— Простите. Меня зовет подруга.
И, быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.
«Все кончено», — говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова.
Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга? — подумал огорченный юнкер. — Просто ей хочется отделаться от меня…»
Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. «Неужели это все — только коварная игра?»
Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александров конца затянувшегося гран-рон и наконец дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой, на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый Дрозд».
Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пятнадцать шагов. Но откуда ни возьмись появляется перед нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он поклонился, как снисходительно, нехотя, обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти брезгливо шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белобрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» — думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.
Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился:
— Можно просить вас?
— Ах! Только не теперь… Я ужасно устала.
Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.
Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности… Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость… Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.
Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, — все стали некрасивы, несимметричны и бледны.
Тоска!
Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет:
— Последний танец! Вальс!
Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом. Точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.
Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.
— Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? — сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.
— Я… я… собственно… — начал было он.
Но она перебила его:
— Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, — подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном полете.
И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым, свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.
На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец, просто на кидающееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и наконец становится совсем неприличным.
— Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная.
— Она и на меня так же глядела, — сказал Александров. — Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?
— У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним — это не принято. Но теперь мне все равно. J’ ai jet? le bonnet par dessus les moulins[285]. Завтра она пожалуется папе.
— А папа?
— Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?
Поединок
Отрывок из повести
VIIIКазармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем: в длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся в глубь грязного двора, занимали — столовая, кухня и «номера» для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного, узкого, коленчатого коридора; каждое колено соединялось с другим дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили — буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель.
Ромашов пришел в собрание в девять часов. Пять-шесть холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой.
В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек-Агамалов и Олизар, которого все в полку называли графом Олизаром, играли в пять шаров на пиво. Олизар — длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный — молодой старик, с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек-Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии: висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение; даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки.
Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами.
— Как здоровье Марьи Викторовны? — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики.
— Спасибо, голубчик, — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. — Конечно, нервы у нее… Такое время теперь.
— А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?
— Нет. Как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне: «У тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платья испортишь».
— Круазе в середину! Тонкая резь. Вынимай шара из лузы, Бек! — крикнул Олизар.
— Ты сначала делай шара, а потом я выну, — сердито отозвался Бек-Агамалов.
Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.
— У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеич, — сказал он просительно и запинаясь, — сегодня ведь вы распорядитель танцев?
— Да. Черт бы их побрал. Назначили. Я крутился-крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? «Подайте, говорит, свидетельство врача».
— Вот я вас и хочу попросить, голубчик, — продолжал Лещенко умильным тоном. — Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески.
— Марья Викторовна?
— Ну да. Пожалуйста уж.
— Желтый дуплет в угол, — заказал Бек-Агамалов. — Как в аптеке будет.
Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись, точно ижица, две сходящиеся к переносью жилы.
— Жамаис! — уверенно дразнил его Олизар. — Этого даже я не сделаю.
Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.
— Кикс! — радостно закричал Олизар и затанцевал канкан вокруг бильярда. — Когда ты спышь — храпышь, дюша мой?
Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.
— А ты не смей под руку говорить! — крикнул он, сверкая черными глазами. — Я игру брошу!
— Нэ кирпичись, дюша мой, кровь испортышь. Модистку в угол!..
К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.
— Ваше благородие, вас барыня просят в залу.
Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три — пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой:
— Подпоручик Ромашо-ов, прикажите сыграть что-нибудь для слу-уха. Пожа-алуйста…
— Слушаю-с. — Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну. — Зиссерман, — крикнул он старосте оркестра, — валяй для слуха!
Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей.
Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, — неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!..
Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи…
Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие, плотные; она — нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он — со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел:
— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?
— Нет еще. Все в столовой.
— Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того… пойду в столовую — «Инвалид» пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее… ну, там, какую-нибудь кадриленцию.
Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых — целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью — маленькой, живой женщиной, которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожала детей — «между второй и третьей кадрилью», как говорил про нее полковой остряк Арчаков-ский.
Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова:
— Отчего вы к нам не пьиходили?
— Звой, звой, звой!
— Нехолосый, нехолосый, нехолосый!
— Звой, звой!
— Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.
— Mesdames!.. Mesdames! — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.
В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидел за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, — все-таки он чувствовал тревогу; в выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза.
Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа; почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней.
Ромашов отыскал поручика Бобетинского и подошел к нему. Бобетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.
— Что? — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх. — А-а! Это вы? Эчень приэтно…
Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои двадцать четыре года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты.
— Петр Фаддеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня, — попросил Ромашов.
— Me, мон ами! — Бобетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза. — Но… мой дрюг, — перевел он по-русски. — С какой стати? Пуркуа?[286] Право, вы меня… как это говорится?.. Вы меня эдивляете!..
— Дорогой мой, пожалуйста…
— Постойте… Во-первых, без фэ-миль-ярностей. Чтэ это тэкое — дорогой, такой-сякой е цетера?[287]
— Ну, умоляю вас, Петр Фаддеич… Голова болит… и горло… положительно не могу.
Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть.
— Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фаддеевич. И кроме того, об этом также просила одна дама…
— Дама?.. — Бобетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо. — Дама? Дрюг мой, в мои годы… — Он рассмеялся с деланной горечью и разочарованием. — Что такое женщина? Ха-ха-ха… Юн енигм![288] Ну, хорошо, я, так и быть, согласен… Я согласен.
И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:
— Мон шер ами, а нет ли у вас… как это называется… трех рюблей?
— К сожалению!.. — вздохнул Ромашов.
— А рубля?
— Мм!..
— Дезагреабль-с…[289] Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.
— Увы! И кредита нет, Петр Фаддеевич.
— Да-а? О, повр анфан!..[290] Все равно, пойдем. — Бобетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. — Я вас приветствую.
В столовой между тем разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.
Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский — личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.
— Это хорошо дуэль в гвардии — для разных там лоботрясов и фигель-миглей, — говорил грубо Арчаковский, — а у нас… Ну, хорошо, я холостой… положим, я с Василь Василичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться — вон из полка; спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего… Чепуха все.
— Гето… ты подожди… ты повремени, — перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе, — ты понимаешь, что такое честь мундира?.. Гето, братец ты мой, та-акая штука… Честь, она… Вот, я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в тысячу восемьсот шестьдесят втором году.
— Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь, — развязно перебил его Арчаковский, — расскажите еще что-нибудь, что было за царя Гороха.
— Гето, братец… ах, какой ты дерзкий… Ты еще мальчишка, а я, гето… Был, я говорю, такой случай…
— Только кровь может смыть пятно обиды, — вмешался напыщенным тоном поручик Бобетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.
— Гето, был у нас прапорщик Солуха, — силился продолжать Лех.
К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты капитан Осадчий.
— Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать, — сказал он густым, рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. — Здравия желаю, господин подполковник. Здравствуйте, господа.
— А, колосс родосский, — ласково приветствовал его Лех. — Гето… садись ты около меня, памятник ты этакий… Водочки выпьешь со мною?
— И весьма, — низкой октавой ответил Осадчий.
Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда, для пользы службы, переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бранился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному, сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он не отрываясь глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул.
Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно:
— Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?
— Гето, братец ты мой, я сейчас рассказываю… Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон, — его солдаты звали «Под-Звон», — так он тоже однажды в собрании…
Но его перебил Липский, сорокалетний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.
— Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. «Треба, каже, як у нас у бурсе — дал раза по потылице и квит».
Затем дебатировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно тщились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было.
Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша, cо смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.
— Я только, господа… Я, господа, может быть, ошибаюсь, — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. — Но, по-моему, то есть я так полагаю… нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру. Безусловно. Но иногда, знаете, это… может быть, высшая честь заключается в том, чтобы… это… безусловно простить… Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи… вот…
— Эх вы, Декадент Иванович, — грубо махнул на него рукой Арчаковский, — тряпку вам сосать.
— Гето, да дайте же мне, братцы, высказаться!
Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий:
— Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьдесят шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю: из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка: «Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием». Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.
Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжение его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот, гето, я, братцы мои… да слушайте же, жеребцы вы». Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.
— Гето… хоть ты меня выслушай, прапор, — говорил Лех горестно, — садись, выпей-ка водочки… Они, братец мой, все — шалыганы. — Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки. — Гав, гав, гав, а опыта у них нет, я хотел рассказать, какой у нас был случай…
Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому — это, конечно, было в незапамятные времена — американскую дуэль, причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, — трудно было понять, кто именно, — Под-Звон или Солуха, прибегнул к мошенничеству: «Гето, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть… Этот и говорит тому…»
Но и на этот раз подполковник не успел, по обыкновению, докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее (что вообще было не принято), она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки:
— Господа, ну что-о же это такое! Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь! Мы хочем танцевать!
Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу, другие продолжали сидеть и курить и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания; зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением:
— Божественная! И как это начальство позволяет шу-щештвовать такой красоте! Рру-учку!.. Лобзнуть!..
— Юрий Алексеевич, — продолжала щебетать Петер-сон, — ведь вы, кажется, на сегодня назначены? Хорош, нечего сказать, дирижер!
— Миль пардон, мадам! Се ма фот!..[291] Это моя вина! — воскликнул Бобетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца. — Ваш-шу руку. Вотр мэн, мадам. Господа, в залу, в залу!
Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос — светского, как он воображал, дирижера:
— Мосье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!
— Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня, — сказал Ромашов.
— Эх, братец ты мой, — с сокрушением поник головой Лех. — И ты такой же перец, как и они все… Гето… постой, постой, прапорщик… Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала… гето… и стратега Мольтке?
— Господин подполковник, право же…
— А ты не егози… Сия притча краткая… Великий молчальник посещал офицерские собрания, и когда обедал, то… гето… клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете сто девяносто лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым. Что? Раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди, иди, воробышек… попрыгай…
IXВ зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бобетинский, распустив локти, точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой Тальман, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый, патлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую, розовенькую младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор; не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцуют обыкновенно с детьми. Пятнадцать других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались делать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным.
Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служило предметом особой гордости, теперь пошла с тонким, стройным Олизаром. Он держал ее руку точно пришпиленной к своему левому бедру; она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней Олизара, говорила с певучей томностью:
— Нет, ск’жи-ите, граф, отчего мне всегда так жарко? Ум’ляю вас — ск’жи-ите!..
Олизар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону.
— Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет.
И так как в это время Олизар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать.
— Ах, у меня всегда возвышенная температура! — продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный смысл. — Такой уж у меня горячий темперамент!..
Олизар коротко и неопределенно заржал.
Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением: «О, какая она противная!» И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья.
— Да, да, да, вы не смейтесь, граф. Вы не знаете, что моя мать гречанка!
«И говорит как противно, — думал Ромашов. — Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу: «боя бать гречадка».
В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрела на него прищуренными глазами.
Ромашов по привычке сказал мысленно: «Лицо его стало непроницаемо, как маска».
— Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подойдете поздороваться? — запела Раиса Александровна.
Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку.
— Я, по вашей просьбе, оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли?
Ромашов поклонился.
— Какой вы нелюбезный, — продолжала кривляться Петерсон. — Вам бы следовало сказать: аншанте, мадам[292] («Ад-шадте, бадаб», — услышал Ромашов!). Граф, правда, он мешок?
— Как же… Я помню, — неуверенно забормотал Ромашов. — Благодарю за честь.
Бобетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало-покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третьей кадрилью он оживился и, пролетая по зале, точно на коньках по льду, быстрыми, скользящими шагами, особенно громко выкрикнул:
— Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже во дам![293]
Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея vis-?-vis[294] Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. К третьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль залы и поперек. И тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза.
«Надо объясниться, надо положить конец, — думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна. — Довольно!» — «На его лице лежала несокрушимая решимость».
У полковых дирижеров установились издавна некоторые особенные приемы и милые шутки. Так, в третьей кадрили всегда считалось необходимым путать фигуры и делать, как будто неумышленно, веселые ошибки, которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. И Бобетинский, начав кадриль-монстр неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал grand-rond[295] и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам.
— Медам, авансе… виноват, рекуле! Кавалье, соло! Пардон, назад, балянсе авек во дам![296] Да назад же!
Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах:
— Я не позволю так со мною обращаться. Слышите? Я вам не девчонка. Да. И так порядочные люди не поступают. Да.
— Не будем сердиться, Раиса Александровна, — убедительно и мягко попросил Ромашов.
— О, слишком много чести — сердиться! Я могу только презирать вас. Но издеваться над собою я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?
— Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь вам.
— Ха! Вы мне морочите голову! Точно я не знаю, где вы бываете… Но будьте уверены…
— Кавалье, ан аван! Рон де кавалье[297]. А гош! Налево, налево! Да налево же, господа! Эх, ничего не понимают! Плю де ля ви, месьё![298] — кричал Бобетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами.
— Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки, — продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место. — Только напрасно она так много о себе воображает! Что она дочь проворовавшегося нотариуса…
— Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых, — сурово остановил Ромашов.
Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразною бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и, вся в пятнах, старалась перекричать музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и оттого, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова, а главное — потому, что на них уже начинали обращать внимание.
— Да, да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать нос! — кричала Петерсон. — Скажите пожалуйста, она нам неглижирует[299]. Мы и про нее тоже кое-что знаем! Да!
— Я вас прошу, — лепетал Ромашов.
— Постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда он дурак, не видит, что у него под носом делается. Да и то сказать — и поклонник же у нее!
— Мазурка женераль! Променад! — кричал Бобетинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела.
Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног, в такт мазурке зазвенели подвески у люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавеси на окнах.
— Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо? — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость. — Вы меня не любите больше… Простимся же добрыми друзьями.
— А-а! Вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь, мой милый, — она произнесла: «бой билый», — я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу достаточно надивиться на вашу низость…
— Кончим же скорее, — нетерпеливо, глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов.
— Антракт пять минут. Кавалье, оккюпе во дам![300] — крикнул дирижер.
— Да, когда я этого захочу. Вы подло обманывали меня. Я пожертвовала для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина… Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас я забыла обязанности жены и матери. О, зачем, зачем я не осталась верной ему!
— По-ло-жим!
Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми семьюдесятью пятью офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде: «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.
— А! Вы еще имеете наглость смеяться! Хорошо же! — вспыхнула Раиса. — Нам начинать! — спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь.
Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение, «точно у разозленного насекомого», — подумал Ромашов.
— Я этого не прощу вам. Слышите ли, никогда! Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли, не будет, не будет, не будет! Вместо того чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой… на всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха!..
— Ну хорошо, будем говорить начистоту, — со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. — Вы сами этого захотели. Да, это правда: я не люблю вас.
— Ах, скажи-ите, как мне это обидно!
— И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру, какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что, — Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского, — потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры!
— Ха, это, конечно, вы — избранная натура?
Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен.
— Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам, с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь «окружал» и чтобы другие видели это. Или, вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в то время когда на нас смотрели посторонние? Да, да, непременно, чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированной.
— Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас, — с напыщенной гордостью возразила Петерсон.
— Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю: вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того чтобы не потерять последнего вздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность супружескому алтарю.
— Нет, вы еще обо мне услышите! — зло и многозначительно прошептала Раиса.
Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой, чахоточный человек, с лысым желтым черепом и черными глазами — влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены.
Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами.
— Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас.
— Так… как-то… все занятия, — забормотал Ромашов.
— Знаем мы ваши занятия, — погрозил пальцем Петер-сон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова.
— А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите и о чем-то горячитесь. Что у вас?
Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи:
— Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно.
— А сам пляшет, — с ехидным добродушием заметил Петерсон. — Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю.
Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством:
— И этого святого, необыкновенного человека я обманывала!.. И ради кого же! О, если бы он знал, если б он только знал…
— Маз-зурка женераль! — закричал Бобетинский. — Кавалеры отбивают дам!
От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве: танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару. Вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучить момент, когда дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону; а сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета.
— Актриса! — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе. — Вас смешно и жалко слушать.
— Вы, кажется, пьяны! — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини меряют злодеев с головы до ног.
— Нет, скажите, зачем вы обманули меня? — злобно восклицал Ромашов. — Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если б вы это сделали по любви, ну, хоть не по любви, а по одной только чувственности. Я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки, для развлечения, даже без любопытства, а так… как горничные в праздники грызут подсолнышки. Поймите же: это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн… Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате!
С холодным потом на лбу он потухшими скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги величественная Тальман и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой, невинной, девической шейкой… Вот Олизар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом:
— Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного!
— Да, да, именно в роли… — вспыхнул Ромашов. — Сам знаю, что это смешно и пошло… Но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей любовью. И в этом виноваты вы, — слышите: вы, вы, вы! Вы старше и опытнее меня, вы уже достаточно искусились в деле любви.
Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула.
— Довольно! — сказала она драматическим тоном. — Вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас! Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещения нашего дома, где вас принимали, как родного, кормили и поили вас, но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу. Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все — значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную беззащитную женщину.
Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки, с упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и не понимал их. Но ему казалось, что и они, как и звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг.
Раиса с треском сложила веер.
— О, подлец-мерзавец! — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную.
Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения, и с души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет, теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там, в уборкой.
«Я падаю, я падаю, — думал он с отвращением и со скукой. — Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное… Эта развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука — где все это?»
Он пошел опять в столовую. Там Осадчий и товарищ Ромашова по роте, Веткин, провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий с серьезным лицом говорил рокочущей октавой, по-протодьяконски:
— Благослови, преосвященный владыка. Вррремя начатия служения…
По мере того как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов.
— Нет, нет, господа… позвольте, вот я вам расскажу! — кричал Арчаковский. — Приходит однажды солдат на постой к хохлу. А у хохла кра-асивая жинка. Вот солдат и думает: как бы мне это…
Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский:
— Нет, это что, господа… А вот я знаю один анекдот.
И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом:
— А вот тоже, господа. Дело было в Одессе, и притом случай…
Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные, и, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный.
Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова.
— Садитесь-ка, Жоржинька… Раздавим. Я сегодня богат, как жид. Вчера выиграл и сегодня опять буду метать банк.
Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом:
— Мы все, Павел Павлыч, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно… Друг мой, как мы живем! Как мы живем!
— Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь, — вяло ответил Павел Павлович. — Но вообще это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что та-такое за штука — энергетика?
— О, что мы делаем! — волновался Ромашов. — Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту — раз, два, левой, правой, — вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только — вся, вся жизнь!
Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким, дребезжащим тенорком:
В тиши жила,В лесу жила,И вертено крути-ила…— Плюнь на все, ангел, и береги здоровье.
И от всей своей душиПрялочку любила.Пойдем играть, Ромашевич-Ромашовский, я тебе займу красненькую.
«Никому это не понятно. Нет у меня близкого человека», — подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка, — такая сильная, такая гордая, красивая, — и что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца.
Он до света оставался в собрании, глядел, как играют в штос, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно. Ничего этим не поправлю».
Веткин, проигравший свои миллионы в пять минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица. Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. А Ромашов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли: о своем падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни.
Лев Толстой
После бала
Отрывок из рассказа— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал по вод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.
Так он сделал и теперь.
— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.
— От чего ж? — спросили мы.
— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.
— Вот вы и расскажите.
Иван Васильевич задумался, покачал головой.
— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменилась от одной ночи или скорее утра.
— Да что же было?
— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б…, да, Варенька Б… — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.
— Каково Иван Васильевич расписывает.
— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.
— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.
— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, по тому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.
По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore»[301]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.
— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.
Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:
— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr[302], хороший был писатель, — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете…
— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.
— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.
— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к месту.
— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она, улыбаясь.
— Я не дам, — сказал я.
— Дайте же веер, — сказала она.
— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.
— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.
Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.
— Смотрите, пап? просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.
— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.
Варенька подошла к двери, и я за ней.
— Уговорите, ma ch?re[303], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми ? lа Nicolas I[304] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.
Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.
Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», — думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.
— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.
Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.
Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.
После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.
Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «Гордость? да?» — и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.
Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до поло вины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вы шел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.
Константин Веригин
Благоуханность
Отрывок из биографической повести
БалМолодость неисчерпаемо богата яркими чувствами и переживаниями. Кажется порой, что с годами многое забывается, но, чем старше становишься, тем более выступают из глубины сознания свежие, молодые воспоминания, и среди них во всех своих милых подробностях сияют первые наши балы. Сколько грез, волнений и мечтаний они вызывали! К ним готовились неделями, месяцами, и в воспоминаниях они кажутся чудесными, нереальными, выхваченными из обычной жизни, овеянными музыкой, сказочными встречами прекрасного принца и задумчивой Царь-Девицы. Само ожидание бала было чудесным, наполненным грезами; каждый новый день увеличивал радость будущего, манил и звал. И вот, наконец, просыпаешься с чувством, что ждать остается лишь до вечера, что день бала уже наступил.
Платья, вызывавшие столько размышлений, разговоров и примерок, готовы. Легкие, светлые, воздушные — в них та же девичья прелесть, что и в их юных хозяйках. Сшитые обычно не в больших домах, а местными швеями по моделям модных журналов, они были все же полны милой фантазии и скромной простоты, так как о больших декольте у барышень и речи быть не могло.
Конец Первой мировой войны связан для меня даже не с настоящими балами, а с нарядными танцевальными вечерами, уютными, семейными, таки ми же, вероятно, какие устраивали наши отцы в дни своей молодости. Уклад жизни тогда еще не менялся так быстро, как он меняется в наши дни. Люди были гостеприимны и просты; принимали широко, но поразить никого не хотели, хотя и готовили все на славу. Танцевали еще старинные польки, венгерку, мазурку и краковяк, полонез, кадриль, падекатр и падеспань, и новшеством являлись танго и фокстрот. Однако высшим достижением бальных танцев, уносивших нас на крыльях, опьянявших своей воздушностью и быстротой, был вальс. И музыка его, веселая, разнообразная, легкая, певучая, всегда особенно ярко отзывалась в душе.
Фокстрот тоже танцевался легко и весело, но настоящим танцем его не считали; роль же танго была тогда еще не столь значительной, как стало позже. О нем рассказывали немало анекдотов, порой не совсем скромных; но мы, молодежь, еще не ощущали его задумчивого ритма, таинственных замедлений, страстности.
В жизни молодежи танец занимает всегда большое место, и, быть может, это объясняется тем, что ничто так быстро, приятно и легко не сближает, как он. Не надо думать о теме разговора, не надо угадывать мысли партнера, уметь заинтересовать его, достаточно отдаться музыке и знать, что всем танцующим так же весело и легко, как тебе.
В нарядном, залитом светом зале танец имеет свою особую магию. Как часто вызывает он увлечение, влюбленность и даже любовь. Хорошо танцующая дама вся отдается его ритму и вверяется своему кавалеру; он же, попадая под власть музыки, теряет свою отчужденность и незаметно для себя, в благоуханной близости своей дамы, попадает во власть ее очарования…
Бальный зал казался мне всегда волнующей оранжереей, чудесным зимним садом, в котором, как яркие и нежные цветы, в переливах огней, в волнах музыки мелькают благоуханные девушки.
Роль духов на балу особенно велика. Нигде условия для их полного аккорда не являются такими благоприятными. Все содействует этому: температура в зале и теплота тел танцующих, свет и музыка, движение и желание нравиться, уверенность в своем очаровании и молодость и, вероятно, еще целый ряд других причин… Роль духов, их увлекающую силу женщина поняла раньше мужчины и прибегает к ней все чаше и чаще. Правильно вы бранные духи, их постоянство — и женский облик встает в памяти с особой силой, полный власти, шарма и обаяния. И когда через многие годы вспоминается прошлое, то не ярче ли всего милого и ушедшего воскресает в памяти веяние аромата!..
И вот сейчас, переносясь мыслью на первые мои балы, в благоуханной прелести духов я вновь вижу милые лица, слышу молодые голоса.
На этот памятный вечер приехали мы с небольшим опозданием. Из зала неслись лихие звуки мазурки, и пара за парой мелькали перед нами. Дамы казались легкими, воздушными, как птицы, а кавалеры, полные мужественной отваги, гремели шпорами и каблуками.
Вот пролетает Милочка — общая наша любимица… Невысокая, тоненькая, прелестная шатенка с огромными темными и яркими глазами. Она весела до озорства. Все притягивает в ней, волнует, захватывает, и она не скрывает своего желания взять от жизни все радости. Восторг ее передается окружающим и пленит их, как и она сама. Кажется, есть в ней что-то южное, вакхическое, хотя она и русская без всякой примеси иной крови. На ней коричневая туника под цвет ее глаз, и надушена она недавно появившимся, замечательным «Chypre» от Коти. Задорность ее юной благоуханности как нельзя лучше дополняется и подчеркивается искристой душистостью «Chypre», создавая незабываемый облик.
Немало на балу девушек красивее ее, и все же она остается одной из его цариц; и много юных поклонников окружают ее и мечтают танцевать с ней. «Chypre» и она, она и «Chypre» кружат голову, манят счастьем, весельем, молодостью…
Напевный вальс сменяет мазурку. Плавно, легко скользят пары. Близость танцующих рождает мечты, мечты переходят в надежды, сливаются с музыкой, танцем, слегка пьянят.
Золотая головка, нежно-голубое платье — это проносится первая красавица бала — Надин. Ее родители, крупные коммерсанты из Балтийских провинций, малопривлекательные люди. Как случилось, что их единственная дочь воплотила в себе такую чудесную античную красоту? Все в ней безукоризненно. Маленькая головка на красивой, точеной шее, большие глаза, нежный овал лица, чудесная кожа, тонкое сложение, породистые руки и ноги, но холодом веет от нее, даже вальсирует она безжизненно и невесело. Я часто встречал ее и знал, что у нее немало хороших, дорогих духов, но на ней они теряли свой аромат, разрушались. И хотя и думала она и читала не менее других, разговаривать с ней было трудно. Она казалась нам ста туей, лишенной прелести, благоухания, теплоты живого существа, и, несмотря на редкую красоту, успеха она не имела.
Закончился вальс, но мы не успеваем сесть и обменяться впечатлениями, как задорная мелодия падекатра зовет нас опять в зал.
Быстро наполняется он парами, стремительно несущимися в танце, исполняющими несложные фигуры с детства знакомого танца. Да и есть в нем что-то детское, наивное.
В паре с высоким, стройным брюнетом проносится Люся. Ей только что минуло семнадцать. Она, высокая, стройная, длинноногая, кажется еще подростком, большой девочкой, случайно попавшей на бал. Люся прелестная, голубоглазая, с золотистыми, светящимися волосами и очень светлой кожей, к которой никогда не пристает загар, так огрубляющий кожу блондинок. На ней простое, но очень милое платье под цвет ее глаз. Взор ее затемнен длинными, загнутыми ресницами, а на левой щеке очаровательная ямочка дополняет правильный овал ее милого лица. Она напоминает мне полевой цветок или едва раскрывшийся бутон розы. Танцует она весело и живо, как-то по-детски; на стоящей женственности в ней еще нет. Танец радует ее — и только, она не переживает его, и танцующие с ней понимают это и ценят в ней милую партнершу, с которой нежелательно танцевать более задушевные танцы…
Надушена она не духами, а чудесным лосьоном «Violette de Bois» от Пино. Тонкая нежность ее девичьей благоуханности ярко сплетается с благо родной свежестью лосьона, и создается незабываемый образ в акварельно-голубых тонах восемнадцатого века.
Потушены главные люстры. Освещение зала стало интимнее; медленно, замирая и плача, пропели скрипки первые аккорды танго. Танцующих стало меньше, легче следить за скользящими парами, наблюдать и делать заключения…
Танго выдает взаимоотношения людей более других танцев. Вальс зовет к полету, веселью, жизни. Он выражает силу, самостоятельность. Танго же пол но тихой грусти, задушевности, слабости… Впрочем, в 1918 году для исполнения этого танца еще требовались сложные па, и это несколько смягчало беспомощную грусть сопровождавшей его музыки.
Но вот одна из самых красивых пар этого вечера. Они оба — восточные люди, смуглые, крупные, с тонкими талиями. В его улыбке таится что-то хищное и неспокойное. В ее огромных миндалевидных глазах горит опасный огонь, во взгляде — притупленность и страстность. Смуглый цвет ее кожи привлекателен, прелестен правильный овал лица и маленький, яркий, чувственный рот. В семнадцать лет она уже настоящая женщина в полном расцвете своей красоты, но кажется, что пройдет совсем немного времени, и она пополнеет, расплывется и огрубеет… Танцует она превосходно. Вид но, что они станцевались, ибо каждое их па, каждый поворот полны тончайшей согласованности. Но моментами держится она слишком близко, и в эти мгновения она отдается власти своего партнера и не скрывает этого.
Темно-красное шелковое платье оттеняет ее смуглую кожу и иссиня-черный отлив волос, и льется от нее могучей волной смущающий и дразнящий аромат. Это «Heure Bleue» от Герлена; у нее эти знаменитые духи достигают максимальной силы. Уже и без духов — на прогулках, у моря и особенно под вечер — запах ее вызывающе крепок, и есть в нем что-то от восточной пряности, и присущий ей от природы аромат могуче дополняется духами того же тона.
И прелесть ее совсем не семнадцатилетней девушки, а настоящей женщины; вероятно, такое же очарование было у нашей прародительницы Евы после вкушения от древа познания добра и зла…
За танго опять следует танго. Бал достиг своей кульминации. В замедленном повороте красиво проходит Анна со стройным, интересным юношей, совершенно ею очарованным. Маленькая, стройная, чудесно сложенная шатенка с зелено-коричневыми глазами, она невольно притягивает взгляд. Ее небольшая красивая рука с несколько удлиненными ногтями грациозно лежит на плече кавалера. Прелесть ее тоже нерусская. Много сотен лет назад ее предки пришли из Азии на служение Русской земле и, потеряв всякую связь с Востоком, стали совершенно европейцами. Она же словно сошла с древней гравюры, чтобы напомнить о связи своего рода с бесстрашными завоевателями Чингисхана, покорителя вселенной…
Замирают движения танго, плачут скрипки, сближаются головы танцующих, и в глубокий плен тонкой благоуханности Анны заключается стройный паж. Она надушена только что прибывшими из далекого Парижа «Mitsouko» от Герлена, который как бы создан для нее. У нее этот шипр амброво-фруктового характера приобретает необычайную прелесть, и аромат его то тонко сплетается с ее собственной благоуханностью, то вдруг ярко и мощно отрывается и развивается в собственной душистости…
Танцуют они такой трудный танец, как танго, безукоризненно: сдержанно, строго и легко, и вместе с нем как полна она прелестной женственной грации и как хорош ее кавалер!
Оркестр отдыхает. Приносят угощения, напитки. Молодежь — кто стоит, кто сидит. Все ожив ленно разговаривают, ожидая новый танец; антракт продолжается недолго. Музыканты рассаживаются, настраивают инструменты и для начала играют веселый фокстрот. Пара за парой вступают в танец, доступный всем своей простотой.
Среди массы танцующих резко выделяется новая пара, вызывая невольное восхищение. Он — высокий блондин, северный красавец с серыми глазами и милой улыбкой. Его дама тоже высокого роста, чудесно сложенная, с копной великолепных рыжих волос и удивительно нежной, чистой кожей.
У нее правильный овал лица, большие зеленые глаза и четко очерченный рот. Огнем веет от ее красоты и аромата, который притягивает мужчин и не нравится женщинам. И кажется, что благоухание это близко древнему хаосу, что таится в душе каждого смертного. Страшно приблизиться к нему. На душена она прославленным «Origan» от Коти, который так ей идет. Элен знает свою власть, но не злоупотребляет ею, так как дополняет ее красоту и ум и доброе сердце. Только ложь да клевета заставляют вспыхивать ее глаза, загораться зеленым светом, и она умеет оборвать, остановить и смутить виноватого…
Блестящим мигом проносится танец за танцем, но вот наконец и последний — полька-бабочка.
Весь зал наполнился танцующими, и все лица искрятся улыбками и задором. Наблюдения мои закончены, так как и я в золотом плену. Ласково светятся карие глаза моей дамы, и мне кажется, что кругом весна, хотя за окнами декабрь…
Имя Веры горит во всех моих помыслах и мечтах, а тут и она сама со мной в нежной близости танца. Счастьем веет от нее, от ее духов, от милого образа. Танцует она легко и музыкально, и чудится мне, что мы составляем одно целое.
Вера — светлая шатенка с золотистым отливом и чудесной кожей. Нежная прелесть ее благоуханности напоминает мне аромат чайных роз. Зная, как дорога мне, она лишь слегка надушилась своими любимыми духами «Quelques Fleurs» от Убигана. «За ушком только», — мило сознается она мне. Это так хорошо оттеняет ее!
Близость, аромат, танец дают мне такую полно ту счастья, что слова бледны это выразить…
Полькой-бабочкой заканчивается вечер. Мы вы ходим. Горы, море, сады утопают в лунном сиянии. Экипаж ожидает нас у подъезда. Быстро уносят нас добрые кони, и сказочность продолжается в по ездке в горы, по дороге в Учан-Су.
Иван Бунин
Памятный балБыло на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти все покрывающие раскаты духовной музыки, торжествующе гремевшей с хор…
Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, — она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать, — и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в зал и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее — фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, — только лоб в поту был холоден как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уж давно был болен любовью к ней и как-то волшебно боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, — оказалось ровно двенадцать, — и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец зачем-то спросил пересохшими губами:
— Вы нынче танцуете?
Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:
— Не танцую.
И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев.
— Я знаю, — говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что занята танцующими, — я знаю, — говорил я, уже не веря своим словам, — что я не смею ни на что надеяться… Вот вы нынче даже не позволили мне заехать за вами…
Тут она, все так же не глядя на меня, безразлично заметила:
— Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.
Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:
— Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал… Уж одно это, — бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ, — уже только это одно…
Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел, — заговорила и она наконец.
— Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится, — сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером-грузином. — Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале… Впрочем, он и так будет памятен мне.
Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:
— Памятен?
Она слегка повернула ко мне голову:
— Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но нынче вы имели, как вы выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот, нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжалостна» к вам. Да, я влюблена — и знаете в кого? В моего столь презираемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!
Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапокляком за спину, немолодого господина, грубого и крупного, в просторном поношенном фраке, в прическе а-ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая, высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила: «завтра, в четыре», — и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист:
— Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.
Он удивленно поднял брови:
— Что с вами? И с кем я имею честь…
Я запальчиво перебил его:
— Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас.
Он сдвинул ноги, выпрямился:
— Вы пьяны? Вы сумасшедший?
Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз…
Вызова с его стороны, конечно, не последовало.
29 апреля 1944
Натали
Отрывок из рассказаЧерез год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.
В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, — во всяком случае, привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил как все.
Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, — и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторых грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял… В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, — хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — Gaudeamus igitur![305] — остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:
— Ой, но вы и так страшно бледный!
Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце…
Анастасия Цветаева
ОчеркБыли в незапамятные времена на открытках и на старинных коробках конфет — картинки: зимний вечер. На небе — рог месяца, искорки звезд. На снегу алмазная россыпь мороза, круто сверкающая елочным серебром. Домик и в нем — апельсиновым цветом теплится в окне свет, и след от него, рыжий, лежит на снегу. Вот в такой вечер, много десятилетий назад, в старой Москве, я, тринадцати лет, подъезжаю с отцом к дому во Власьевском переулке, где жила семья потомственных переводчиков Горбовых, старший из них перевел «Божественную комедию» Данте (Марина, старшая сестра моя, и я с детства знали ее, видя в двух ало-золоченых томах рисунков Доре).
Мы ехали на первый урок танцев, куда два раза в неделю будут съезжаться дети двух, трех семей. Учить танцевать будет нас для этого приглашенный молодой балетмейстер Большого театра Чудинов (имя и отчество его, увы, канули).
Зала, высокие потолки, лепные. Блеск белой кафельной печи. Люстра. Двери распахнуты в гостиную, где, устав от танцев, будем пить чай и есть яблоки на китайских золоченых тарелочках.
Дети-хозяева встречают детей-гостей.
У Горбовых две дочери и два сына. Соня уже невеста. Катя — на год старше меня. В мои 94 года я туманно их помню. Но старший из мальчиков, Яша! Я вижу его, как сейчас. С меня ростом, на два года меня моложе, он кланяется, как взрослый. Ничего мальчишеского. Передо мной маленький лорд. На нем — матроска, по моде тех лет. Лицо Яши затмевает наряд. Узкое, тонкие черты. Лицо Яши очень правильное. Словно кистью проведенные брови. Длинные сине-стальные, по-взрослому серьезные глаза. Чуть суховатый рот. Но приветливая улыбка воспитанности. Мальчик — сфинкс.
Но вот взмах музыки в воздухе, и мы, дети, впервые друг друга видящие, пристально слушая учителя танцев, подражая ему, сперва каждый отдельно, затем пробно, парами, ритмически, радостно от знакомой мелодии, нас обнявшей, двигаемся по зале, не отрывая глаз от Чудинова. Он похож на какого-то персонажа из Гофмана, элегантно-загадочно, плавно жестикулируя и грациозно скользя по паркету, не теряет из глаз ни одной ученицы, ни одного ученика.
Самый младший из нас — брат Яши, Миша, сходный с ним, как маленький грибок со старшим, рядом растущим, но не обладающий тем щемящим холодящим очарованием, которым пронизан брат. У Миши сходство в чертах, но все меньше, неуловимей, по-детски невинней.
Яша через пять лет станет юным красавцем, Миша нежным подростком. Думается, старшая, Соня, не учится с нами. Но, может быть, разливает с матерью чай, разносит фрукты. Ее годы учения танцам — позади. С нами учится средняя, Катя, старше Яши года на два-три. Она непохожа на братьев. С ней у меня сразу устанавливаются простые дружеские отношения, она ведет меня по лесенке, в антресоли, похожую на Трехпрудную лесенку, и я с любопытством, с волнением проникаюсь духом их детской — в ней она теперь одна. Так все знакомо по нашему дому, по нашему детству — и столь же иное, чужое, заманчиво-новое. Я точно читаю рассказ о таких детях, как мы, уже не совсем детях, уже чуящих Жизнь — ту, которая придет, закружит и уведет. Но я знаю, что я никогда не забуду их дом, эти вечера, те мелодии, что сопутствовали нашим урокам. Не забуду я Яши, мальчика-лорда, улыбающегося и молчащего. Эти стальные синие глаза, полувзрослый поклон — и грацию, с какою он движется в нашем танцевальном параде под светом хрустальной люстры, вежливо, церемонно держа мою руку, — мы по росту подходим друг к другу.
Падепатинер. Этот юношеский и девический, почти детский танец! Это воспоминание о коньках, о скольжении по льду — под звуки музыки из «раковины», из мерзнущих на морозе рук!
…Падекатр. Эта сменившая лед ворвавшаяся мелодия, с детства любимая, этот вкрадчивый сладостный мотив. Личико Яши — в нем что-то дрогнуло, оно потеплело, оно о чем-то задумалось… О, мы уже научились танцевать. Мы уже много вечеров уплываем от прозы в поэзию, нас немного, но уже есть среди нас лучшие и немного слабее, но, кажется, доволен нами учитель. И однажды, схватив инфлюэнцу, он попросил своего отца, старого балетмейстера Большого театра, его заменить. Мы с волнением ждали. И — о, сама Классика вошла в тот вечер в старый особняк Горбовых! Стройный седой красавец вошел с мороза, розовый, в зал! Да, мы были дети, никто ни в кого не влюблялся — но мне думается, что все, стар и млад, влюбились в старого балетмейстера! Не скользил он грациозно, как сын его, — это было почти подобие полету, классическая бестелесность балета! Движения рук были крылья полета! Что он преподавал нам в тот день? Не вальс ли? Как предвестие юности — детям? Боюсь ошибиться и не хочу гадать… Все исчезает в звуках рояля, вспыхнув в памяти, угасает, и надо всем, как видение, стоит личико Яши…
Я ничего не слыхала о нем целую жизнь, но недавно, в мои 94, мне показали испанскую книгу «Los condenados»…[306] Ее автор Яков Горбов. Он переводчик. Испанист? Это название по-французски означает: «Les condamn?s» («Осужденные»), не так ли?
«Мучения памяти»? Наша с Мариной мать, переводчица, блестяще знавшая французский, немецкий, английский и итальянский, тридцати семи лет, в последний год своей жизни изучавшая — зная, что умирает! — испанский язык. Я, в ее память, в заключении на Дальнем Востоке (с десятью годами срока, после десятичасового труда, а в дни срочных работ и по двое суток без сна), принялась за испанский, достав через в/н (вольнонаемных) часть учебника и увлекшаяся, и, получив от Пастернака и от будущего профессора французской литературы Ирины Лилеевой с воли, в посылке хрестоматию испанского языка, упоенно читала переводы Гоголя переводчицы Luisa Maria Alonso. Через почти полвека держащая в руках труд Яши Горбова (в пожилом возрасте женившегося в Париже на Одоевцевой), — книга ее «На берегах Невы», рядом с Яшиной.
И в то время, как все запутывается, крючок, однако, попадет в ему принадлежащую петлю! Сон воплощается в сон.
Москва, советские годы (60-е), советское учреждение. Я вхожу в него после лет осужденности тюрьмою и ссылками — выправить документ где-то в арбатском районе. Волокита — обычная! Терпение — обычное. Жду. Устав глядеть в одну точку, перевожу глаза на высокие двери… Залы? Лепные украшения по толка. Разве я простудилась? Дрожь. Гулкие головные коридоры. Что это? D?j? vu?[307] То детское ощущение, бредовое, что это уже было когда-то в точности… лепной потолок! Но остатком здравомыслия, через все уцелевшим, говорю себе: Нет, не d?j? vu! Другое! Быль!.. Это был в незапамятные времена вечер… Картинка: зимний вечер, на небе золотой рог месяца, искры звезд. На снегу — алмазная россыпь мороза, робким светом горит окно и теплится на снегу что-то. Уют канувшей жизни? Я в 13 лет подъезжаю с отцом к особняку во Власьевском переулке, где жила семья Горбовых… Их лепной потолок. Двери в гостиную, где чай… яблоки на фруктовых тарелочках с китайским рисунком. Мне оттуда сейчас вынесут документ долгожданный. Pas de quatre под хрустальной люстрой. Церемонно держит руку мою Яша ГОРБОВ, не мальчик, мальчик-лорд!
Переделкино, вечер,
20 октября 1988 г.
Николай Гумилев
СтаринаВот парк с пустынными опушками,Где сонных трав печальна зыбь,Где поздно вечером с лягушкамиПерекликаться любит выпь.Вот дом старинный и некрашеный,В нем словно плавает туман,В нем залы гулкие украшеныИзображением пейзан.Мне суждено одну тоску нести,Где дед раскладывал пасьянсИ где влюблялись тетки в юностиИ танцевали контреданс.И сердце мучится бездомное,Что им владеет лишь однаТакая скучная и темная,Незолотая старина…
ПриложениеПриглашения на бал посылают, по крайней мере, за десять дней до начала праздника, а в разгар сезона за три недели или за месяц.
Бальный наряд обязан быть изысканным и отражать индивидуальность. При этом желательно помнить, что не следует стремиться затмить всех своим костюмом, необходимо побороть тщеславное желание — быть прекраснее всех.
В прошлом мужчина являлся на бал в черной фрачной паре. И сейчас фрак — это официально признанная одежда. Если в приглашении написано: «Белый галстук обязателен», то вы обязаны быть на бале только во фраке.
Фраза «черный или белый галстук» означает, что наряду с фраком возможен смокинг. Как отмечает в своей книге о правилах хорошего тона Эми Вандербильт: «Ни одна девушка не за хочет появиться на танцах или на ужине в обществе кавалера, одетого в красный пиджак, как бы красиво и качественно он ни был сшит. В то же время черный смокинг — традиционная вечерняя одежда мужчины — никогда не бросается в глаза».
Галстук для смокинга — бабочка из матового черного шелка, репса, полу шелковой ткани или сатина. Бабочку из темно-красного репса лучше надевать летом, с подходящим по цвету поясом. Вечерний галстук с маленькой цветной эмблемой приемлем только для членов определенного клуба.
В 1958 году герцог Виндзорский первым стал носить со смокингом мягкие черные туфли без шнурков и застежек.
Традиционной обувью служат полуботинки со шнурками «оксфорды» или черные туфли-лодочки.
Для джентльменов, серьезно относящихся к своей одежде, цилиндр, черная накидка, белые перчатки — обязательные составляющие бального костюма. Увы, но подобная элегантность сегодня — редкость.
Дамы украшали живыми цветами прически и платья; маленький букетик разрешалось держать в руках.
На танцевальном вечере был неуместен как городской костюм, так и бальный наряд.
При входе в зал следует остановиться перед зеркалом и тщательно осмотреть свой туалет, поправить прическу, за стегнуть перчатки. Перчатки не снимают на протяжении всего вечера, за исключением времени игры в карты и ужина.
Входя в гостиную, необходимо прежде всего поздороваться с хозяевами. Затем подойти для приветствия к знакомым дамам. Как и в прочих общественных местах, не только кавалеры, но и девушки обязаны уступать место даме преклонных лет, если она пожелает сесть.
Гости (дамы и кавалеры) средних лет, не решавшиеся танцевать на балах, принимали участие в большинстве танцев на танце вальном вечере.
В XIX столетии правила хорошего тона не позволяли «дамам и девушкам танцевать с незнакомыми кавалерами». Для кадрили, вальса, польки разрешалось представить кавалера во время бала или перед началом танца. Котильон и мазурку танцевали с дамой, дом которой вы посещаете. Порядок танцев записывали в специальные книжечки, называемые «агендами». Крайне неприлично показывать свой агенд посторонним. «Благосклонность судьбы, дающая вам случай затмить собой невольных соперниц, требует благодарной скромности, и хорошо воспитанная особа никогда не позволит себе провиниться в этом отношении». На бале дама не должна отказывать приглашающему ее на танец кавалеру, если, конечно, этот танец не обещала другому. Исполнение нескольких танцев с одной партнершей считалось неприличным. Даме разрешалось принять приглашение одного кавалера не более чем на три танца. Взаимная вежливость — главное условие танцев. Неприличным считалось просить на память веер или цветы, фамильярность была непозволительной.
По окончании танца кавалер кланяется даме, доводит ее до места или предлагает проводить до буфета. Идя под руку с кавалером по танцевальному залу, дама лишь слегка пальцами касается его руки, рукава.
Кавалер ведет к ужину ту даму, с которой он танцевал последний перед этим танец, а после ужина отводит ее в бальный зал.
Дирижер оркестра не должен начинать фигуры танцев без разрешения распорядителя бала. Главная задача распорядителя танцев состоит в умении сблизить общество, большую часть членов которого он должен знать лично. Распорядитель всегда остроумен, находчив; он обладает хорошей памятью, так как запоминает последовательность многочисленных танцевальных па и фигур. Еще в XIX столетии попытки заменить французские танцевальные термины русскими не привели к успеху. Поэтому распорядитель обязан хотя бы немного владеть французским языком, знать музыкальную культуру.
На больших балах уместно вывешивать программу танцев, что освобождает распорядителя от лишних переговоров с капельмейстером.
В XIX — начале XX столетия придворные и общественные балы открывались полонезом, а частные — вальсом в исполнении хозяина или дирижера бала в паре с той дамой, для которой давался бал, обычно с дочерью хозяев дома.
В Москве в начале XX столетия после вальса исполняли венгерку, краковяк, падепатинер, падеспань, падекатр. В Петербурге из так называемых мелких танцев предпочитали вальс. Мелкие танцы чередовались с кадрилями.
После мазурки следовал ужин, по завершении которого начинался котильон. К тому времени вносились коро ба с цветами. Кавалеры подносили букеты своей даме и тем особам, которых приглашали на бале. Во время заключительного полонеза все пары проходили мимо хозяев и матерей, вывозивших дочерей. Каждая пара кланялась хозяевам, которые, в свою очередь, благодарили собравшихся. Через несколько дней полагалось нанести визит устроителям бала.
В отличие от бала раут — вечернее собрание без танцев — это прежде всего возможность вести беседу с образованными и интересными людьми. Раут — это своеобразный подарок английского великосветского общества российской аристократии.
На рауте, как и на бале, приняты строгий этикет поведения, изысканность костюмов.
Молодым людям полагалось на раутах больше слушать, чем говорить самим. Репутация болтуна — плохая характеристика, не содействующая будущим успехам в обществе. В то же время нельзя дичиться, нужно уметь вести не принужденный разговор, избегать тем, недоступных для понимания большинства. Самообладание и тактичность — необходимые качества воспитанного посетителя.
Руководство к изучению новейших бальных танцевСанкт-Петербург
Издание книгопродавца
Василия Полякова
Фигуры котильона1. БЕГ (COURSE)
(вальс, полька, мазурка)
Первый кавалер оставляет свою даму, сделав с нею круг вальса, или променад, смотря по тому, танцуют ли вальс или мазурку, и избирает из круга двух дам; его дама в свою очередь избирает двух кавалеров. Они ставятся визави в некотором расстоянии одни от других; потом танцуют вальс, или променад, каждый кавалер с той дамой, которая находится пред ним. Эта фигура делается в одну, в две или в три пары, смотря по размерам залы.
2. КРУГ ВТРОЕМ
(вальс, полька, мазурка)
Первая пара начинает, как и в первой фигуре, вальсом, или променадом. Кавалер берет двух дам, дама двух кавалеров. Они составляют два круга, каждый из трех лиц, и становятся визави. Круги вертятся весьма быстро. По данному сигналу кавалер проходит под руки двух дам, с которыми вертелся, и бросается к своей даме, которая также вертелась с двумя кавалерами. Два кавалера, которых дама оставляет, идут к своим дамам, которые находятся против них, и отводят их на место, танцуя вальс или польку.
Когда эта фигура выполняется в мазурке, то кавалер, держащий обеих дам, пропускает даму, стоящую по левую сторону его, под свою правую и левую руку другой дамы, которые составляют как бы поднятый барьер. Он делает променад с оставшейся дамой. Дама другого круга пропускает под руки кавалера, которого она держит правой рукой, и делает променад с другим кавалером. Кавалер и дама, исключенные из круга, соединяются и танцуют вместе променад.
3. СТУЛЬЯ
(вальс, полька, мазурка)
Кавалер-кондуктор начинает и сажает свою даму на стул среди зала. Потом берет двух кавалеров и представляет своей даме, которая должна избрать одного из двух. Он сажает оставшегося кавалера, берет двух дам и представляет ему для выбора одной. Первый кавалер берет оставшуюся даму и, танцуя, отводит ее на место. Эту фигуру можно танцевать в одну, две, три и четыре пары.
4. ЦВЕТЫ
(вальс, полька, мазурка)
Кавалер-кондуктор избирает двух дам и просит их назвать себя потихоньку каким-либо цветком. Подводит двух дам к другому кавалеру и называет ему два цветка, чтобы он избрал один. Второй кавалер вальсирует с цветком, избранным, а кавалер-кондуктор с другой дамой. Дама первого кавалера выполняет ту же фигуру с двумя избранными ею кавалерами. Цветы могут выполняться одной, двумя и тремя парами.
5. ЗАСЕДАНИЕ
(вальс, полька, мазурка)
Ставят среди зала два стула спинкой друг к другу. Первая пара начинает вальсом или мазуркой. Кавалер и дама берут одного кавалера и одну даму и сажают на стульях. Потом кавалер берет за руки еще двух дам и становится с ними пред дамой, сидящей на стуле; его дама то же делает с двумя кавалерами. По данному знаку каждый берет свое визави, то есть кавалер-кондуктор берет сидящую пред ним даму, его дама — соответствующего кавалера, а две другие дамы — стоящих перед ними кавалеров, и танцуют вальс, или променад. Сделав круг вокруг зала, каждый возвращается на свое место. Эта фигура может выполняться двумя парами, поставив посредине зала четыре стула вместо двух.
6. КОЛОННЫ
(вальс, полька, мазурка)
Кавалер-кондуктор начинает променадом, или вальсом, и оставляет свою даму среди зала. Берет одного кавалера и ставит с своей дамой лицом в противоположные стороны; потом проводит другую даму и ставит ее визави пред избранным кавалером и так далее, пока не составит колонны в четыре или пять пар, стараясь окончить дамой. По данному знаку (удар в ладоши) каждый обращается и вальсирует или танцует со своим визави до своего места. Можно составлять двойку-колонну, начиная двумя парами вместе.
7. ПОДУШКА
(вальс, полька, мазурка)
Первый кавалер начинает, держа в левой руке подушку. Он делает круг вокруг зала со своей дамой и оставляет ей подушку, которую она должна подносить многим кавалерам, приглашая их поставить на нее колено. Дама с быстротой должна вырывать ее от кавалеров, которых хочет обмануть, и оставить ее перед тем, которого намерена избрать.
8. КАРТЫ
(вальс, полька, мазурка)
Первый кавалер представляет четырем дамам четыре дамы, выбранные из игры карт; в то же время его дама дает четырем кавалерам четырех королей. Кавалеры встают и ищут дам своей масти. Король червей вальсирует с дамой червей, король пик с дамой пик и проч.
9. ПИРАМИДА
(вальс, полька, мазурка)
Три пары начинают вместе, вальсируя или танцуя; каждый кавалер ищет другого кавалера и каждая дама даму. Шесть дам составляют три неравных ряда. Одна дама составляет первый ряд и изображает вершину пирамиды; две другие составляют второй ряд, а три остальные — третий ряд. Кавалеры берутся за руки и составляют цепь. Кавалер-кондуктор ведет их за собой, проходит танцуя позади трех последних дам. Он входит в последний ряд, потом во второй, обвивая вокруг дам цепь кавалеров. Когда он находится пред дамой, составляющей вершину пирамиды, то ударяет в ладоши и увлекает в вальс или променад находящуюся пред ним даму. Другие кавалеры танцуют со своими визави. Эта фигура может быть составлена из пяти пар, ставя четвертый ряд дам.
10. ОБМАН
(вальс, полька, мазурка)
Две или три пары начинают вальсом, или променадом. Каждый кавалер выбирает кавалера и дама даму. Кондуктор выбирает двух кавалеров. Кавалеры и дамы становятся в две противоположные стороны. Кавалер-кондуктор стоит вне линии перед дамами. Он ударяет в ладоши и избирает даму. По этому знаку кавалеры обращаются и берут дам, стоящих перед ними, и танцуют. Кавалер, который остался без дамы вследствие выбора кавалера-кондуктора, возвращается на свое место, если нет сострадательной дамы, которая согласилась бы сделать с ним круг вальса, или променада.
11. ЗМЕЯ
(вальс, полька, мазурка)
Вальс, или променад, первой пары. Кавалер оставляет свою даму в одном углу зала, лицом к стене, и потом выбирает трех или четырех дам, которых ставит позади своей, в некотором одна от другой расстоянии. Потом выбирает столько кавалеров, включая в это число и себя, сколько дам. Он составляет из них цепь и проводит эту цепь с быстротой, проходя позади последней дамы, потом позади каждой, пока не достигнет своей. Тогда он подает сигнал, и каждый кавалер танцует со своим визави. Эта фигура, имеющая большое сходство с пирамидой, по преимуществу должна употребляться в залах небольшого размера. Можно составить две или три колонны, начав с нескольких пар вместе.
12. ЛОМАНЫЙ КРУГ
(вальс, полька, мазурка)
Вальс, или променад, первой пары. Кавалер оставляет свою даму среди зала, выбирает двух кавалеров и составляет втроем круг около дамы. Кавалеры весьма быстро вертятся в левую сторону. По знаку дама выбирает кавалера для танца; остальные возвращаются на свое место. Когда эта фигура делается в дружеском кругу и назначена для вальса или польки, то оставленные кавалеры танцуют вместе.
13. ПЛАТОК
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. После вальса, или променада, дама завязывает узелок на одном из четырех углов платка, который подносит к четырем кавалерам. Тот, кто возьмет кончик с узелком, танцует с нею до места ее.
14. ПЕРЕМЕНА ДАМ
(вальс, полька, мазурка)
Вальс, или променад, двух пар. После нескольких кругов они должны сблизиться между собой; кавалеры переменяют дам, не теряя ни па, ни такта; после нескольких кругов с чужой дамой каждый берет опять свою и возвращается на свое место.
15. ШЛЯПА
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер оставляет даму среди зала и дает ей шляпу. Все кавалеры составляют круг около дамы, обратившись к ней спиной, и вертятся весьма скоро в левую сторону. Дама надевает шляпу на одного из кавалеров, с которым должна танцевать. Прочие кавалеры возвращаются на свои места.
16. ШАЛЬ
(вальс, полька, мазурка)
Эта фигура похожа на прежнюю. Кавалер с шалью в руке стоит среди круга дам и должен положить ее на плечи одной, с которой потом танцует. Каждый кавалер должен взять свою даму и отвести на место.
17. СИДЯЩИЕ ДАМЫ
(вальс, полька, мазурка)
Среди зала ставят два стула спинками вместе. Две первые пары начинают вальсом, или променадом. Кавалеры усаживают своих дам на стульях, выбирают двух дам и делают с ними круг; потом берут своих дам и танцуя отводят их на место. В то время, когда оставленные дамы садятся в свою очередь, два следующих кавалера выполняют ту же фигуру и т. д. Когда все кавалеры сделают фигуру, то на стульях остаются две дамы, которых освобождают их же собственные кавалеры. Эту фигуру можно выполнять в три и четыре пары, поставив три или четыре стула среди зала.
18. БОКАЛ ШАМПАНСКОГО
(вальс, полька, мазурка)
На одной линии ставят три стула, два крайние в противоположную с средним сторону. Начало первой пары: кавалер сажает свою даму на средний стул, подает ей бокал шампанского, выбирает двух кавалеров и сажает их на двух других стульях. Дама дает бокал шампанского одному из кавалеров, чтобы он выпил, а с другим танцуя возвращается на место.
19. ОТВЕРЖЕННЫЕ ПАРЫ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер становится на одно колено среди зала. Его дама выбирает несколько пар, которые подводит к нему, и он последовательно отвергает. Пары составляют колонну позади кавалера, который наконец избирает даму, танцует с ней, потом приводит ее к ее кавалеру, который стоит перед колонной, и отводит свою даму на место. Первый кавалер танцует постепенно с каждой дамой, и, когда все пары исчезнут, он берет свою даму, стоявшую позади колонны, и в свою очередь отводит ее на место.
20. БУКЕТЫ
(вальс, полька, мазурка)
Кладут на стул несколько букетов. Начало первой пары. Кавалер и дама берут по букету и подносят кавалер другой даме, а дама другому кавалеру и танцуют с ними. Эта фигура повторяется всеми парами.
21. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАМ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер становится на колени среди залы: его дама выбирает в кругу несколько дам, представляет ему и приглашает их становиться позади его одна за другой, пока кавалер не изберет дамы, с которой потом танцует. Другие кавалеры освобождают своих дам и отводят их на место. Эта фигура, имеющая большое сходство с отверженными парами[308], более прилична залам малого пространства.
22. ДВИЖУЩАЯСЯ ПОДУШКА
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер усаживает свою даму и кладет у ее ног небольшую подушку, потом попеременно приводит кавалеров, выбранных из круга, приглашая каждого стать на колено на подушку, которую дама в случае отказа быстро выдергивает. Отверженные кавалеры становятся в линию за стулом дамы, которая указывает свой выбор, оставив неподвижно подушку пред кавалером, с которым хочет танцевать. Дамы отверженных кавалеров освобождают их и танцуют вальс, или променад, до своего места.
23. ОБМАН ДАМ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер берет под руку свою даму, идет вокруг круга, приближается к некоторым дамам, будто желая пригласить их танцевать. Когда дама встает, он быстро отворачивается и обращается к другой, повторяя то же, пока не сделает окончательного выбора. Дама кавалера-кондуктора танцует с кавалером выбранной дамы.
24. ВОЛШЕБНАЯ ШЛЯПА
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер дает своей даме шляпу, которую она подносит многим дамам, прося их положить что-либо в нее. Потом подносит шляпу ко многим кавалерам, которые берут какую-либо вещь, отыскивают дам, которой принадлежит взятая ими вещь, и танцуют с ними. Эту фигуру могут выполнять многие пары вместе.
25. ФАЛАНГА
(вальс, полька, мазурка)
Начало двух первых пар. Каждый кавалер выбирает двух дам и каждая дама двух кавалеров. Первый кавалер дает правую руку даме, находящейся с правой стороны, а левую — даме с левой стороны; обе дамы берут одна другую за руку позади его, так что составляют древнюю фигуру, известную под именем Граций. Дама кавалера-кондуктора становится также со своими кавалерами; другие группы располагаются так же и держатся недалеко одна от другой, составляя как бы фалангу, которая движется, выполняя па польки, вальса без обращения или мазурки. По данному знаку кавалеры, находящиеся между двух дам, поворачиваются с ними, и каждый танцует со своим визави до места. Эта фигура может быть выполнена тремя и четырьмя парами.
26. ТАИНСТВЕННАЯ ПРОСТЫНЯ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Все кавалеры котильона становятся рядом позади развернутой простыни, составляющей как бы ширмы, и кладут на верхнюю оконечность ее кончики пальцев, которые дамы, стоящие с другой стороны простыни, должны взять, указывая таким образом своего друга.
27. ОБМАНУТЫЙ КАВАЛЕР
(вальс, полька, мазурка)
Пять или шесть первых пар начинают вместе и становятся в ряд по две. Первый кавалер держит свою даму правой рукой и не должен смотреть на пару, находящуюся позади. Первая дама оставляет его и выбирает кавалера между другими парами. Эти кавалер и дама разлучаются и идут на пальчиках с каждой стороны колонны, желая обмануть первого кавалера, находящегося впереди, соединиться и танцевать. Если кавалер, стоящий настороже, поймает свою даму, то танцует с ней до своего места, а его заменяет следующий кавалер. В противном случае он должен оставаться здесь до тех пор, пока не поймает какой-либо дамы. Последний кавалер танцует с последней дамой.
28. ДВОЙНОЙ КРЕСТ
(вальс, полька, мазурка)
Четыре пары начинают вместе и становятся крестообразно; кавалеры дают друг другу левую руку, а правой держат дам. Каждая дама призывает одного кавалера, который дает ей левую руку; новые кавалеры в свою очередь призывают новых дам, которые равно становятся лучеобразно (en rayon). Все пары описывают круг, выполняя па вальса, польки или мазурки, потом разделяются и попарно расходятся по своим местам.
29. БОЛЬШОЙ КРУГ
(вальс, полька, мазурка)
Четыре пары начинают вместе. Каждый кавалер выбирает одного кавалера и каждая дама одну даму. Делают общий круг, кавалеры держась за руку с одной стороны и дамы с другой. Начинают обращаться в левую сторону, потом кавалер-кондуктор, который должен держать свою даму правой рукой, приближается и разрывает круг посредине, то есть между последней дамой и последним кавалером. Он обращается влево со всеми дамами. Кавалер-кондуктор и его дама, описав обратный полукруг, сходятся и танцуют вместе; второй кавалер берет вторую даму и так далее до конца. Эта фигура делается в пять, шесть, семь, восемь и более пар, если позволяет пространство.
30. ДВОЙНЫЕ КРУГИ
(вальс, полька, мазурка)
Четыре пары начинают вместе. Каждый кавалер выбирает одного кавалера и каждая дама одну даму. Кавалеры составляют один круг, а дамы другой, противоположный. Кавалер-кондуктор становится в кругу дам, а его дама — в кругу кавалеров. Два круга быстро обращаются в левую сторону; по данному сигналу кавалер-кондуктор выбирает даму, чтобы танцевать с ней, его дама выбирает кавалера; в это время кавалеры развертываются в линию, дамы в другую; две линии сближаются, и каждый танцует со своим визави. Эта фигура, подобная предшествовавшей, может быть выполняема весьма многими парами.
31. ОБМАНЧИВЫЙ КРУГ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер-кондуктор выбирает трех дам, которых вместе с своей ставит в некотором расстоянии одну от другой, как в игре в четыре угла (jeu des qua-tre coins). Потом выбирает четырех кавалеров и образует вместе с ними круг, вписанный в четырехугольник, составленный из четырех дам. Пять кавалеров должны вертеться весьма быстро, и по данному сигналу каждый должен обратиться, взять даму, стоящую позади, и танцевать с ней. Один кавалер необходимо бывает принужден возвратиться на место без дамы.
32. МОНАСТЫРСКИЙ ПРИВРАТНИК
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер-кондуктор выбирает в кругу несколько дам и вместе со своей ведет их в комнату, примыкающую к залу, которой дверь полурастворена. Каждая дама потихоньку произносит имя кавалера, которое кавалер-кондуктор произносит громко, и вызывает танцевать с той дамой, которая его звала. Кавалер-кондуктор должен стараться сохранить для себя одну из дам. Можно также выполнять эту фигуру и первой даме, которая в таком случае должна запереть выбранных кавалеров и вызывать дам.
33. ТАИНСТВЕННЫЕ РУКИ
(вальс, полька, мазурка)
Начало первой пары. Кавалер запирает в соседнюю комнату несколько дам вместе со своей, как сказано в предшествовавшей фигуре. Каждая дама просовывает руку сквозь полурастворенную дверь. Кавалер-кондуктор приводит столько же кавалеров, сколько выбрал дам. Каждый кавалер берет руку, просунутую в дверь, и танцует с выбранной таким образом дамой. Кавалер-кондуктор также имеет право взять одну из таинственных рук.
34. ЛОВЛЯ ПЛАТКОВ
(вальс, полька, мазурка)
Начинают три или четыре пары вместе. Кавалеры оставляют среди зала своих дам, из которых каждая должна иметь в руке платок. Кавалеры котильона составляют около дам круг, обратившись к ним спиной, и быстро вертятся в левую сторону. Дамы бросают вверх платки и танцуют с теми, которым посчастливилось схватить их.
35. ВОЛНУЮЩЕЕСЯ МОРЕ
(вальс, полька, мазурка)
Ставят два ряда стульев спинками друг к другу, как в игре, известной под этим именем (la mer agit?e). Начало первой пары. Кавалер-кондуктор, если среди зала поставлено двенадцать стульев, выбирает шесть дам и вместе со своей усаживает их на стулья. Потом выбирает шесть кавалеров, составляет цепь и ведет их за собой. После быстрого беганья по разным направлениям зала, которое может продолжать и разнообразить по своей воле, он наконец окружает ряды стульев. Когда он сядет, все кавалеры должны сесть в ту же минуту, и каждый танцевать с той дамой, которая находится по правую его сторону. В этой фигуре, как и в Обманчивом круге[309], один кавалер должен возвратиться на свое место без дамы.
36. ЧЕТЫРЕ УГЛА
(вальс, полька, мазурка)
Среди зала ставят четыре стула для означения четырех углов на означенных местах. Первый кавалер, сделав со своей дамой круг вальса, или променада, усаживает ее на одном из стульев и берет трех следующих дам для занятия других стульев. Сам же становится в середине, как в игре в четыре угла: дамы выполняют перемены игры сидя, держась за руки и переменяя места. Когда кавалер успеет овладеть одним из стульев, оставленным дамой, желавшей поменяться местами с своей соседкой, то танцует с ней. Тотчас другой кавалер занимает его место в круге, и другая дама занимает место дамы. Когда последний кавалер займет место одной из четырех последних дам, кавалеры оставшихся трех дам должны взять их и отвести на место вальсом, или променадом.
37. БЕСЕДКА
(вальс, полька, мазурка)
Четыре пары выходят вместе и составляют общий круг среди зала. Когда круг составлен, дамы и кавалеры оборачиваются и становятся спиной друг к другу, не оставляя рук. Выходят четыре другие пары и образуют, не оборачиваясь, круг около первого. В этом положении, стоя визави друг с другом, кавалеры подают друг другу руки вверху, а дамы внизу. Кавалеры поднимают руки вверх так высоко, чтобы образовался круглый выход, который дамы быстро пробегают в левую сторону, держась за руки. По данному сигналу руки кавалеров быстро опускаются, чтобы остановить дам, которые танцуют с теми кавалерами, пред которыми они находятся. Эту фигуру можно выполнять в пять, шесть, семь, восемь и более пар.
38. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ (POURSUITE)
(вальс, полька, мазурка)
Начало трех или четырех первых пар. Каждый кавалер котильона имеет право идти позади каждой пары и овладеть дамой, чтобы танцевать с ней. Он должен ударить в ладоши, чтобы показать, что он намерен заменить кавалера. Эта фигура продолжается до тех пор, пока каждый кавалер опять найдет свою даму и отведет ее на место. Чтобы эта фигура была выполнена со всем одушевлением, надобно, чтобы в то самое время, когда кавалер овладеет дамой, другой тотчас занял его место. Преследование (poursuite) есть одна из окончательных фигур катильона.
39. КОНЕЧНЫЙ КРУГ
(вальс, полька, мазурка)
Все лица котильона составляют общий круг. Кавалер-кондуктор вместе со своей дамой отделяется от круга, который тотчас должен сцепиться, и выполняет в середине вальс, или променад. По данному сигналу он останавливается, и дама его выходит из круга. Он выбирает другую даму, с которой танцует в круге. В свою очередь он выходит из круга, а дама выбирает другого кавалера и так далее. Когда остается не более двух или трех пар, тогда выполняют общий вальс, или променад. Конечный круг (rond final) выполняется, подобно предшествовавшей фигуре, преимущественно в конце котильона.
40. БЕСКОНЕЧНЫЕ КРУГИ
(вальс, полька, мазурка)
Все лица котильона образуют общий круг и идут в левую сторону. Кавалер-кондуктор по данному сигналу оставляет руку дамы, которая должна находиться с левой его стороны, и, продолжая идти влево, входит в круг, образуя улитку, между тем как последняя дама, которой руку он оставил, обращается вправо, чтобы окружить другие круги, которые постоянно уменьшаются. Когда они довольно сузились, кавалер-кондуктор проходит под руки одного из кавалеров и одной из дам, чтобы выйти из кругов; за ним следуют все, не бросая рук. Кавалер-кондуктор делает променады по произволу и развертывается, чтобы преобразовать общий круг. Все другие пары выполняют променад, или общий вальс. Эта фигура, подобно двум предшествовавшим, выполняется преимущественно в конце котильона.
41. КРЕСТ (MOULINET)
(вальс, полька)
Выходят три пары вместе. После променада, или вальса, каждый кавалер выбирает даму и каждая дама кавалера. Все кавалеры становятся крестообразно, давая друг другу левую руку, правую своим дамам, которые сами должны держаться левыми руками. Первый, третий и пятый кавалеры танцуют вальс или польку в перегородках, между тем как другие пары идут медленно. По данному сигналу пары, вальсирующие и танцующие польку, останавливаются, а другие танцуют. Оканчивают общим вальсом или полькой.
42. ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ КРЕСТ
(вальс, полька)
Выход первых трех пар, выбор дам и кавалеров, крестовидное положение как в предшествовавшей фигуре. По данному сигналу дамы приближаются к одному кавалеру и вальсируют или полькируют с ним, не оставляя порядка в кресте. По новому знаку останавливаются, постоянно в крестовидном положении, чтобы начать танцевать с другой дамой и т. д., пока кавалер не дойдет до своей дамы. Оканчивают общей полькой или вальсом.
43. ЧЕТЫРЕ СТУЛА
(вальс, полька)
Среди зала ставят четыре стула, расположенные как для четырех углов. Четыре пары выходят вальсом или полькой и останавливаются попарно позади каждого стула. По данному знаку каждая пара вальсирует или полькирует вокруг стула, перед которым находится, потом переходит к следующему и т. д., всегда идя вправо. Эту фигуру должно делать согласно, чтобы избегнуть столкновений. Возвращаются на место вальсируя или полькируя.
44. КОНТРДАНС
(вальс, полька)
Четыре пары становятся среди зала, как в контрдансе. Первая пара идет вальсируя или полькируя вокруг пары, которая находится с правой ее стороны, и далее вокруг каждой из следующих пар. Три другие пары повторяют ту же фигуру. Когда все четыре окончат, тогда возвращаются на место, вальсируя или полькируя, как в Четырех стульях.
45. ПЛАТОК
(вальс, полька)
Две пары начинают вместе, и каждый кавалер держит левой рукой конец платка довольно высоко, чтобы можно было пройти под каждый круг, платком описываемый. Они вальсируют или полькируют до тех пор, пока платок не будет свернут, как веревка.
46. ЛЕТАЮЩИЕ ШАЛИ
(вальс, полька)
Скрещивают две шали и связывают посредине наподобие креста. Четыре пары становятся как в игре в кольца; каждый кавалер берет левой рукой конец одной шали, подняв его над своей головой. Каждая пара вальсирует, постоянно сохраняя то же пространство; по данному сигналу все возвращаются на место.
47. ВЕЕР
(вальс, полька)
Ставят три стула среди зала на одной линии в таком положении, как в фигуре Бокал шампанского[310]. Первая пара выходит вальсируя: кавалер усаживает свою даму на стуле в середине и дает ей веер. Отыскивает двоих других кавалеров и усаживает их на двух других стульях. Дама дает свой веер одному из них и вальсирует с другим. Кавалер, которому достался веер, должен следовать за танцующей парой, подпрыгивая вокруг на одной ноге и обмахивая ее веером.
48. ЖМУРКИ
(вальс, полька)
Ставят три стула на одной линии среди зала. Выходит первая пара: кавалер берет другого кавалера и, завязав ему глаза, сажает на стуле в середине. Дама приводит другого кавалера, идя на пальчиках, усаживает его на один стул, а сама садится на другой. Первый кавалер предлагает кавалеру с завязанными глазами решиться на ту или другую сторону. Если последний указывает на даму, то вальсирует с ней до ее места; если, напротив, указывает на кавалера, то должен вальсировать с ним, между тем как кавалер-кондуктор вальсирует с дамой.
49. КАВАЛЕРЫ ВМЕСТЕ
(вальс, полька)
Два первых кавалера выбирают каждый по одному кавалеру и вальсируют с ними, и каждая из двух дам выбирает даму и вальсирует с ней. По данному знаку четыре кавалера останавливаются и делают круг, дамы также делают круг. Две дамы, приблизившись к кругу кавалеров, проходят под руки двух других дам и входят в круг кавалеров, составив круг противоположный первому: каждый кавалер вальсирует с находящейся пред ним дамой. Эта фигура может выполняться в три и четыре пары.
50. ЗИГЗАГИ
(вальс, полька)
Восемь или десять пар выходят вместе и становятся попарно одна за другой в некотором расстоянии одна от другой. Каждый кавалер должен иметь свою даму с правой стороны. Первая пара идет вальсируя и входя зигзагом во все пары до последней. Вторая пара доходит потом даже до последней, пока кавалер-кондуктор с своей дамой будет находиться в начале фаланги. Оканчивают общим вальсом.
51. ВОЛНЕНИЕ
(вальс, полька)
Выход первых четырех пар, которые составляют круг. Первая пара должна находиться в середине этого круга, вальсировать по произволу и стараться обмануть другие пары, которые должны следовать за всеми ее движениями, не оставляя рук. По данному знаку следующая пара входит в середину и повторяет ту же игру; первая пара занимает свое место в круге, а другие последовательно выполняют фигуру. Оканчивают общим вальсом.
52. ДВЕ ЛИНИИ
(вальс, полька)
Первый кавалер берет свою даму за руку и делает круг около зала; все другие пары должны следовать за ним. Кавалер-кондуктор составляет с другими кавалерами одну линию, так чтобы каждый стоял перед своей дамой. Каждый кавалер берет правой рукой правую руку своей дамы и переходит на ее место. Первая пара отходит вальсируя, проходит позади линии дам, потом середину двух линий, возвращается еще раз позади линии дам и, дошедши до последней пары, останавливается. Кавалер становится на стороне дам, дама на стороне кавалеров. Каждая пара последовательно выполняет ту же фигуру, и все оканчивают общим вальсом. Две линии употребляются преимущественно в конце котильона.
53. ВЕРТЯЩАЯСЯ АЛЛЕЯ
(вальс, полька)
Кавалер-кондуктор, держа за руку свою даму, идет, приглашая другие пары следовать за собой. Составляют общий круг. Каждая пара старается оставить между собой некоторое пространство. Кавалеры становятся перед дамами таким образом, что происходят два круга — внешний из кавалеров и внутренний из дам. Кавалер-кондуктор отправляется со своей дамой и пробегает вальсируя Вертящуюся аллею до своего места. Потом оставляет свою даму и становится в кругу дам, а его дама в кругу кавалеров. Каждая пара в свою очередь выполняет ту же фигуру. Оканчивают общим вальсом. Это окончательная фигура котильона.
54. УБЕГАЮЩАЯ ШЛЯПА
(вальс, полька)
Выход двух первых пар. Кавалер-кондуктор держит сзади левой рукой шляпу отверстием вверх. Другой кавалер держит в левой руке свернутую пару перчаток, которую он, не переставая вальсировать, должен вбросить в шляпу. Когда он успеет, то берет шляпу и передает перчатки другому кавалеру, который должен сделать то же. Понятно, что между хорошими вальсерами эта фигура порождает множество уловок и случайностей.
55. ВОСЕМЬ
(вальс)
Среди зала ставят два стула в некотором расстоянии один от другого. Выходит первая пара, проходит около одного стула, потом около другого, не переставая вальсировать и начертывая таким образом цифру «восемь». Каждая пара последовательно выполняет ту же игру. Восемь есть одна из самых трудных фигур. Кавалер, в совершенстве выполняющий ее, может быть назван отличным вальсером.
56. СПЛЕТЕННЫЕ РУКИ
(вальс, мазурка)
Выходят три или четыре пары вместе. После круга мазурки или польки каждый кавалер берет даму, каждая дама кавалера. Составляют общий круг, приближаются и удаляются все вместе на четыре такта; приближаются еще раз, и когда сблизятся одни с другими, то кавалеры подают друг другу руки сверху, а дамы снизу. Когда таким образом руки будут переплетены, то поворачивают влево; кавалер-кондуктор оставляет руку кавалера, находящегося на левой стороне, потом развертываются в одну линию, не оставляя рук. Когда образовалась прямая линия, то кавалеры поднимают вместе руки; дамы проходят танцуя, и кавалеры бросаются преследовать их. По данному сигналу все дамы возвращаются, танцуют вместе с кавалерами, которые должны были находиться позади их.
57. КРЕСТ (MOULINET) ДАМ
(вальс, мазурка)
Выход первых двух пар. Каждый кавалер выбирает даму и каждая дама кавалера. Составляют общий круг и вертятся в левую сторону в продолжение восьми тактов; дамы становятся крестообразно (en moulinet), давая одна другой правую руку; каждый кавалер остается на своем месте. Дамы делают крестообразный круг и дают руку каждая своему кавалеру, чтобы сделать круг на месте. Они возвращаются к кресту и при каждом круге приближаются к кавалеру, с которым начали. Оканчивают полькой или мазуркой.
58. МАЛЫЕ КРУГИ
(полька, мазурка)
Выход первых трех или четырех пар. Каждый кавалер выбирает кавалера и каждая дама другую даму. Кавалеры становятся попарно перед дамами, стоящими так же попарно. Два первых кавалера и две первые дамы делают целый круг влево; когда круг кончен, два кавалера не останавливаясь поднимают руки, чтобы пропустить дам и выполнять другой круг с двумя следующими дамами. Две первые дамы обращаются с двумя другими кавалерами и так далее до тех пор, пока два первых кавалера дойдут до последних дам. Когда два первых кавалера пропустят дам, то они становятся в линию, и два следующих кавалера становятся по обе стороны их, так что все вместе кавалеры образуют одну линию, противоположную линии дам. Две линии приближаются одна к другой на четыре такта и отдаляются также на четыре такта, потом соединяются, и каждый кавалер берет находящуюся перед ним даму. Оканчивают общей полькой или мазуркой.
59. ДВОЙНОЙ КРЕСТ
(LE DOUBLE MOULINET)
(полька, мазурка)
Выход первых двух пар. Каждый кавалер выбирает даму и каждая дама кавалера. Составляют общий круг, и после круга влево каждый кавалер делает круг на месте, заставляя даму вертеться вокруг себя, пока не образуется крест правой руки с тремя другими дамами. Четыре дамы находятся в средине креста, и направляются дамы влево, кавалеры вправо и вертятся до тех пор, пока каждый не найдет своей дамы, даст ей левую руку и займет место в кресте, между тем как дамы станут выполнять круг в противоположную сторону, который делали кавалеры. Когда кавалеры будут по два раза в крыльях и по два раза в середине, тогда они возьмут правой рукой левую руку дам и отведут их на место променадом польки или мазурки.
60. НЕСКОЛЬКО КАВАЛЕРОВ
(полька, мазурка)
Выход первых двух пар. Каждый кавалер, не оставляя свою даму, выбирает другую, которую должен держать левой рукой. Оба кавалера становятся визави в некотором расстоянии. Они вместе с дамами приближаются еще раз, оставив руки дам, которые остаются на своих местах. Кавалеры дают друг другу руки скрещенными на сгибе и вместе делают целый круг, потом дают левые руки своим дамам таким же образом и делают круг с ними. Потом вместе делают круг, дав друг другу правую руку, опять начинают со следующей дамой с левой руки через правую и так далее. Когда они сделают круг со всеми четырьмя дамами, то каждый берет двух дам, свою и выбранную, и делает променад по произволу. Когда они дойдут до места, с которого выбрали даму, то оставляют ее и продолжают променад со своей дамой.
61. НЕСКОЛЬКО КАВАЛЕРОВ И ДАМА
(полька, мазурка)
Выход первой пары. Кавалер выбирает двух дам, дама двух кавалеров. Кавалер-кондуктор и его дама становятся друг против друга, в некотором расстоянии с выбранными дамами и кавалерами. Они приближаются и удаляются по четыре такта; потом кавалер-кондуктор и его дама приближаются друг к другу, оставив двух других дам и двух кавалеров на местах. Сближаясь в последний раз, кавалер и дама дают друг другу руки, скрещенные на сгибе. Они делают круг, после которого кавалер дает левую скрещенную руку левой скрещенной руке дамы, стоящей по правую его руку; его дама делает то же с кавалером, стоящим по правую ее руку. Первый кавалер и его дама возвращаются в середину и делают полный круг с левой руки, потом делают круг с левой руки с другой дамой и с другим кавалером. Оканчивая, они должны находиться в позиции, которой начали. Все вместе приближаются и удаляются в продолжение четырех тактов, сближаются в последний раз, и каждый кавалер подает правую руку даме, находящейся перед ним, чтобы отвести ее променадом на ее место.
62. БОЛЬШОЙ АНГЛИЙСКИЙ ШЕН
(полька, мазурка)
Выход первых двух пар, которые становятся одна против другой и делают весьма длинный английский шен. Два кавалера, приближаясь со своими дамами, дают друг другу левые руки, скрещенные на сгибе, и делают весьма быстрый полукруг, чтобы переменить дам и сделать с дамой круг на месте. Потом опять начинают фигуру, чтобы соединиться со своими дамами, которых отводят на место променадом.
63. ГРАЦИИ
(полька, мазурка)
Выход первой пары. Кавалер переводит свою даму на левую сторону, переменив руку. Он берет другую даму правой рукой и продолжает променад между двух дам. Когда он находится у места выбранной дамы, он поворачивает обеих дам около их самих и берет их за талию, чтобы заставить их сделать круг влево. Он возвращает выбранную даму ее кавалеру, заставив ее пройти под руки его и его дамы, и продолжает променад до своего места. Кавалер, чтобы сделать круг на месте, должен иметь свою даму на левой руке, а другую на правой. Когда эта фигура танцуется полькой, то, вместо круга на месте, делают втроем круг около зала, оставляют выбранную даму перед своим местом и продолжают променад со своей.
64. ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ КРУГИ
(полька, мазурка)
Выход первых трех пар. Кавалеры ставят своих дам в линию и берутся за руки для составления шена. Кавалер-кондуктор проходит влево с двумя другими перед другими тремя дамами. Кавалеры, достигши последней дамы, образуют около ее круг и обращаются влево, сделав сначала полный круг; кавалер-кондуктор оставляет руку кавалера с левой стороны и переходит к средней даме, чтобы образовать около нее круг, обратный с другими кавалерами. После круга в эту сторону кавалер-кондуктор оставляет еще раз руку левого кавалера и делает круг в обыкновенную сторону около третьей дамы. Потом увлекает двух кавалеров, которые не переставали стоять в шене, и проходит перед дамами, как в начале фигуры; он продолжает променад, проходя позади дам. Когда каждый кавалер находится перед своей дамой, тогда подает ей руку и ведет променадом, за ним следуют другие.
65. КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ
(полька, мазурка)
Выход двух первых пар. Два кавалера становятся на одно колено в некотором расстоянии друг от друга. В этом положении они обращают своих дам два раза вокруг их самих, не оставляя их рук. После этих двух кругов две дамы переходят направо и дают левую руку правой руке другого кавалера, чтобы тоже сделать два круга. Они переходят во второй раз в правую сторону, чтобы найти своих кавалеров, которые встают и проводят дам променадом.
66. ШЕНЫ В ЧЕТВЕРТОМ
(полька, мазурка)
Выход первых четырех пар, которые становятся по две пары в линию одна против другой. В этом положении каждый кавалер делает английский полушен со своим визави, потом кавалеры делают со своими дамами круг на месте, потом каждая пара должна обратиться визави пары, которая стояла по их правой стороне. Начинают опять полушен, круг на месте и так далее. Когда каждый будет находиться на своем первоначальном месте, то каждая пара отходит и делает променад по произволу.
67. КРЕСТООБРАЗНЫЕ ШЕНЫ
(полька, мазурка)
Выход первых четырех пар, которые становятся как в предшествовавшей фигуре. Каждая пара делает со своим визави полный английский шен, после которого обращается визави к той паре, которая стоит на одной с ней линии в стороне. Опять делают новый полный шен, и пара кавалера-кондуктора делает полушен вкось с парой, которая по первому расположению составляла визави с парой, стоявшей по правой его стороне. Когда они сделали траверсе, две другие пары также делают полушен вкось; две первые пары делают то же другой раз, потом вторые; общий променад оканчивает фигуру.[311]
68. ДВОЙНАЯ ПАСТУШКА
(LA DOUBLE PASTOURELLE[312])
(полька, мазурка)
Выход первых четырех пар, которые становятся как в контрдансе. Два кавалера визави, сохраняя своих дам, берут левой рукой двух других дам, которые оставляют своих кавалеров на месте. В этом положении два кавалера, имея дам по обе стороны, идут вперед и назад в продолжение четырех тактов: делают перед собой краузе своих дам, заставляя переходить от левой руки к правой. Дамы отыскивают двух кавалеров, оставшихся на месте, и делают с ними ту же фигуру, которая повторяется четыре раза и оканчивается променадом по произволу.
69. ДВОЙНОЙ ШЕН
(полька, мазурка)
Выход двух первых пар, которые располагаются визави в некотором расстоянии и приближаются одна к другой па мазурки или польки. Когда они сойдутся, кавалеры переменяют дам и место, удаляясь; потом повторяют фигуру, чтобы возвратиться по своим местам. Сходятся третий раз, чтобы сделать двойной шен, переходя четыре раза. Оканчивают променадом польки или мазурки.
70. НЕПРЕРЫВНЫЕ ШЕНЫ
(полька, мазурка)
Выход первых четырех пар. Каждый кавалер выбирает даму, дама кавалера. Все кавалеры становятся в линию перед линией дам. Первый кавалер левой стороны берет правой рукой правую руку своей дамы и делает с ней полный круг. Дает потом левую левой руке следующей дамы, между тем как его дама делает то же со следующим кавалером. Кавалер-кондуктор и его дама подают друг другу правые руки в другой раз среди двойной линии и потом следующим кавалерам и дамам до последней пары. Тогда они делают целый круг, так что дама находится на стороне кавалеров, а кавалер на стороне дам. Когда кавалер-кондуктор и его дама достигли четвертой пары, должен выходить второй кавалер, так что между кавалерами и дамами происходит движение постоянного шена. Когда первая пара отходит, вторая тотчас должна занять ее место и так далее. Когда все пары сделают фигуру, тогда каждый кавалер подает руку своей даме и начинает с ней променад. Непрерывный шен можно выполнять во столько пар, сколько позволяет местность.
71. ПЕРЕМЕНА КАВАЛЕРОВ
(полька, мазурка)
Выход первых трех или четырех пар, которые располагаются фалангой вслед за парой кондуктора. Первый кавалер обращается и, взяв левой рукой скрещенную на сгибе левую руку кавалера, стоящего позади его, переменяет с ним место и даму и продолжает таким образом до последней дамы. Когда он достигнет последней, другой кавалер, находящийся тогда в голове фаланги, выполняет ту же фигуру и так далее до тех пор, пока каждый кавалер не займет своего места. Оканчивают общим променадом.
72. ДОЗАДО ДАМ
(полька, мазурка)
Выход первых четырех пар, которые составляют общий круг: дамы становятся спиной к спине весьма близко одна от другой; кавалеры остаются в обыкновенном положении. По данному знаку и в продолжении четырех тактов увеличивают круг: кавалеры удаляясь, а дамы приближаясь; потом в продолжение четырех следующих тактов уменьшают его. Круг развертывается в последний раз, и делается плоский шен, начав с правой руки до своей дамы. Оканчивают променадом.
73. КРУГИ ВЧЕТВЕРОМ
(полька, мазурка)
Выход первых двух пар. Каждый кавалер выбирает даму, а каждая дама кавалера. Кавалеры составляют вчетвером круг на одном конце зала, а дамы на другом. И те и другие делают круг влево, после которого кавалер-кондуктор и выбранный им проходят под руки двух других кавалеров и составляют круг с ними. Они делают полный круг влево, после которого два кавалера поднимают руки, чтобы пропустить двух дам, и делают другой круг с двумя другими кавалерами, что составляет два круга вчетвером. Кавалеры поднимают руки, чтобы пропустить дам; два других кавалера, приближаясь, оборачиваются и составляют линию, к которой присоединяются два других кавалера. Дамы также составляют параллельную линию. Лишь только кавалеры и дамы находятся вместе, тотчас составляют тот же круг, как и вначале, то есть кавалеры с кавалерами, а дамы с дамами. После круга развертываются в две противоположные линии, которые сближаются, и каждый кавалер берет свою даму и оканчивает фигуру променадом.
74. КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ ВЧЕТВЕРОМ
(полька, мазурка)
Начало первых четырех пар, которые становятся как во французском контрдансе. По данному знаку кавалеры все вместе становятся на одно колено и обращают своих дам вокруг себя, как сказано было в Коленопреклонении[313]. Дамы делают только один круг, переходят в правую руку и дают левую руку правой руке другого кавалера, чтобы сделать круг около него. Они переходят другой раз в правую руку, чтобы найти своих кавалеров, которые оканчивают променадом.
Чтобы хорошо выполнить эту фигуру, одну из грациознейших в мазурке, надобно, чтобы лишь только первые две дамы окончат свое траверсе, другие две противоположной партии тотчас делали траверсе, между тем как первые две кружатся около кавалеров. Таким образом дамы не могут встретиться.
75. ПЕРЕМЕННЫЙ КРЕСТ (MOULINET)
(полька, мазурка)
Начало четырех или шести первых пар. После променада все кавалеры, не оставляя своих дам, образуют крест с левой руки и делают полный круг. По данному знаку они занимают место своих дам, обращаясь назад и поставляя своих дам впереди. В этом положении они делают полный круг в противоположную сторону. По данному знаку они меняют места еще раз, оборачиваясь вперед и ставя дам позади. После последнего круга пары расходятся и оканчивают променадом.
76. ПЕРЕМЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
(полька, мазурка)
Начало первых трех пар. Кавалеры, не оставляя дам, становятся крестообразно (en moulinet) и в этом положении вертятся. По данному знаку первый кавалер быстро оборачивается, давая левую руку, скрещенную на сгибе, кавалеру, стоящему позади его, с которым он меняется местом и дамой. Он делает то же со следующим кавалером. Когда он доходит до третьего кавалера, то второй выполняет ту же фигуру, потом третий. Оканчивают общим променадом.
77. ШЕНЫ В ЛИНИЮ
(полька, мазурка)
Начало первых четырех пар. Каждый кавалер выбирает кавалера, дама даму. Кавалеры становятся вместе попарно перед дамами, стоящими так же. По данному знаку два первых кавалера начинают с правой руки плоский шен (ch?ine plate) с двумя первыми дамами и так далее. Два последних кавалера имеют дамами двух первых, перешедших к ним шеном. Оканчивают променадом.
78. ЛАБИРИНТ
(полька, мазурка)
Все лица, танцующие котильон, составляют общий круг, идя влево. По данному знаку кавалер-кондуктор оставляет руку дамы, находящейся с левой его стороны, и, продолжая идти влево, входит в круг в виде улитки, между тем как его дама идет вправо, окружая другие круги, которые постоянно суживаются. Надобно сберегать круговое пространство, чтобы вальсируя не соприкасаться. В этом положении пара кондукторская идет вальсируя и проходит аллеи лабиринта, пока не дойдет до последней пары, которой первая дама дает руку, чтобы преобразовать круг. По мере того как каждая пара приходит, она становится рядом с предшествовавшей. Когда придут все пары, то оканчивают общим вальсом, полькой или мазуркой. Когда эта фигура выполняется полькой, то проходят лабиринт вальсом в два па, который менее требует места; когда же мазуркой, то прибегают к вальс-мазурке. Лабиринт есть конечная фигура котильона.
79. ПОЛЬКА С РАЗНЫМИ ШЕНАМИ
(полька)
Начало четырех первых пар, которые становятся как во французском контрдансе. Две пары, стоящие визави, следуют по косой линии к правой, а две другие к левой стороне. В этом положении каждая делает полный шен со своим визави, после которого дамы делают дамский полушен для перемены кавалеров. Все делают целый круг па польки, сохраняя порядок, и когда каждый кавалер дойдет до своего места с другой дамой, то опять начинают фигуру с правой парой. В четвертый раз доходят до своей дамы и танцуют общую польку.
80. КОРЗИНА
(мазурка)
Начало первой пары. Кавалер выбирает двух дам, среди которых и становится; его дама выбирает двух кавалеров и становится между ними. Сходятся в четыре такта, расходятся также в четыре и сходятся еще раз. Кавалер, державший за руки двух дам, поднимает руки и пропускает под них двух других кавалеров, которые проходят, не оставляя рук дамы первого кавалера, и берутся за руки позади последнего. Две дамы, выбранные первым кавалером, берутся за руки позади дамы кавалера-кондуктора, что составит корзину. В этом положении описывают круг влево и по данному знаку, не оставляя рук, средний кавалер проходит под руки двух других кавалеров, а его дама — под руки двух других дам. Тогда руки всех будут переплетены. По другому знаку расплетают руки, составляют общий круг, описывают круг, и кавалер, находящийся на левой стороне первой дамы, начинает плоский шен с правой руки, продолжающийся до тех пор, пока первый кавалер не отыщет своей дамы. Оканчивают променадом по произволу.
81. ТРОЙНОЕ ПАС (TRIPLE PASSE)
(мазурка)
Начало двух первых пар, которые после променада составляют круг вчетвером, описывая круг влево. По данному знаку кавалер-кондуктор и его дама приходят, оставив руки, под руки двух других лиц и по окончании круга берутся за руки. Другая пара в свою очередь проходит под руки первой пары; последняя в другой раз проходит под руки другой пары и, не оставляя рук, развертывается променадом попарно по местам.
82. ДАМА НАЛЕВО
(мазурка)
Все лица, составляющие котильон, образуют общий круг; идут влево на четыре такта; каждый кавалер делает круг на месте в четыре такта, стараясь, чтобы в конце круга дама очутилась у него слева. Повторяют круг в четыре такта, и каждый кавалер берет даму, находящуюся на правой стороне, которую переводит на левую, с помощью другого круга на месте. Продолжают до тех пор, пока не дойдут до своей дамы. Эта конечная фигура котильон-мазурки.
83. СОЕДИНЕНИЕ ПАР
(мазурка)
Первая пара делает променад, после которого берет другую пару для образования круга вчетвером. Обе пары описывают полукруг влево, после которого кавалер-кондуктор оставляет руку дамы другой пары, обращается влево, увлекая других, чтобы найти третью пару, с которой делают круг внутри пары. После полукруга влево кавалеркондуктор снова оставляет левую даму, чтобы последовательно брать другие пары. Дойдя до последней, составляют общий круг, делают круг влево в восемь тактов, круг вправо в восемь тактов, потом круг на месте для окончания. Соединение пар выполняется преимущественно в конце котильона-мазурки.
«Турбильон»
«Tourbillon»
Новый бальный танец уч. танц. Л.И. ПРАУССАКавалер становится рядом с дамой, имея левую ногу впереди в 3-й позиции, подав даме правую, а дама кавалеру левую руку. Кавалер начинает с левой, дама с правой ноги. Дама исполняет те же шаги.

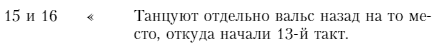
Во время «Glissade» в 3, 4, 11 и 12-м такте следует сгибать корпус через руку и смотреть на ту ногу, которая исполняет «glissade».
Описание «Tourbillon» на французском или на немецком языке можно иметь у автора: Греческая ул., д. № 48, Одесса.
Нотный альбом
«Турбильон»
Новый бальный танец Л.И. Праусса


Французская кадриль





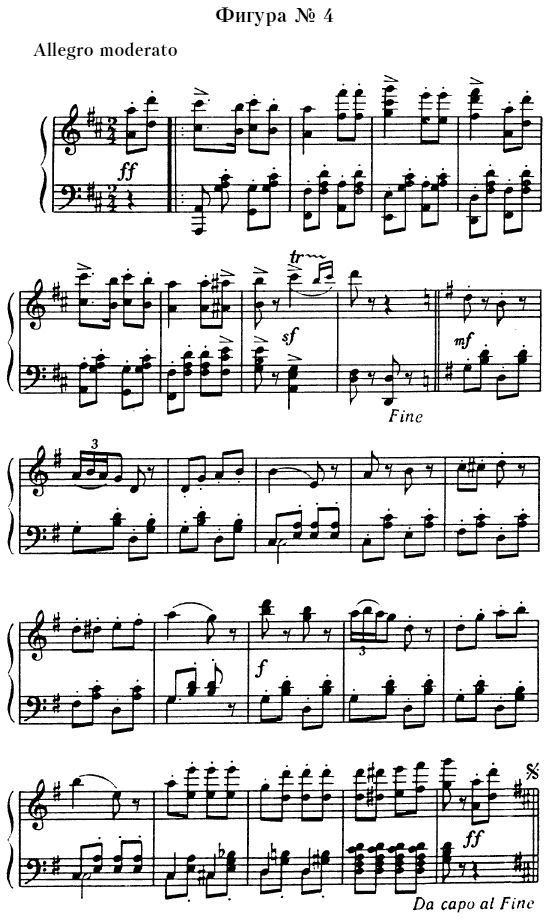

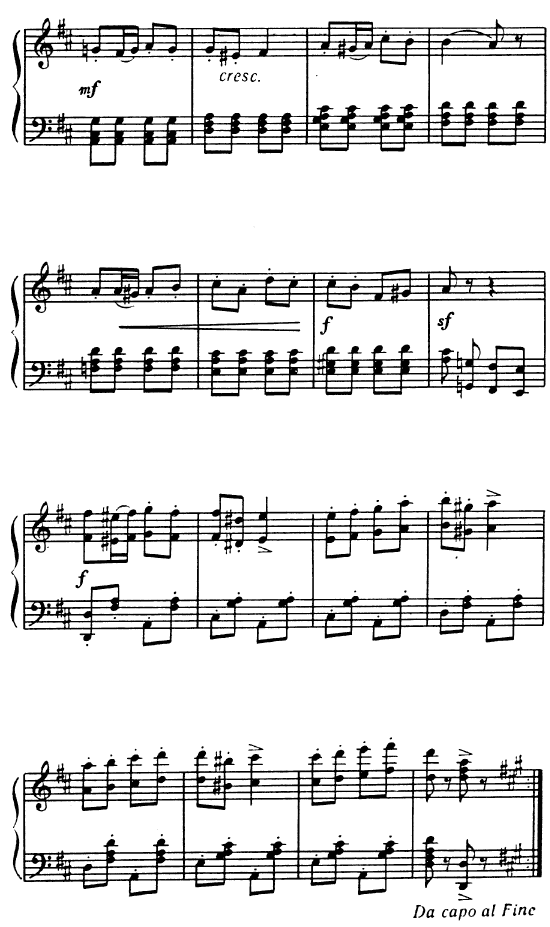


Менуэт
И. Гайдн



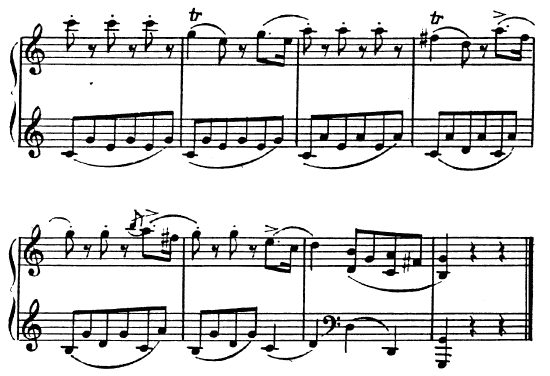
Менуэт
И. Гайдн

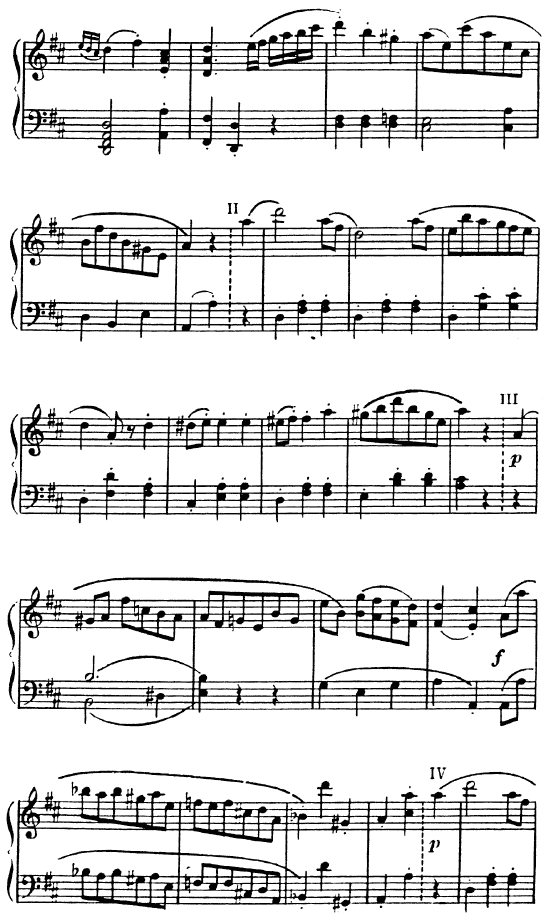

Гавот
Обработка В. Ширинского

Менуэт
из оперы «Дон Жуан» В. Моцарт


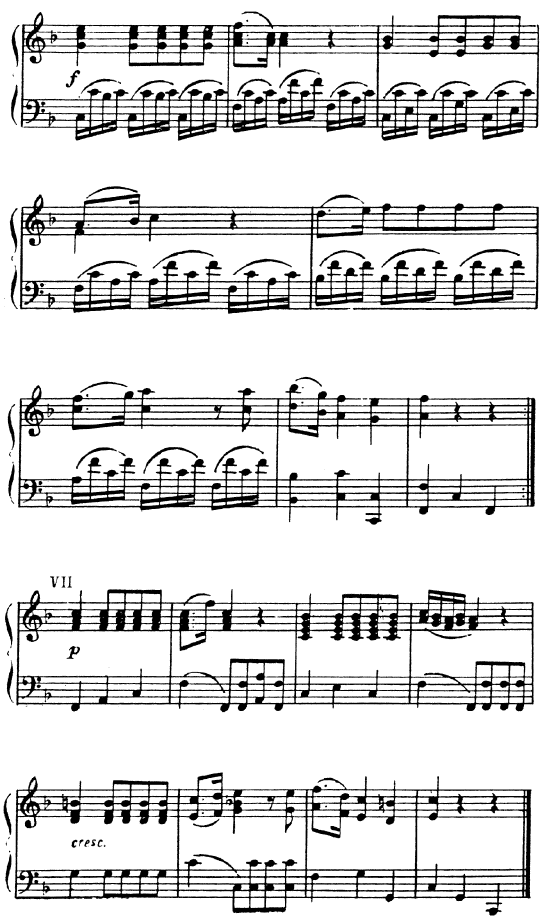
Гавот
Ж. Рамо



Гавот
Э. Гиро

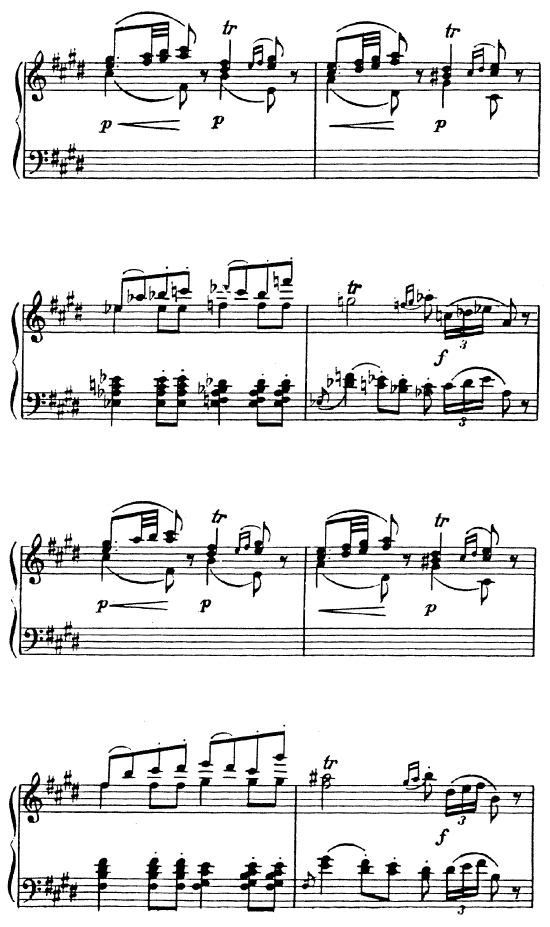



Полонез
И. Козловский






Полонез[314]
Ф. Шопен

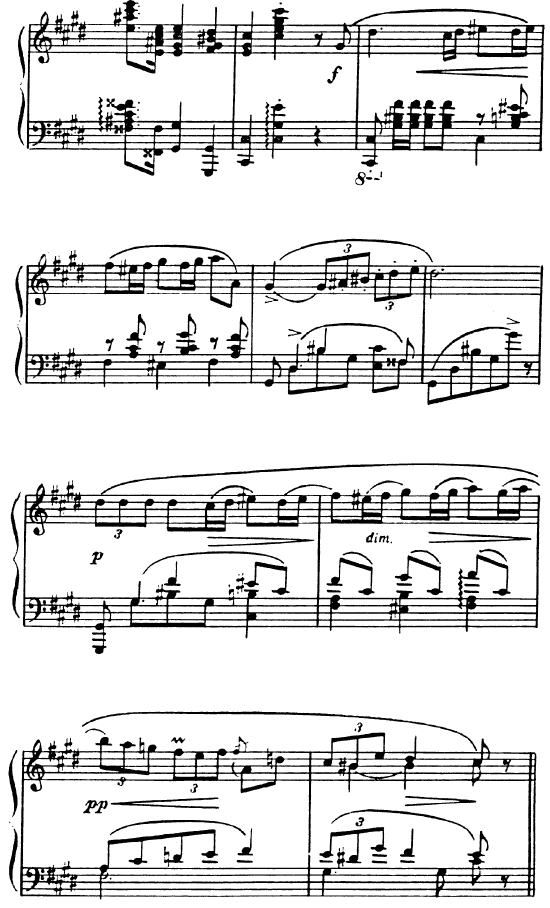



Примечания
1Гоголевское время. Оригинальные рисунки графа Я.П. де Бальмена (1838–1839). М., 1909. С. 5.
(обратно)
2Цит. по: Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII — начала ХХ века. Л., 1988. С. 5.
(обратно)
3Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 14.
(обратно)
4Гоголевское время. Оригинальные рисунки графа Я.П. де Бальмена (1838–1839). М., 1909. С. 5.
(обратно)
5Цит. по: Захарова О.Ю. Русские балы и конные карусели. М., 2000. С. 5.
(обратно)
6Там же.
(обратно)
7Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 38.
(обратно)
8Цит. по: Захарова О.Ю. Указ. соч. С. 7.
(обратно)
9Бывший, человек (фр.).
(обратно)
10Слова принадлежат М.С. Воронцову // Русский архив. 1910. Кн. III. С. 685.
(обратно)
11Танцовальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцовального искусства / Пер. с фр. М., 1790 (далее — Танцовальный словарь…).
(обратно)
12Цит. по: Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М, 1963. С. 24.
(обратно)
13Там же.
(обратно)
14Танцовальный словарь… С. 35.
(обратно)
15Там же. С. 36.
(обратно)
16См.: Пирлинг. Дмитрий самозванец. Ростов н/Д, 1998. С. 333.
(обратно)
17См.: Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Новосибирск, 1987. С. 172.
(обратно)
18Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного на 1825 г. СПб., 1824. С. 55.
(обратно)
19ПСЗ-1. Т. 5. № 3246. С. 598.
(обратно)
20См.: Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995. С. 25.
(обратно)
21Мацулевич Ж. Летний сад и его скульптура. Л., 1936. С. 12.
(обратно)
22Семевский М.И. Елизавета Петровна. Исторический очерк (Библиотека музея-усадьбы «Кусково»). Б. м. Б. г. С. 234.
(обратно)
23Там же. С. 240–241.
(обратно)
24Русский быт по воспоминаниям современников (далее — Русский быт…). XVIII век. Ч. I. М., 1914. Ч. II. М., 1919. С. 297.
(обратно)
25Там же. С. 320.
(обратно)
26Васильчиков А.А. Указ. соч. С. 60–61.
(обратно)
27Русский быт… С. 73–74.
(обратно)
28Петиметр — «petit-maitre» (фр.) — щеголь, франт. Молодой светский человек, копирующий французскую моду и манеру поведения.
(обратно)
29Русский быт… Ч. II. С. 138.
(обратно)
30Там же. С. 64.
(обратно)
31Там же. С. 65.
(обратно)
32Там же. С. 223.
(обратно)
33Рассказы бабушки. М., 1989. С. 66.
(обратно)
34Русский быт… Ч. II. С. 136.
(обратно)
35Там же. С. 137.
(обратно)
36Стуколкин Л. Опытный распорядитель и преподаватель бальных танцев. СПб., 1885. С. 28.
(обратно)
37Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе графини Шуазель Гуффье, рожденной графини Фитценгауз, бывшей фрейлины при российском дворе. М., 1912. С. 69.
(обратно)
38Там же. С. 85–87.
(обратно)
39Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. М., 1940. С. 91.
(обратно)
40Куриев М.М. Герцог Веллингтон. М., 1995. С. 152.
(обратно)
41Князь Сергей Волконский. Воспоминания. М., 1994. С. 174.
(обратно)
42Пушкин
(обратно)
43С.А. Соболевский
(обратно)
44Ансело Ф. Шесть месяцев в России. М., 2001. С. 263.
(обратно)
45Толстая А.А. Записки фрейлины. М., 1996. С. 5.
(обратно)
46Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 115.
(обратно)
47Липранди И.Г. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1886. С. 1255–1256.
(обратно)
48Из писем А.Я. Булгакова к его брату // Русский архив. 1902. Кн. I. C. 109.
(обратно)
49Из воспоминаний баронессы М.П. Фредерике // Тайны царского Двора. С. 287.
(обратно)
50Захарова О.Ю. Балы пушкинского времени. М., 1999. С. 56.
(обратно)
51Захарова О.Ю. Указ. соч. С. 66.
(обратно)
52Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 230.
(обратно)
53Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С. 218–219.
(обратно)
54Мурзакевич Н.Н. Автобиография // Русская старина. Т. LIII. 1887. С. 169.
(обратно)
55Солодова В.В. М.С. Воронцов и путешествие императора Николая I по Новороссии в 1837 году // К 150-летию Алупкинского дворца. Симферополь, 2000. С. 39.
(обратно)
56Общая инструкция, данная нам Государем по случаю предпринимаемого путешествия по России в 1837 г. // Венчание с Россией. М., 1999. С. 21.
(обратно)
57Там же. С. 22.
(обратно)
58Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 34–35.
(обратно)
59ПСЗП-2. Т. 29. С. 69.
(обратно)
60Цит. по: Всемирная иллюстрация. Т. XIX. 1878.
(обратно)
61Там же.
(обратно)
62Муравьева И.А. Век модерна. СПб., 2001. С. 58.
(обратно)
63Куприн А.И. Юнкера // Колесо времени. С. 461.
(обратно)
64Там же. С. 469.
(обратно)
65Князья Трубецкие. Россия воспрянет. М., 1996. С. 167.
(обратно)
66ГАРФ. Ф. 553. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 43.
(обратно)
67Там же. Л. 44.
(обратно)
68Александра III
(обратно)
69Мемуары графа С.Д. Шереметева. М., 2001. С. 505.
(обратно)
70Гурко В.И. Царь и царица // Николай II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 385.
(обратно)
71Кудрина Ю.В. Императрица Мария Федоровна (1847–1928). М., 2001. С. 85–86.
(обратно)
72Граф Алексей // Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 2002. С. 117.
(обратно)
73Князья Трубецкие. Указ. соч. С. 167–168.
(обратно)
74Цит. по: Муравьева И.А. Указ. соч. С. 57.
(обратно)
75Мосолов А.А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 197.
(обратно)
76Там же. С. 197.
(обратно)
77Там же. С. 200.
(обратно)
78См.: Мосолов А.А. Указ. соч. С. 201.
(обратно)
79Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. М., 1999. С. 203–204.
(обратно)
80Там же. С. 137–138.
(обратно)
81Любимов Г.Г. Мои кадетские годы // Гувернер. 1998. № 1. Январь. С. 70.
(обратно)
82Цит. по: Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. СПб., 2001. С. 318–319.
(обратно)
83Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994. С. 80.
(обратно)
84Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. СПб., 1889. С. 25.
(обратно)
85Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 62.
(обратно)
86Русский быт. Ч. I. С. 328–329.
(обратно)
87публичных
(обратно)
88Хрестоматия по истории русской культуры. XVIII–XIX вв. М., 1998. С. 133–134 (далее — Хрестоматия…).
(обратно)
89Головина В.Н. Мемуары // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М, 1996. С. 149–150.
(обратно)
90Русский быт. С. 64.
(обратно)
91Хрестоматия… С. 255.
(обратно)
92Там же. С. 136.
(обратно)
93Там же. С. 330.
(обратно)
94Там же.
(обратно)
95ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 9. № 6861. СПб., 1835. С. 181–182.
(обратно)
96Там же. С. 182.
(обратно)
97Письма Анны Сергеевны Шереметевой // Архив села Михайловского. Т. II. СПб., 1902. С. 40.
(обратно)
98Всемирная иллюстрация. 1895. № 1358. С. 111.
(обратно)
99Бок (Столыпина) М.П. Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине. М., 1992. С. 214.
(обратно)
100Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 33.
(обратно)
101Библиотека для чтения. СПб., 1834. Т. 3. С. 76–77.
(обратно)
102Там же. С. 77–78.
(обратно)
103Каменская М. Забытая книга. М., 1991. С. 250.
(обратно)
104Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1987. С. 268.
(обратно)
105Воспоминания князя Александра Васильевича Мещерского. М., 1901. С. 157.
(обратно)
106Соллогуб В.А. Указ. соч. С. 665–666.
(обратно)
107Там же. С. 497.
(обратно)
108Там же. С. 182.
(обратно)
109Гоголь Н.В. Мертвые души // Гоголь Н.В. Избр. произв.: В 2 т. Киев, 1983. Т. 2. С. 81.
(обратно)
110Там же. С. 141.
(обратно)
111Толстой Л.Н. Анна Каренина. М., 1976. С. 93.
(обратно)
112Там же. С. 95.
(обратно)
113Мосолов А.А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 196.
(обратно)
114Тургенев И.С. Отцы и дети // Тургенев И.С. Избр. произв. Киев, 1975. С. 220–221.
(обратно)
115Лермонтов М.Ю. Княгиня Лиговская // Лермонтов М.Ю. Избранные сочинения. М., 1977. С. 418.
(обратно)
116Цветаева М. Избранное. М., 1989. С. 60.
(обратно)
117Журнал для светских людей «Мода». 1851. Январь. С. 31–32.
(обратно)
118Там же.
(обратно)
119Модный магазин. СПб., 1862. Ноябрь. С. 510.
(обратно)
120Там же. 1866. Февраль. С. 56.
(обратно)
121Всемирная иллюстрация. 1894. Т. LI. С. 178.
(обратно)
122Вестник моды. 1896. № 42. С. 417.
(обратно)
123Пыляев М.И. Старая Москва. М., 1990. С. 181.
(обратно)
124Пыляев М.И. Там же. С. 182.
(обратно)
125Сомов К.А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 106.
(обратно)
126Костюм Серебряного века в России. 1890–1914 гг. СПб., 1993. С. 10.
(обратно)
127Иллюстрированная энциклопедия моды. С. 302.
(обратно)
128Фовизм — направление в живописи, полностью отрицающее локальный цвет и подчиняющее формы исключительно композиционным замыслам.
(обратно)
129Горбачева Л.М. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., 1996. С. 17.
(обратно)
130Шнейдер И.И. Записки старого москвича. М., 1970. С. 84.
(обратно)
131Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994. С. 9.
(обратно)
132Правила светской жизни и этикета. С. 250.
(обратно)
133Захарова О.Ю. История русских балов. М., 1998. С. 9.
(обратно)
134Михневич В.Л. Русская женщина XVIII столетия. Киев, 1895. С. 121–122.
(обратно)
135Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры. XVIII–XIХ вв. М., 1998. С. 146 (далее — Хрестоматия…).
(обратно)
136Хрестоматия… С. 149.
(обратно)
137Там же. С. 139.
(обратно)
138Иллюстрированная энциклопедия моды. С. 323.
(обратно)
139Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // Столетье безумно и мудро. Век XVIII. М, 1986. С. 320.
(обратно)
140Хрестоматия… С. 140.
(обратно)
141Рассказы бабушки. С. 165–166.
(обратно)
142Хрестоматия… С. 145.
(обратно)
143Там же. С. 142.
(обратно)
144Императорские веера из Эрмитажа. Музей вееров. СПб., 1997. С. 8.
(обратно)
145Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994. С. 100.
(обратно)
146Веращагин В.А. Памяти прошлого. СПб., 1914. С. 70.
(обратно)
147Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни. СПб., 1885. С. 489.
(обратно)
148Императорские веера из Эрмитажа. С. 27.
(обратно)
149См.: Модный курьер. 1906. № 1. С. 1.
(обратно)
150Тарабукин Н.М. Указ. соч. С. 105.
(обратно)
151См.: Волшебный мир цветов. СПб., 1997. С. 92–93.
(обратно)
152Там же. С. 113.
(обратно)
153Там же. С. 4.
(обратно)
154Там же. С. 224–245.
(обратно)
155Жихарев С.П. Указ. соч. С. 149.
(обратно)
156Там же.
(обратно)
157Правила светской жизни и этикета. С. 57.
(обратно)
158См.: Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1896. Т. 98. С. 82.
(обратно)
159В конце XIX — начале XX века особенно славились английские перчатки фирмы «Дерби» из хорошей кожи. Эти перчатки были самыми дорогими в те годы: вдвое дороже других кожаных перчаток.
(обратно)
160Лермонтов М.Ю. Княгиня Лиговская // Лермонтов М.Ю. Избранные сочинения. М., 1977. С. 426.
(обратно)
161Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М., 2002. С. 29.
(обратно)
162Там же. С. 38.
(обратно)
163См.: Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М., 1963. С. 25.
(обратно)
164Петровский А. Правила для благородных общественных танцев. Харьков, 1825. С. 139.
(обратно)
165Барышникова Т.К. Азбука хореографии. СПб., 1996. С. 12.
(обратно)
166Дмитриев М.А. Указ. соч. С. 105.
(обратно)
167Глинка С.Н. Записки // Золотой век Екатерины Великой. М., 1996. С. 55.
(обратно)
168Глушковский А.П. Указ. соч. С. 196.
(обратно)
169Там же. С. 197.
(обратно)
170Там же.
(обратно)
171Глушковский А.П. Указ. соч. С. 197–198.
(обратно)
172Стуколкин Л. Указ. соч. С. 28–29.
(обратно)
173Глушковский А.П. Указ. соч. С. 148.
(обратно)
174Там же. С. 192.
(обратно)
175Танцы. История и развитие. СПб., 1903. С. 54.
(обратно)
176Друскин М.С. Очерки по истории танцевальной музыки. Л., 1936. С. 21.
(обратно)
177Глушковский А.П. Указ. соч. С. 137.
(обратно)
178Друскин М.С. Указ. соч. С. 25.
(обратно)
179Цорн А. Грамматика танцевального искусства и хореографии. Одесса, 1890. С. 197.
(обратно)
180См.: Архив князя Воронцова. Кн. 37. С. 359.
(обратно)
181Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 280.
(обратно)
182Стуколкин Л. Указ. соч. С. 41.
(обратно)
183Русские мемуары. Избранные страницы. М., 1990. С. 213.
(обратно)
184Там же. С. 391–392.
(обратно)
185Друскин М.С. Указ. соч. С. 46–47.
(обратно)
186Ауэрбах Л. Рассказы о вальсе. М., 1980. С. 11.
(обратно)
187Друскин М.С. Указ. соч. С. 48.
(обратно)
188Ауэрбах Л. Указ. соч. С. 10.
(обратно)
189Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 95.
(обратно)
190Там же.
(обратно)
191Друскин М.С. Указ. соч. С. 59.
(обратно)
192Лист Ф. Ф. Шопен. М., 1956. С. 101–102.
(обратно)
193Там же. С. 104.
(обратно)
194Там же. С. 113.
(обратно)
195Пушкин А.С. Сочинения: В 3 т. М, 1986. Т. 3. С. 16–17.
(обратно)
196См.: Русский быт… Ч. I. С. 130.
(обратно)
197Каменская М. Указ. соч. С. 251.
(обратно)
198Лист Ф. Указ. соч. С. 135–137.
(обратно)
199Стуколкин Л. Указ. соч. С. 30–31.
(обратно)
200Кшесинская М. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 13.
(обратно)
201Там же. С. 18.
(обратно)
202Соллогуб В.А. Указ. соч. С. 103.
(обратно)
203Смирнова-Россет А.О. Указ. соч. С. 121.
(обратно)
204Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой. 1812–1841. СПб., 1871. С. 160.
(обратно)
205Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. С. 292.
(обратно)
206Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину (из воспоминаний) // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. 2. С. 419.
(обратно)
207Русский быт… Ч. I. С. 130.
(обратно)
208Захарова О.Ю. История русских балов. С. 19–20.
(обратно)
209Там же. С. 20.
(обратно)
210Там же. С. 22.
(обратно)
211Хрестоматия… С. 235.
(обратно)
212Там же. С. 318.
(обратно)
213Русский быт… Ч. II. С. 222–223.
(обратно)
214Захарова О.Ю. Указ. соч. С. 49.
(обратно)
215Придворная жизнь. 1613–1913 гг. СПб., 1913. С. 40.
(обратно)
216Там же. С. 42.
(обратно)
217Русский архив. 1871. Стлб. 0254.
(обратно)
218Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. С. 372. Речь идет о празднике, устроенном императрицей Марией Федоровной в честь дня рождения великой княгини Марии Павловны, приехавшей в Петербург в феврале 1822 г.
(обратно)
219Цит. по: Мартен-Фюжье А. Указ. соч. С. 146.
(обратно)
220Цит. по: Воспоминания А.К. Анненковой // Наша старина. 1915. Март. С. 277.
(обратно)
221Хрестоматия… С. 320.
(обратно)
222Там же. С. 322.
(обратно)
223Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Русская старина. 1899. Ноябрь. С. 289.
(обратно)
224Всемирная иллюстрация. 1898. Т. LIX. С. 204–205.
(обратно)
225ГАРФ. Ф. 553. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 62.
(обратно)
226Что за чертовщина все это? (фр.)
(обратно)
227Извините, пожалуйста! (нем.)
(обратно)
228Скажите, ради бога! ваша опытность к тому же… (фр.)
(обратно)
229Но… послушайте, ваше высокопревосходительство! (фр.)
(обратно)
230Дорогой друг (фр.)
(обратно)
231Послушайте, мой добрый и почтенный друг! (фр.)
(обратно)
232Доколе? (лат.)
(обратно)
233Какие непристойности! (фр.)
(обратно)
234Не более того! (нем.)
(обратно)
235Точка!.. (нем.)
(обратно)
236Вот истинный талант… Прелестно! (фр.)
(обратно)
237Подросточков (фр.).
(обратно)
238Подростки (фр.).
(обратно)
239Любезный граф, вы один из лучших моих учеников. Вы должны танцевать. Посмотрите, сколько хорошеньких девушек (фр.).
(обратно)
240Нет, мой милый, я лучше посижу для вида (фр.).
(обратно)
241Сочельник (фр.).
(обратно)
242Очень, очень рады вас видеть (фр.).
(обратно)
243Прелесть! (фр.)
(обратно)
244По нем теперь все с ума сходят (фр.).
(обратно)
245Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)
(обратно)
246Да, сударь, конечно, сударь (фр.).
(обратно)
247Помни о смерти (лат.).
(обратно)
248Пара (фр.).
(обратно)
249Завтраком с танцами (фр.).
(обратно)
250Но он, право, недурен (фр.).
(обратно)
251Пастушке (фр.).
(обратно)
252Светский человек (англ.).
(обратно)
253Здесь потрясающе (фр.).
(обратно)
254Дурной тон (фр.).
(обратно)
255Какой очаровательный ребенок! (фр.)
(обратно)
256Посмотрите, моя дорогая (фр.).
(обратно)
257Посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью (фр.).
(обратно)
258Шен, жетэ-ассамбле — фигуры в танце.
(обратно)
259Шассе-ан-аван, шассе-ан-арьер, глиссад — фигуры в танце.
(обратно)
260Вы постоянно живете в Москве? А я еще никогда не посещал столицы (фр.).
(обратно)
261Посещать (фр.).
(обратно)
262Па-де-баск — старинное па мазурки (фр.).
(обратно)
263Роза или крапива? (фр.)
(обратно)
264Роза (фр.).
(обратно)
265Не нужно было танцевать, если не умеешь! (фр.)
(обратно)
266Это забавно!.. (фр.)
(обратно)
267Благодарю, сударь (фр.).
(обратно)
268Пермете (фр. permettre) — позвольте.
(обратно)
269Pour mazure (искаженное фр. вместо pour la mazourka) — на мазурку.
(обратно)
270Очаровательно! прелестно! (фр.)
(обратно)
271Двое вперед! (фр.)
(обратно)
272Большая цепь! (фр.)
(обратно)
273Ваша очередь, сударыня! (фр.)
(обратно)
274По-байроновски (фр.).
(обратно)
275Кто мной пренебрегает, меня теряет (фр.).
(обратно)
276Инкомодите (искаж. фр. incommodit?) — неудобство.
(обратно)
277Как истинный кавалер-француз (фр.).
(обратно)
278Очарован (фр.).
(обратно)
279«Вот еще», «Черт возьми», «Пст, пст, моя крошка» (фр.).
(обратно)
280«Si j’aurais» вместо «si j’avais» — «если б я имел»: неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего (фр.).
(обратно)
281Безусловно (фр.).
(обратно)
282Драгоценности (фр.).
(обратно)
283Парадный бал (от фр. bal par?).
(обратно)
284Большой круг (от фр. grand rond).
(обратно)
285Я пустилась во все тяжкие (фр.).
(обратно)
286Почему? (фр.)
(обратно)
287И так далее? (фр.)
(обратно)
288Загадка! (фр.)
(обратно)
289Неприятно-с… (фр.)
(обратно)
290Бедный ребенок!.. (фр.)
(обратно)
291Тысяча извинений, сударыня (фр.).
(обратно)
292Очень рад, сударыня (фр.).
(обратно)
293Кавалеры, приглашайте дам! (фр.)
(обратно)
294Напротив (фр.).
(обратно)
295Большой круг (фр.).
(обратно)
296Дамы, вперед… назад! Кавалеры, одни! Простите… направляйте ваших дам! (фр.)
(обратно)
297Кавалеры, вперед! Кавалеры, в круг (фр.).
(обратно)
298Больше жизни, господа! (фр.).
(обратно)
299Пренебрегает (от фр. n?gliger).
(обратно)
300Кавалеры, развлекайте дам! (фр.)
(обратно)
301Еще (фр.).
(обратно)
302Альфонс Карр (фр.).
(обратно)
303Дорогая (фр.).
(обратно)
304Как у Николая (фр.).
(обратно)
305Будем веселиться! (лат.)
(обратно)
306«Осужденные» (исп.).
(обратно)
307Некогда виденное (фр.).
(обратно)
308Фигура 19.
(обратно)
309Фигура 31.
(обратно)
310Фигура 18.
(обратно)
311Фигура Крестообразные шены не имеет в себе никакой трудности в подробностях и может быть кратко изображена таким образом: 1 — шен вдоль, 2 — шен в ширину и 3 — шен вкось.
(обратно)
312Пастушка (фр.) — четвертая фигура французской кадрили.
(обратно)
313Фигура 65.
(обратно)
314Фрагменты из полонеза Ф. Шопена, ор. 23, № 1.
(обратно)Оглавление
Вместо предисловия История бального церемониала в Росии Вступление История русских балов Поэзия бального костюма Язык церемониального жеста и костюма Танец — зеркало времени Оформление бальных залов Послесловие Балы в русской поэзии и прозе XIX–XX вв. Хрестоматия Александр Пушкин Арап Петра Великого Отрывок из неоконченного романа Григорий Данилевский Мирович Отрывок из романа Часть II Похождения известных петербургских действ XIII Бал у Фитингофа Александр Пушкин Евгений Онегин Отрывок из романа Глава первая Глава пятая Михаил Загоскин Два московских бала в 1801 году Евгений Баратынский Лев Толстой Война и мир Отрывок из романа-эпопеи Том I XVII Том II XII XIV XV XVI XVII Том III III Марина Цветаева Генералам двенадцатого года Александр Бестужев-Марлинский Испытание Отрывок из повести III Евдокия Ростопчина Бал на фрегате Владимир Соллогуб Большой свет Повесть в двух танцах Отрывок из повести II Мазурка Алексей Плещеев Лев Толстой Детство Отрывок из повести Глава XX Собираются гости Глава XXI До мазурки Глава XXII Мазурка Глава XXIII После мазурки Алексей Толстой Михаил Лермонтов Герой нашего времени Отрывок из романа Княжна Мери Евдокия Ростопчина Отрывки из «Дневника девушки» Отрывок из романа в стихах Иван Тургенев Затишье Отрывок из повести Евдокия Ростопчина Искушение Николай Гоголь Мертвые души Отрывок из поэмы Иван Тургенев Отцы и дети Отрывок из романа Иван Бунин Вальс Лев Толстой Анна Каренина Отрывок из романа XXII XXIII Афанасий Фет Бал Антон Чехов Анна на шее Отрывок из рассказа II Маска Дорогие уроки Отрывок из рассказа Николай Листов Александр Куприн Юнкера Отрывок из романа Глава ХХ Полонез Глава XXI Вальс Глава XXII Ссора Поединок Отрывок из повести VIII IX Лев Толстой После бала Отрывок из рассказа Константин Веригин Благоуханность Отрывок из биографической повести Бал Иван Бунин Памятный бал Натали Отрывок из рассказа Анастасия Цветаева Очерк Николай Гумилев Старина Приложение Руководство к изучению новейших бальных танцев Фигуры котильона «Турбильон» «Tourbillon» Новый бальный танец уч. танц. Л.И. ПРАУССА Нотный альбом «Турбильон» Новый бальный танец Л.И. Праусса Французская кадриль Менуэт И. Гайдн Менуэт И. Гайдн Гавот Обработка В. Ширинского Менуэт из оперы «Дон Жуан» В. Моцарт Гавот Ж. Рамо Гавот Э. Гиро Полонез И. Козловский Полонез[314] Ф. Шопен
Наш
сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального
закона Российской федерации
"Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995
N 110-ФЗ, от 20.07.2004
N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения
произведений
размещенных на данной библиотеке категорически запрешен.
Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.
|
|
|
Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - электронные книги бесплатно