
|
|
История лингвистических учений
В. М. Алпатов
История лингвистических учений
Владимир Михайлович Алпатов родился в 1945 году. Окончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ в 1968 году и аспирантуру Института востоковедения АН СССР в 1971 году. С 1971 года работает в Институте востоковедения АН СССР — РАН, заместитель директора института с 1994 года. Доктор филологических наук с 1984 года. Автор книг и статей по общему языкознанию, японскому языку, социолингвистике и истории науки.
ПредисловиеВ учебную программу филологических факультетов университетов входит курс «История лингвистических учений», в котором студенты знакомятся с историей мировой науки о языке, с различными лингвистическими школами и направлениями. Однако на русском языке, в отличие от основных западных языков, по существу нет не только специального учебного пособия по данному курсу, но вообще сколько-нибудь полного описания истории языкознания. То, что есть, либо написано очень давно и уже явно устарело (например, переведенная на русский язык и изданная в 1938 г. книга В. Томсена), либо охватывает лишь часть истории лингвистики. Например, ленинградский многотомник «История лингвистических учений» был доведен лишь до эпохи позднего средневековья; две книги Ф. М. Березина касаются лишь отечественной науки.
Наиболее близок к целям курса «История лингвистических учений» известный труд В. А. Звегинцева «История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях», выдержавший три издания. Его сильной стороной являются «извлечения», то есть тексты многих крупных лингвистов, в целом удачно подобранные и очень представительные. Тексты занимают основную часть книги, а «очерки» В. А. Звегинцева, безусловно, серьезные и в большинстве случаев точные по своим оценкам, в основном играют роль предисловий к этим текстам. Требуется все же более подробный очерк развития мировой науки о языке. Кроме того, последнее издание труда В. А. Звегинцева вышло в 1964–1965 гг. За прошедшее время, во-первых, лингвистика развивалась, что тоже как-то должно быть учтено, во-вторых, с течением времени некоторые оценки В. А. Звегинцева стали требовать корректив и уточнений, выявились некоторые пробелы в произведенном им подборе авторов. И еще одно: В. А. Звегинцев, как видно уже из названия его книги, сосредоточился на науке двух последних веков; языкознанию более раннего времени посвящен лишь краткий очерк, уже не соответствующий современному состоянию истории лингвистики.
Исходя из всего этого, автор данного учебного пособия решил предложить его читателю, используя свой опыт преподавания курса «История лингвистических учений» в МГУ и РГГУ. При этом пособие не следует рассматривать как замену труда В. А. Звегинцева. Автор старался по возможности в максимальной степени ориентироваться на корпус лингвистических текстов, собранный его покойным учителем В. А. Звегинцевым. Пока что трудно надеяться на новое издание столь же полного и представительного корпуса. Поэтому «Историю языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях» в ее хрестоматийной части следует рассматривать как дополнение к пособию.
В то же время автор, разумеется, не мог целиком исходить из того, что было сделано несколько десятилетий назад. Некоторые авторы, рассматриваемые В. А. Звегинцевым (А. Марти, В. Куайн, С. К. Шаумян), здесь не упоминаются. Другие авторы, чьи тексты есть у В. А. Звегинцева, рассмотрены лишь суммарно; например, это относится к основателям сравнительно-исторического языкознания Ф. Боппу, Р. Раску, Я. Гримму, A. X. Востокову, труды которых почти не содержат общелингвистических рассуждений и в отрывках малоинформативны, а также к Н. Я. Марру, тексты которого не поддаются научному анализу. В то же время сейчас уже очевидна необходимость рассмотрения ряда работ, оказавших значительное влияние на развитие мирового языкознания, но не попавших по тем или иным причинам в «Историю…» В. А. Звегинцева. Там, например, почти ничего не сказано о «Грамматике Пор-Рояля», вовсе не упомянут Л. Теньер, Н. Трубецкой представлен лишь как один из соавторов коллективных «Тезисов Пражского лингвистического кружка», никак не учтены (за исключением научно непродуктивного марризма) попытки некоторых ученых 20—40-х гг. выступать против структурализма и предлагать альтернативы ему.
Во многих случаях и в отношении авторов, представленных у В. А. Звегинцева, читателю необходимо выйти за рамки опубликованных в хрестоматии текстов. Надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, есть лингвисты, оставившие концентрированное выражение своих теоретических идей в сравнительно небольших по объему текстах; к их числу относятся, например, В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр. Такие ученые удобны для представления в хрестоматиях. Но многие лингвисты оставили теоретически важные идеи в виде попутных замечаний или экскурсов в большом количестве работ, часто посвященных очень конкретным проблемам. К их числу относятся, например, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, Е. Курилович. В пособии речь идет о многих их публикациях, обычно доступных на русском языке, но в большинстве не представленных у B. А. Звегинцева. Во-вторых, в 50—60-е гг. «История» В. А. Звегинцева часто была единственным изданием на русском языке, где были представлены те или иные лингвисты. За прошедшие годы труды некоторых из них были изданы в русском переводе или впервые (В. фон Гумбольдт, К. Бюлер), или в большем, чем ранее, объеме (Э. Сепир); также следует упомянуть хрестоматию «Пражский лингвистический кружок». Во всех таких случаях пособие ориентируется на последние русские издания, оттуда же приводятся и цитаты, которые иногда не совпадают с переводами у В. А. Звегинцева. Список основных изданий, учтенных при составлении пособия, приводится в библиографии.
В отношении лингвистики XIX–XX вв. автор в основном ориентировался на те зарубежные труды, которые полностью или в извлечениях издавались на русском языке. Такое ограничение сделано, чтобы не создавать дополнительных трудностей для студентов, хотя в некоторых случаях, возможно, и сужается общая картина. Это ограничение не касается более ранних этапов развития науки, плохо представленных в русских переводах.
Один из спорных вопросов, вставших перед автором, — хронологические рамки, того, что излагается. Сейчас уже ясно, какое значение имела для развития мировой лингвистики «хомскианская революция» конца 50-х — начала 70-х гг. Уже можно подвести определенные итоги того, какие изменения произошли под ее влиянием. Отразить в пособии по истории лингвистических учений идеи Н. Хомского, в концентрированном виде изложенные в книге «Язык и мышление», представляется совершенно необходимым, С другой стороны, итоги того периода в развитии лингвистики, который наступил после «хомскианской революции», подводить еще рано. Многое еще не устоялось. Пытаться довести изложение до второй половины 90-х гг. XX в. достаточно сложно. По-видимому, все же очерк лингвистики последних двух десятилетий — особая задача, требующая не столько исторического, сколько логического подхода. Поэтому автор все-таки решил завершить свой исторический очерк «хомскианской революцией», в основном опираясь на ранние (до начала 70-х гг.) работы Н. Хомского.
Безусловно, спорен и вопрос о границах проблематики. В. А. Звегинцев ограничивался выявлением того, как решались две важнейшие проблемы лингвистики: проблема предмета науки о языке и проблема метода научного исследования. В данном пособии автор хотел рассмотреть историю языкознания несколько шире, как-то упоминая и важнейшие конкретные позитивные результаты, полученные наукой о языке в ходе ее развития. Однако пособие не надо рассматривать как историю всей лингвистики вообще. Мы не ставили перед собой задачу всесторонне описать изучение конкретных языков и языковых семей в мировой науке: объем учебного пособия не безграничен. Прежде всего для нас важно развитие лингвистических теорий и методов. А насколько автор смог охватить действительно самое существенное, судить читателю.
Лингвистические традиции
Становление и развитие основных лингвистических традицийЛюди с самых древних времен в том или ином контексте задумывались о проблемах языка. Хотя в большинстве ситуаций люди не замечают языка, на котором говорят, однако на языковые проблемы приходилось обращать внимание при явных речевых ошибках, при том или ином непонимании собеседника и прежде всего в случаях, когда сталкивались между собой носители различных языков. Обращали внимание и на слово, превращаемое в дело: клятвы, обеты, проклятия, магические формулы играли заметную роль в жизни древнего человека. Представления о силе слова, о его обрядовом и магическом значении, о соответствии между словом и обозначенным им человеком или предметом весьма важны для многих традиционных культур.
Однако от такого рода первичных представлений о языке еще далеко до формирования традиции изучения языка. Обычно не приводило к такому формированию и появление письменности у того или иного народа. Многие культуры, даже обладавшие письмом, не создали сколько-нибудь развернутых концепций и описаний языка; по крайней мере, мы про них ничего не знаем. Например, очень трудно сказать, что думали о вопросах языка в Древнем Египте, хотя там безусловно учили чтению и письму. Ничего нам не известно о формировании лингвистических традиций у хеттов, жителей Урарту, в цивилизациях Америки и у многих других народов.
Чуть больше нам известно о вавилонской культуре, где использовался сначала шумерский, а затем аккадский язык. До нас дошли списки слов и даже первые известные в истории парадигмы словоизменения: от 2-го тысячелетия до н. э. дошли списки слов, сгруппированных по совпадающим корням или аффиксам. Вероятно, эти списки использовались при обучении грамоте. Однако в Вавилоне ограничивались тем или иным представлением конкретного материала, никаких более общих идей до нас не дошло и неизвестно, были ли они.
Древнейшие из известных нам лингвистических традиций — индийская, европейская (античная) и китайская — сформировались независимо друг от друга в первом тысячелетии до н. э.
По-видимому, исторически первой из традиций была индийская. Говорить о времени ее формирования очень трудно: в индийской культуре категория времени и календарь не играли существенной роли, поэтому в отличие от Европы и Китая там не существовало хронологий и летописей. Любые датировки древнеиндийских текстов крайне затруднительны, например, грамматику Панини разные ученые относили к периоду от VI до II века до н. э. Неясны и относительные датировки, если только один памятник прямо не ссылается на другой. Особенно трудно что-то сказать о периоде создания традиции, поскольку наиболее ранние труды до нас не дошли. Реально мы можем говорить о традиции уже начиная с ее высшего взлета — великой грамматики Панини, содержащей в себе весьма полное описание санскрита. Панини, несомненно, опирался на своих предшественников, но о них мы реально ничего не знаем. Вероятнее всего, Панини жил в IV в. до н. э., но полной ясности здесь нет. О его жизни мы ничего не знаем, лишь одно более или менее достоверно: великий лингвист, по-видимому, не был грамотен. Его грамматика создавалась в устной форме и в расчете на устную передачу (к этой ее особенности мы еще вернемся) и лишь спустя несколько веков была записана. Такова была особенность индийской культуры: как истинное знание рассматривалось знание устное, передаваемое от учителя к ученику.
Другим великим лингвистом Древней Индии был Яска, знаменитый как этимолог и создатель первой известной нам классификации частей речи. Поскольку Панини и Яска не упоминают друг друга, неясно, кто из них жил раньше; скорее всего, они жили приблизительно в одну эпоху. Двумя другими крупнейшими представителями индийской традиции были Катьяяна и Патанджали. Они безусловно жили после Панини, поскольку упоминали его труд и комментировали его; Катьяяна жил раньше Патанджали. Обычно Катьяяну относят примерно к III в. до н. э., Патанджали — к II–I в. до н. э.
В дальнейшем, после Панини, индийская традиция приобрела в первую очередь комментаторский характер. Во-первых, комментировали священные памятники, в первую очередь веды. Во-вторых, комментировали саму грамматику Панини, а позднее и грамматики Катьяяны и Патанджали. Писали комментарии, комментарии к комментариям, комментарии к комментариям комментариев и т. д. Ничего столь же оригинального, как труд Панини, создать больше так и не удалось. Уже с середины 1-го тысячелетия н. э. индийская традиция приобрела эпигонский характер, постоянно воспроизводя одни и те же идеи, прежде всего идеи Панини. В таком виде она дожила до конца XVIII в., когда с ней впервые познакомились европейцы, освоившие затем ряд ее идей и методов. Существует она даже в современной Индии параллельно с лингвистикой европейского типа.
Почти тогда же, когда и в Индии, сформировалась традиция изучения языка в античном мире. В Древней Греции довольно долго языкознание, как и многие другие науки, не было отделено от «науки наук» — философии. Философы классического периода высказывали немало интересных догадок о природе и функционировании языка. Особенно интересны диалог «Кратил» Платона (427–347 гг. до н. э.) и ряд сочинений Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Однако в классический период еще не было попыток описания языка. Можно говорить лишь о зачатках такого описания у Аристотеля, прежде всего в его сочинении «Об именовании», где появляются первая в античности классификация частей речи и определения имени и глагола.
Становление греческой лингвистической традиции в собственном смысле начинается в так называемый период эллинизма, когда после распада империи Александра Македонского греческий язык и греческая культура распространяются по всему Восточному Средиземноморью. Не случаен тот факт, что описания языка появляются как раз тогда, когда стала актуальной задача обучения греческому языку носителей иных языков, а многие из античных лингвистов не были греками по происхождению. Основные понятия античной традиции, многие из которых дожили до наших дней, вырабатывались в течение Ш-го и Il-го веков до н. э. Первоначально это происходило в рамках философской школы стоиков, в частности, они уточнили и расширили классификацию части речи и впервые ввели понятие падежа и систему падежей. Затем центром изучения греческого языка стала на несколько веков Александрия в Египте, крупнейший центр эллинистической культуры и учености, знаменитая своей библиотекой. В Александрии, начиная от Аристарха (II в. до н. э.), окончательно сформировались основные понятия грамматики (так тогда называлась наука о языке в целом, термин «лингвистика» позднейшего происхождения).
Точно восстановить весь процесс становления античной традиции невозможно, поскольку сочинения стоиков и ранних александрийцев до нас не дошли и кое-что о них известно лишь из упоминаний у других авторов. Представление об александрийских грамматиках дают две сохранившиеся работы, относящиеся уже к периоду, когда Александрия вошла в состав Римской империи. Это «Синтаксис» Аполлония Дискола (2 век н. э.) и грамматика Дионисия Фракийского, время создания которой точно не известно; современные комментаторы склонны считать, что скорее всего Дионисий писал позже Аполлония, хотя прежде грамматику Дионисия относили обычно к значительно более раннему времени.
Эти сочинения, в первую очередь грамматика Дионисия, считались образцовыми, и греческие грамматики позднеантичного и византийского времени в основном сочинялись на их основе.
Идеи александрийцев достаточно быстро проникли и в Рим. Уже в I в. до н. э. там появляется первый крупный грамматист. Это Марк Теренций Варрон (116—27 гг. до н. э.), исключительно разносторонний автор, писавший сочинения по самым разнообразным проблемам; до нас дошли его труды по сельскому хозяйству и (не полностью) по грамматике. Он оказался самым ранним из античных грамматистов, чьи сочинения нам известны, поэтому не всегда легко определить, в чем Варрон оригинален, а в чем пересказывает неизвестных нам греческих или римских предшественников. Варрон и другие римские ученые достаточно легко и лишь с минимальными изменениями приспособили греческие схемы описания к латинскому языку, очень похожему на греческий по своему строю. Окончательно античная традиция была зафиксирована в двух позднеантичных латинских грамматиках: грамматике Доната (III–IV в. н. э.), существующей в двух вариантах: более кратком и более пространном, и в наиболее полной из всех античных грамматик, многотомной грамматике Присциана, относящейся уже к ранневизантийскому времени — к первой половине VI в. На протяжении всего средневековья две грамматики служили образцами.
После распада Римской империи европейская традиция окончательно распалась на два варианта: восточный, греческий, и западный, латинский, которые уже развивались вне всякой связи друг с другом. В течение нескольких веков средневековая лингвистика как на Востоке, так и на Западе мало внесла нового в науку о языке. Новый этап развития западноевропейской лингвистики начался с появлением с XII–XIII вв. философских грамматик, стремившихся не описывать, а объяснять те или иные языковые явления. Сложилась школа модистов, работавшая с начала XIII в. по начало XIV в.; самый знаменитый из модистов — Томас Эрфуртский, написавший свой труд в первом десятилетии XIV в. Модисты интересовались не столько фактами латинского языка (где они в основном следовали Присциану), сколько общими свойствами языка и его отношениями к внешнему миру и к миру мыслей. Модисты впервые пытались установить связь между грамматическими категориями языка и глубинными свойствами вещей. Модисты внесли также вклад в изучение синтаксиса, недостаточно разработанного в античной науке.
Первые китайские источники, в которых речь идет о вопросах языка, появились, как и аналогичные греческие, в середине I тысячелетия до н. э. С V в. до н. э. появляются толкования непонятных слов в древних текстах, создаются концепции о связи между словом и свойствами того, что оно обозначает; в III в. до н. э. появляются теории «исправления имен», то есть правильного подбора имени, которое бы соответствовало обозначаемому. Однако говорить о становлении лингвистической традиции можно лишь начиная со II века до н. э., когда был составлен первый иероглифический словарь. В дальнейшем словарная традиция стала ведущей в китайской науке о языке. Первым классиком китайского языкознания стал Сю Шэнь (I в. н. э.), который предложил классификацию иероглифов и выделил их составные части; то и другое в основных своих чертах сохранилось в китайской науке до наших дней, а затем было воспринято и европейской китаистикой.
Первоначально китайская традиция занималась лишь графикой и толкованием памятников. Однако с первых веков новой эры в ней появляется и фонетика; многие предполагают, что интерес к звуковой стороне языка пришел в Китай из Индии в период распространения в Китае буддизма. В III–VI вв. появляются словари омофонов, начинают описываться тоны, к VI в. появляются словари рифм, дающие представление о звучании тех или иных иероглифов в то время. Последним крупным достижением китайской традиции было появление в XI в. фонетических таблиц, где по горизонтали группировались иероглифы с одинаковой инициалью (начальнослоговым согласным), по вертикали — с одинаковой финалью (гласный плюс последующая часть слога).
В последующие века развитие китайской традиции, в отличие от индийской, продолжалось, но в основном в рамках уже выработанного. Составлялись все новые словари, которые достигали гигантского объема. Самый большой в Китае словарь, созданный в 10-е гг. XVIII в., содержал 47.035 иероглифов и 1.995 их вариантов. Уже на позднем этапе, с XIV в., появились словари так называемых «пустых слов», то есть частиц и других грамматических элементов языка. Словари рифм и фонетические таблицы постепенно обновлялись, отражая изменения в произношении. В таком состоянии в конце XIX в. китайская наука впервые познакомилась с европейской. В отличие от индийской она довольно быстро подверглась европеизации, и сейчас китайская традиция в чистом виде уже не существует, хотя некоторые ее идеи и методы, особенно в описании иероглифики, сохранились до сих пор.
Четвертая из наиболее важных лингвистических традиций, арабская, появилась намного позже предыдущих, лишь в конце I тысячелетия н. э. Образование в VII в. Арабского халифата и распространение мусульманства привели к необходимости обучать арабскому языку, языку государственности и языку Корана, и изучать этот язык. Первые зачатки лингвистических представлений у арабов известны с VII в., но окончательно традиция сложилась в первой половине VIII в. Центрами арабской науки о языке становятся Басра и Куфа в Месопотамии (современный Ирак). В 735–736 гг. появилась первая известная нам арабская грамматика. Уже к третьему поколению басрийских грамматистов принадлежал Сибавейхи (или Сибаваихи), перс по происхождению (умер в 793 г.). Он написал знаменитую грамматику, имевшую учебные цели, где детально были описаны фонетика, морфология и синтаксис классического арабского языка. Грамматика Сибавейхи впоследствии считалась образцовой, и большинство ученых находились под ее сильным влиянием. В дальнейшем в течение нескольких веков шла интенсивная деятельность по изучению арабского языка. Помимо грамматик создавалось большое количество словарей, строились этимологии. Кроме Басры и Куфы, где лингвистические школы просуществовали несколько столетий, другой важный центр науки о языке сложился на противоположном конце арабского мира — в арабской Испании. Последним крупным арабским ученым-языковедом был Ибн Джинни (конец X — начало XI в.), сын грека-раба. Он интересен рассуждениями о природе языка и языковой норме, занимался он также этимологией и семантикой.
После распада Халифата, монгольских, а затем турецких завоеваний арабская традиция постепенно пришла в состояние упадка, ограничиваясь, как и индийская, эпигонством и самовоспроизведением. Как и в Индии, в арабских странах и в мусульманском мире в целом и сейчас продолжает существовать традиционная наука о языке, основанная на идеях Сибавейхи и других авторов. Эта наука существует параллельно с европеизированной, мало с ней соприкасаясь. В то же время, по мнению ряда ученых, в том числе Л. Блумфилда, арабская наука оказала определенное влияние на европейскую науку о языке.
Последняя из традиций, о которых здесь будет специально говориться, — японская. Она сформировалась совсем поздно, на протяжении трех с небольшим последних веков. Первоначально в Японию вместе с китайской письменностью и китайской культурой проникла и китайская лингвистическая традиция, влияние которой в ряде областей, прежде всего в составлении словарей, стойко сохранялось вплоть до периода европеизации. Однако в XVII в. Япония стала «закрытой страной», обособившись от внешнего мира, включая Китай. Японские ученые тех лет, принадлежавшие к школе кокугакуся («национальные ученые»), занялись изучением национальных ценностей и национальной религии и культуры. Одним из компонентов «национальной науки» стало изучение японского языка, начавшееся в XVII в., но наиболее активно развернувшееся во второй половине XVIII в. и в первой половине XIX в. Главным достижением деятельности кокугакуся было создание грамматики (точнее, морфологии) японского языка, где нельзя было опираться на китайские образцы. Кокугакуся также изучали фонетику и этимологию. Крупнейшими языковедами того времени стали Мотоори Норинага (1730–1801), теоретик школы кокугакуся, и Тодзё Гимон (1786–1843), окончательно сформировавший традиционную японскую систему частей речи и глагольного спряжения.
В отличие от описанных выше индийской, китайской и арабской традиций японская не успела окончательно сформироваться к моменту происшедшей после «открытия» Японии (1854) интенсивной европеизации страны. Уже к концу XIX в. произошел синтез традиционных и заимствованных с Запада подходов, в результате чего при полном исчезновении чисто традиционной науки японское языкознание XX в. обладает рядом оригинальных и своеобразных черт; см. в главе «Критика лингвистического структурализма» раздел о японском лингвисте XX в. М. Токиэда.
Данными традициями, конечно, не исчерпывается история развития лингвистических представлений в мире. Одни народы имели шансы создать собственную лингвистическую традицию, но по тем или иным причинам их не реализовали. Так получилось с тюркскими народами, которые уже в XI в. имели ценнейший памятник — словарь тюркских диалектов с элементами грамматики и фонетики, созданный Махмудом Кашгарским (Махмуд аль Кашгари) в рамках арабских моделей, но с рядом оригинальных черт. Однако этот труд, забытый вплоть до начала XX в., так и не положил основу традиции. Другие народы создали традицию лишь в отдельных областях. Так было в Корее, где в XV в. появилась собственная фонетика, описывавшая структуру, резко отличную от китайской, однако в отличие от Японии в других областях лингвистики здесь ничего оригинального создано не было. Некоторые же народы продвинулись по пути создания собственных традиций достаточно далеко. От арабской традиции с X в. отпочковалась еврейская, получившая ряд совершенно особых черт; еще раньше от индийской — тибетская, затем превратившаяся в тибетско-монгольскую. Анализ этих до конца не изученных традиций требует особой проработки, поэтому в дальнейшем мы в основном будем сопоставлять пять традиций, кратко описанных выше: индийскую, европейскую, китайскую, арабскую и японскую.
Причины формирования традиций, цели и задачиВсе лингвистические традиции создавались для решения конкретных практических задач. Чисто абстрактные рассуждения философов Древней Греции или Древнего Китая не вели к разработке лингвистических описаний. Позднее чисто теоретические, отделенные от утилитарных задач (философские, «спекулятивные») сочинения появляются лишь в Европе в эпоху схоластов (прежде всего труды модистов); в это время «спекулятивные» грамматики могли появиться уже на достаточно высоком уровне описания языка, позволявшем им опираться на конкретные описания предшественников, в первую очередь Присциана. Всегда перед создателями традиций стояли практические задачи, главной из которых была задача обучения.
При этом задача научиться читать и писать на материнском языке обычно не вела к созданию лингвистической традиции: эта задача не требовала изучения системы языка в целом, а основанный на интуиции первичный фонетический (точнее, неосознанно фонологический) анализ обычно не проводился в явном виде. Возможно, поэтому не сложились развитые традиции ни в Вавилоне, ни в классической Греции, хотя письменность там существовала. В Греции до эпохи эллинизма грамматиком называли просто учителя чтения и письма.
Иная ситуация возникала, когда было необходимо учиться не только письму, но языку в целом. Не случайно, что античная традиция так и не сложилась, пока по-гречески говорили лишь греки, а арабская — пока арабский язык знали лишь арабы. Но когда в эпоху эллинизма греческий язык стал языком культуры и делопроизводства в ряде государств, а по-арабски с VII в. начали говорить и писать многие принявшие ислам народы, возникла потребность в обучении чужому языку и в связи с этим в изучении этого языка. Также не случайно, что центром греческой традиции стала не Греция, а далекая от нее Александрия, где греки были пришлым населением; точно так же арабская традиция развивалась не в исконно арабской Аравии, а в Басре и Куфе, оказавшихся в VIII в. на грани арабского и персидского мира. И очень многие из видных представителей этих двух традиций не могли считать соответственно греческий и арабский язык материнскими, у них было иное происхождение.
Другая ситуация была в Индии и Японии. Санскрит для индийца или старояпонский (бунго) для японца XVII–XIX вв. были безусловно языками своего народа. Но в отличие от греческого (койне) в эпоху эллинизма или классического арабского в годы, когда жил Сибавейхи, эти языки не были материнскими вообще ни для кого. Санскрит и бунго, на изучении которых основывались соответственно индийская и японская традиции, представляли собой литературно обработанные и «законсервированные» языки более раннего периода (в обоих случаях консервации стихийно произошла намного раньше формирования традиции). Во времена Панини санскрит и во время Мотоори бунго уже резко отличались от языков, на которых говорили в быту, и требовали специального обучения. Аналогичная ситуация в конечном итоге сложилась и в остальных традициях. Латынь и древнегреческий язык в средневековой Европе, древнекитайский (вэньянь) в последние два тысячелетия, классический арабский в последние века также стали языками, требующими специального обучения для каждого.
Некоторое исключение среди всех традиций в этом плане составляла китайская в ранний ее период. Она развивалась среди китайцев, а вэньянь первоначально не очень сильно отличался от разговорного. Однако сложный характер иероглифической письменности требовал специального ее изучения. Если немногочисленные буквы греческого или арабского письма могли выучиваться как целые «картинки», то при большом количестве иероглифов и их сложной структуре необходимо было их расклассифицировать по категориям и выделить в их составе типовые блоки, из которых строится большинство иероглифов. В помощь изучающим иероглифику и была выработана классификация Сю Шэня.
Итак, важнейшей целью создания и развития лингвистических традиций была задача обучения языку культуры, не являвшемуся материнским либо для всех, либо для части людей, находившихся в сфере данной культуры.
Эта задача могла быть не единственной. Второй по значимости была задача толкования текстов на не до конца понятном языке. Из сказанного выше видно, что такая задача появлялась там, где изучаемый традицией язык расходился с разговорным. Поэтому толковательская деятельность чаще приобретает первостепенное значение на более поздних этапах развития традиций. Лишь самая поздняя из здесь рассматриваемых японская традиция с самого начала была комментаторской и задачи толкований играли в ее формировании, вероятно, не меньшую или даже большую роль, чем задачи обучения бунго. Впрочем, и александрийцы толковали поэмы Гомера, язык которых к тому времени уже был архаичен; влияние этой работы видят в некоторых элементах античных грамматик, например, в учении о просодии. Однако основным объектом деятельности александрийцев был койне, то есть вполне живой тогда язык. Примерно та же ситуация была и в Древнем Китае. Позднее однако там и там (в Европе в Средние века) роль комментаторской деятельности повысилась; в частности, европейские словари долго имели характер глосс, то есть толкований непонятных слов и речений. Ни Панини, ни Сибавейхи не занимались комментированием памятников, наоборот, сами их тексты потом стали предметом комментирования и толкования. Из отдельных лингвистических дисциплин такого рода деятельность помимо семантики особо влияла на фонетику, поскольку часто требовалась реконструкция древнего («правильного») произношения. Так было и в Японии, и в Китае, а в эпоху Возрождения — и в Европе.
Изучение текста престижных памятников могло и не быть непосредственно связано с толкованием. Например, в арабской традиции очень скоро были составлены словари к Корану, где отмечалось упоминание того или иного слова в его тексте.
Еще одной областью практики, стимулировавшей изучение языка, было стихосложение. Для его целей в той или иной мере создавались античное учение о просодии (о длинных и кратких слогах, ударении и др.), первое описание сочетаемости звуков в средневековой Исландии, в целях определения рифм и аллитераций, китайские словари рифм. Еще любопытный пример — поэтический жанр рэнга в Японии. Стихи этого жанра строятся из двух частей, сочиняемых разными авторами: один задает тему, другой как бы отвечает. В старояпонском языке имелось своеобразное согласование: форма глагола зависела от наличия в предложении (в том числе и в части, написанной другим автором) тех или иных частиц. Поэтому из пособий по сочинению стихов такого типа возникло изучение глагольного спряжения.
Могли быть и другие практические задачи. В европейской традиции помимо грамматики существовала особая наука о правилах построения текстов — риторика. По мнению историков языкознания, понятие наклонения в античной грамматике было создано в связи с выделением различных типов предложения для риторических целей. В других традициях влияние риторических задач не прослеживается, а, например, в индийской традиции этого не могло быть, как увидим ниже, принципиально.
Важным предварительным этапом, без которого не сложились бы многие традиции, было создание национальных письменностей. Однако письмо обычно создавалось задолго до появления у соответствующего народа лингвистических сочинений или же (в Индии) вне основной линии развития науки о языке. Позднее система письма воспринималась как данность и ее принципы, исключая особый случай с китайской иероглификой, обычно не описывались. Трактаты, обсуждающие формирование письма, появлялись лишь у народов, создававшиеся письменности уже при сформировавшейся традиции данного культурного ареала. Таковы интереснейшие исландские трактаты XII в., где обсуждается применимость латинского письма к исландскому языку и в связи с этим весьма точно описывается исландская фонетика того времени.
Языковая основа и отношение к другим языкамКаждая традиция была связана с изучением какого-то одного определенного языка: санскрита, вэньяня, классического арабского, бунго; античная традиция рано разделилась на два варианта, каждый из которых также основывался на одном языке: в одном варианте это был древнегреческий, в другом латинский. Идея сравнения и сопоставления языков в собственном смысле в целом была чужда традициям за единичными исключениями: в позднеантичное время была осуществлена единственная попытка систематического сравнения латинского с греческим, а в средневековой Испании появилась сопоставительная грамматика древнееврейского и испанского языков. Несколько своеобразно в рамках индийской традиции описывали другой священный язык — пали, отличавшийся от санскрита: за основу брали санскрит, и происходила как бы система пересчета от него к пали, фиксировавшая только различия.
Единственный язык лингвистической традиции или ее варианта, с одной стороны, не был материнским языком для всех, кто занимался его изучением, или по крайней мере для значительной их части. С другой стороны, этот язык был полностью освоен, его исследователь мог исходить не только из корпуса текстов, но неявно, а иногда и явно из своей собственной языковой интуиции, из ощущений носителя языка. Позиция лингвиста не могла быть ни в одной традиции отделена от позиции носителя языка. Даже если речь шла о толковании не совсем понятного текста, исследователь старался вжиться в текст, понять контекст, в котором употреблено неясное слово. Такой подход, не разграничивающий две указанные позиции, названный современной польско-австралийской лингвисткой А. Вежбицкой антропоцентричным, был свойствен всем традициям. Он сохранился и в так называемой традиционной лингвистике, выросшей из европейской традиции, до конца XIX в.
Кроме языка своей культуры многие традиции вообще ничего не изучали или изучали лишь эпизодически. Такой подход восходит к глубокой древности. На ранних этапах развития каждому народу свойственно представление о своем языке как единственном человеческом, а о других языках как о чем-то близком к выкрикам животных, см. происхождение слов типа немцы или варвары (этимологически: бормочущие). Культурное превосходство данного народа над соседями первоначально могло лишь усиливать такие представления. Древние греки приравнивали бормотание варваров к мычанию быков. Долго сохранялась подобная традиция и в Индии, а в Китае она была несколько поколеблена лишь в период появления буддизма, заставившего обратить внимание на санскрит; однако в целом китайской цивилизации представление о китайском как единственном полноценном языке было свойственно почти до последнего времени.
В то же время не всякие языковые различия игнорировались. Могли замечаться языковые различия между своими. Древние греки, игнорируя варварские языки, были весьма внимательны к различиям в языковой сфере внутри своего этноса. Такие языковые варианты издавна получили название диалектов. Термин «диалект» сохранился в науке о языке до наших дней. Как известно, разграничение языка и диалекта — одна из весьма сложных проблем лингвистики; большинство ученых вполне справедливо указывают на то, что эта проблема не является чисто лингвистической и большую роль в таком разграничении играет самосознание самих носителей: как диалектные оцениваются языковые различия, иногда весьма значительные, внутри этноса. Такой подход отражает исконное понимание диалекта в античной традиции.
В отличие от греков, китайцев и индийцев арабы, сравнительно поздно создавшие свою цивилизацию, не могли совсем игнорировать другие языки, в частности такие, как персидский или греческий. Однако создание на арабском языке священной книги мусульман — Корана — давало возможность не считать другие языки достойным объектом исследования.
Нисколько иная ситуация сложилась в Древнем Риме, а позднее в Японии. Исходить из существования на земле единственного своего языка там не могли. Для римлян помимо латинского языка существовал еще греческий, а для японцев XVII–XVIII вв. — даже по крайней мере два, помимо своего: китайский и санскрит. Так же и для Махмуда Кашгарского помимо своих тюркских языков, явно понимавшихся им как диалекты, был и арабский. Однако такое знание не вело к сопоставлению языков. О чужих языках если и вспоминали, то лишь с оценочной точки зрения: при становлении традиции или ее варианта появляется желание доказать, что свой язык лучше или по крайней мере не хуже других, признаваемых за настоящие языки. Так, упомянутый выше Мотоори Норинага доказывал, что наличие небольшого числа слогов (точнее, мор, см. ниже) в японском языке — свидетельство его совершенства, а многочисленные слоги китайского языка и санскрита неправильны и похожи на звуки животных. Становление национальной традиции или ее варианта обязательно связано с переносом чужих понятий и методики анализа на свой собственный язык. У тюркских народов этот процесс быстро прервался, у римлян и японцев он развился до той степени, когда уже можно было не обращать внимания на соответственно греческий и китайский языки.
Итак, каждая традиция в древности и средневековье стремилась к обособлению, полностью или частично игнорируя языки иных этносов и культур. Изменение такого подхода произошло лишь в Европе при переходе от Средних веков к Новому времени, этот процесс мы разберем в следующей главе.
Синхрония — диахронияВсе традиции подходили к объекту своего изучения, выражаясь современным языком, строго синхронно. Многие описания, например у Панини, просто не предусматривают выход за пределы одной системы. Но даже если этого не было, все равно представление об историческом изменении языка не было свойственно ни одной из традиций. Язык понимается как нечто существующее изначально, обычно как дар высших существ. Скажем, для арабов Коран не сотворен, а существует извечно; Мухаммед лишь воспроизвел его для людей. Следовательно, извечен и арабский язык, на котором создан Коран, и он не может меняться. У других народов существовали предания о творении языка, иногда с участием человека, как в Библии, но все равно после творения язык уже существует как данность и уже не может измениться.
Тем не менее грамматисты не могли не заметить, что язык (даже язык культуры) меняется. Всегда наблюдались большие или меньшие расхождения между языковым идеалом и реальной языковой практикой. Это однозначно расценивалось как порча языка. Человек не может изменить или усовершенствовать божий дар, но может полностью или частично его забыть или испортить.
Именно в связи с этим едва ли не во всех традициях появлялись этимологии. Вообще, любовь к этимологизированию была свойственна очень многим народам на ранних этапах развития, однако научная этимология не существовала вплоть до XIX в. Первоначально эта дисциплина вовсе не понималась в историческом смысле как восстановление происхождения слова. Задача ученого состояла в том, чтобы очистить язык от наслоений, созданных людьми, и вернуться к языку, сотворенному богами. Этимон — не древнейшее, а «истинное» слово, всегда существовавшее и существующее, но по каким-то причинам временно забытое людьми; цель этимолога — восстановить его.
Как уже говорилось, очень часто язык культуры представлял собой нормированный вариант более раннего состояния языка, более поздняя стадия развития которого употреблялась в быту. Однако латынь и средневековые романские языки, классический арабский и арабские диалекты, бунго и разговорный японский и т. д. понимались не как разные стадии развития языка, а как престижный и непрестижный его варианты. Как отмечал М. Токиэда, в Японии подобная точка зрения господствовала еще в 40-е гг. XX в. Задачей ученого было не допускать в «возвышенный» язык проникновения элементов «вульгарного» языка. Лишь немногие языковеды, в частности Ибн Джинни, признавали, что язык не создан сразу, и допускали возможность создания новых слов. Однако и Ибн Джинни допускал языковые изменения только в лексике, но не в грамматике.
Идея историзма появилась только в Европе и лишь на более позднем этапе, чем даже идея о сравнении языков. Еще «Грамматика Пор-Рояля» XVII в. была чисто синхронной. Только с XVIII в., о чем будет сказано ниже, появился исторический подход к языку, ставший в XIX в. господствующим.
Отношение к нормеЭтот вопрос тесно связан с предыдущим. Традиции также обнаруживают здесь большое сходство при отдельных различиях, обусловленных культурными особенностями и степенью отличия языка культуры от разговорного. Нормативный подход к языку господствовал во всех традициях.
На ранних стадиях развития некоторых традиций (античность, Древний Китай), когда между разговорным и письменным языком больших различий не было и не существовал особый сакральный (священный) язык, вопросы нормы, хотя безусловно и были актуальными, решались чисто эмпирически, без выделения какого-либо строгого корпуса нормативных текстов. Филологическая деятельность также могла прямо не связываться с нормализацией: александрийские грамматисты толковали Гомера, но следовать языку его жестко не предписывалось.
Однако во всех традициях либо с самого начала, либо с течением времени возникает представление о строгой норме, от которой нельзя отступать. В европейской традиции оно появляется в поздней античности; в позднеримское время стали считать образцом язык авторов «золотого века» времен императора Августа, а язык более поздних авторов почти не изучался. Еще жестче стала норма в Средние века. В Китае так считали с первых веков новой эры. В других традициях такой подход сформировался изначально. В Японии это было обусловлено большим расхождением письменного и разговорного языка к XVII в., у арабов сакральностью языка Корана, который надо было распространять среди неарабов, в Индии — специфическими особенностями традиции, о которых будет сказано ниже.
Источники норм могли быть трех типов. Во-первых, это были уже существовавшие нормативные тексты, для большинства традиций, кроме индийской, письменные (Коран был создан устно не знавшим грамоты Мухаммедом, но уже через несколько десятилетий записан). В ряде традиций такие тексты были сакральными, священными: Коран, греческая и латинская Библия. Однако в Китае, Японии и в поздней античности они были светскими. В Китае и Японии это были наиболее престижные и, как правило, наиболее древние памятники, язык которых считался неиспорченным или минимально испорченным. Например, в Японии это были некитаизированные или минимально китаизированные памятники VIII–X вв., прежде всего один из самых ранних — «Манъёсю». Сходный подход был, как упоминалось выше, и в позднеантичное время; отброшенный после победы христианства, он возродился в эпоху Возрождения. Священность текстов снимала проблему их отбора, сложную в случае их светского характера, но создавала проблему, когда каких-то слов или форм слов не находилось в закрытом корпусе сакральных текстов.
Вторым источником нормы могли быть сами грамматики: Панини, Сибавейхи, Присциан и др.: правильным считалось то, что либо получается в результате применения хранящихся там правил (Панини), либо зафиксировано в грамматике (Сибавейхи, Присциан). При этом могли возникать противоречия между первым и вторым источником норм: например, между латынью перевода Библии и латынью, отраженной у Присциана.
Грамматика Панини как источник норм имела значитёльную специфику, связанную с общей спецификой индийской традиции. Хотя ко времени создания этой грамматики существовали Веды и другие священные тексты, норма не бралась непосредственно из них. Вопрос о том, какой этап развития санскрита отражен у Панини, до сих пор служит предметом споров среди индологов; нет ни одного текста, который абсолютно бы соответствовал Панини по языку. Поскольку данная грамматика была порождающей по характеру (см. ниже), нормативность оказывалась своеобразной: в норму входило все то, что могло порождаться на основе правил Панини; те же формы, которые не выводились из правил, автоматически отбрасывались. Такой подход исключал обсуждение вопросов нормы, которое было весьма интенсивным в других традициях, особенно европейской и арабской.
Наконец, третий источник нормы мог заключаться в выведении нормы из реального функционирования языка. Так можно было, конечно, поступать лишь тогда, когда нормированный язык не слишком отличался от разговорного; например, в средневековой Европе или Японии времен формирования традиции он был исключен. Однако в поздней античности и у арабов, а затем вновь в Европе с 14–15 вв. данные проблемы становились актуальными.
Для арабов нормой было все то, что имелось в Коране. Однако что-то там неизбежно отсутствовало; помимо отсутствия тех или иных нужных слов там, например, то или иное имя могло по случайным причинам фиксироваться не во всех падежах. Вставала проблема дополнения нормы. По мнению арабских ученых, носителями наиболее чистого (т. е. наиболее близкого к Корану) языка считались кочевые (бедуинские) племена, меньше всего испытавшие влияние культур и языков других народов. Недостающие в тексте Корана слова и формы могли включаться в норму из речи представителей этих племен. Так поступал еще такой сравнительно поздний автор, как Ибн Джинни, у которого существовала целая методика строгого отбора хороших информантов. К наблюдению за обиходом прибегали и в античности.
Помимо наблюдения за речью со стороны в качестве информанта мог выступать и сам грамматист, который мог конструировать недостающие формы и даже слова сам (конечно, это понималось не как создание чего-то нового, а как реконструкция изначально существующего, но неизвестного). Главным способом такого конструирования служила аналогия, или установление пропорции. В Греции этот метод был заимствован из математики, существовал он и у арабов. В обеих традициях шли споры по вопросу о его применимости. В античности они получили характер дискуссий между аналогистами и аномалистами. Эти споры шли несколько веков, и в них участвовали многие авторы (даже Юлий Цезарь написал труд об аналогии), они отражали различие общетеоретических концепций. Аналогисты основывались на представлении о языке как системе четких правил, в идеале не знающих исключений; большинство александрийских грамматиков и Варрон были аналогистами. Их противники аномал исты во главе с Секстом Эмпириком подвергают такие правила сомнению. Они считали, что все в языке случайно, а норма может быть выведена только из живого обихода, который не подчиняется никаким правилам. Аналогичные дискуссии были и в арабском мире, причем басрийская школа, включая Сибавейхи, сходилась с аналогистами, а куфийская — с аномалистами. Иногда, как у Ибн Джинни, устанавливалась иерархия двух способов дополнения нормы, причем учет речевого обихода хороших информантов ставился на первое место.
Оба данных принципа — установление нормы через наблюдение над обиходом и сознательное конструирование нормы по аналогии — исчезли в Европе в раннее средневековье и возродились в эпоху создания национальных литературных языков, также нередко конфликтуя друг с другом.
Нормативная деятельность стремилась сохранять язык неизменным, хотя на деле это не всегда бывало так. Например, в Японии строго следили за тем, чтобы в бунго не попадали грамматические формы разговорного языка, однако реально многие грамматические формы бунго, сохранявшиеся в грамматиках, исчезали из языка; в текстах на бунго, написанных в начале XX в., употреблялось не более трети суффиксов и окончаний старого языка, что вело и к изменению значения оставшихся показателей. Преобладающим порядком слов в классической латыни, как и в других древних индоевропейских языках, был порядок «подлежащее — дополнение — сказуемое», однако позднесредневековые схоласты, в том числе модисты, считали «естественным» и «логическим» порядок «подлежащее — сказуемое — дополнение». Этот порядок стал преобладающим в разговорных языках Европы того времени и, безусловно, и в той латыни, на которой говорили и писали схоласты.
В целом же нормативный подход независимо от степени сознательности отношения к норме играл ведущую роль в любой традиции. Исключение, может быть, составляли греческие ученые раннего периода, до Аристотеля включительно, когда к вопросам языка обращались более из естественного любопытства, чем из желания нормировать греческий язык. Но тогда не отделенная от философии грамматика и находилась в зачаточном состоянии. Позже даже отделенные от непосредственно практических целей философские грамматики позднего средневековья исходили из представлений о «правильном», соответствующем логике, и «неправильном» языке. Точка зрения, полностью отвлекающаяся от проблемы нормы, была окончательно выработана лишь наукой XIX в. (см. раздел о А. М. Пешковском в главе, посвященной советскому языкознанию).
Требования к описанию языкаЗдесь будет идти речь о ряде вопросов, связанных с тем, как построено описание. Это построение бывает основано на принципах, иногда прямо формулируемых, как принцип простоты в индийской традиции, но часто даже не осознаваемых. В этом плане самая специфичная из всех — индийская традиция, а все другие относительно схожи. Вероятно, такое различие связано с тем, что индийцы (по крайней мере, в эпоху создания и расцвета традиции) имели дело с устной речью и создавали труды в устной форме, тогда как для других народов основу языка составляли письменные тексты, а сами традиции имели письменный характер.
Грамматика Панини имела порождающий характер, ориентированный на синтез текстов, на преобразование смысла и исходных единиц в текст. Конечно, Панини ориентировался на какие-то тексты, наблюдая над которыми, он вывел описываемые закономерности, однако этот этап анализа в грамматику не включался. В самой же грамматике имелся набор исходных единиц — корней и аффиксов; отдельно предлагались и фонетические правила построения этих единиц из единиц фонетики — звуков. Основная часть грамматики заключалась во множестве правил разного типа, в соответствии с которыми на выходе получались канонические тексты.
Другим же традициям был свойствен аналитический подход, достаточно естественный, если перед исследователем не текучее множество устных текстов, а определенный и обычно фиксированный набор текстов, которые уже записаны. В таком случае текст — исходная данность. Задача языковеда — проанализировать эти тексты, разбить их на единицы, выявить значения этих единиц, их взаимоотношения и т. д. При таком подходе задача построения текстов или каких-то их фрагментов либо не ставится, либо ставится лишь как дополнительная (создание форм по аналогии в европейской и арабской традициях). В Европе такая задача выделялась начиная с античности в особую дисциплину — риторику — с иными, гораздо менее жесткими правилами. Как уже говорилось, во всех этих традициях существовал более или менее строго определенный набор исходных текстов. В Европе аналитический подход позднее распространился на все направления лингвистики до структурализма включительно и господствовал до второй половины XX в.
Особенности индийского подхода видны и в некоторых других принципах. Порождающий характер правил тесно связан с представлением о языке как о закрытой системе, строго исчерпывающейся правилами; если в Европе такое представление возникло не ранее конца XIX в., то у Панини оно было на много веков раньше. У Панини очевидно стремление к закрытым спискам элементов, почти не допускающим указаний типа «и т. д.». Тем самым излишне и обсуждение проблем нормы. Если же исходен набор текстов, то язык естественно воспринимается как открытая система, в которой всегда может найтись что-то неучтенное. Даже если имеется канонический набор текстов (Коран, Библия), не предполагается, что в языке есть только те слова, которые там зафиксированы. Закрытость перечня допускается лишь для элементарных единиц языка: звуков, слогов (не во всех традициях, см. ниже), букв при алфавитном и компонентов иероглифов при иероглифическом письме. Все более протяженные единицы (включая целые иероглифы) приводятся в виде открытых списков. Если Панини стремился перечислить все исходные корни, то ни один европейский, арабский или китайский словарь не претендовал на охват всех слов языка. Также при описании грамматических парадигм речь шла лишь о выделении всех типов склонения или спряжения, но не о перечислении всех слов, принадлежащих к каждому типу (если, конечно, класс достаточно велик).
Открытость описываемой системы и ориентация на анализ ведут к тому, что для описываемых явлений необходимо или, по крайней мере, желательно текстуальное подтверждение, свидетельствующее о соответствии описания норме. Недаром в разных традициях, от европейской до японской, и в грамматиках, и в словарях такое место занимают иллюстративные примеры. В то же время у Панини вовсе нет примеров, что европейским ученым прошлого века казалось недостатком. Однако если тексты — не исходная данность, а итог применения правил, то подтверждающие примеры просто не нужны.
Порождающий характер индийских грамматик вел и к упорядочению правил. У Панини порядок правил был значим: то или иное правило имело смысл лишь на определенном этапе синтеза, до или после тех или иных других правил. При аналитическом подходе такое строгое упорядочение правил обычно не было необходимо. Оно появилось лишь в лингвистике XX в., по-видимому, не без индийского влияния.
Только в индийской традиции наблюдалось стремление к простоте и краткости правил, прямо формулируемое. Это свойство наиболее явно связано с устной формой существования лингвистических текстов: чем правила короче и компактнее, тем легче их выучить наизусть. В современных изданиях грамматика Панини занимает несколько десятков страниц. Если же лингвистический труд пишется, то, наоборот, его большой объем обычно считается достоинством: ср. состоящую из 18 томов грамматику Присциана и столь же пространные труды японских филологов XVIII–XIX вв. Столь же велики и считающиеся лучшими словари. Объем исследований значительно увеличивался, в частности, из-за необходимости приводить большое количество подтверждающих примеров.
Охват системы языкаВ традициях разным может быть как охват письменной и устной форм языка, так и охват разных ярусов языка: фонетики, грамматики, лексики.
Хорошо известно, что у многих народов не различались звуки и буквы. В столь разных и связанных с непохожими друг на друга письменностями традициях, как европейская и китайская, одинаково именовались первичная фонетическая единица и письменный знак. Однако лишь отчасти верно традиционное мнение о том, что в лингвистических традициях звучание рассматривалось сквозь призму написания. Почти во всех традициях, кроме китайской, фонетика была развита сильнее, чем грамматология (раздел лингвистики, изучающий письменные знаки). Какие-то классификации звуков были везде, но классификации букв за редкими исключениями нигде не производились. И это понятно: по-видимому, знаки алфавитного письма функционируют в сознании как единое целое и выделение их компонентов, теоретически возможное, не имеет практического смысла. Иное дело — признаки звуков вроде звонкости-глухости, до какой-то степени имеющие психолингвистическую реальность.
Другая ситуация лишь в китайской традиции, единственной из развитых, которая основана на иероглифике. Вплоть до II–III вв. н. э. китайских ученых интересовали лишь значение и написание иероглифов, но не произношение слов. Разработанный анализ иероглифов у Сю Шэня появился раньше, чем первые описания фонетики. Безусловно, сложность структуры китайских иероглифов требует умения членить их на части и составлять из частей. Соответствующее учение в готовом виде вошло и в японскую традицию.
Рассмотрение устного языка сквозь призму письменного проявляется в ряде традиций (европейская, арабская, японская) на другом уровне: могли фиксироваться чисто орфографические различия, не связанные с произношением, но игнорировались не отраженные на письме произносительные различия. Для многих культур письменный текст казался наиболее важным и значимым.
Во всех традициях существовала фонетика, но уровень ее развития был различным. Наиболее развита она была в Индии и в арабском мире, где она имела наибольшее практическое значение. Там и там надо было сохранять каноническое произношение. Каждой из традиций были присущи свои особенности: у Панини и других индийских авторов классификация звуков отделялась от всего остального, в арабской же традиции (как и в античной) фонетика объединялась с морфологией. В Европе также фонетика вплоть до XIX в. включалась в грамматику, но уровень ее развития был ниже, чем у индийцев и арабов. В Европе приоритетной была задача обучения чтению и письму, а произносительной норме обычно не обучали; если существовали общие для всего мусульманского мира традиции произнесения вслух текста Корана, то общеевропейских традиций канонического произношения для текста Библии никогда не существовало. Поэтому описание фонетики в Европе вплоть до конца XIX в. было не столь детальным, как в арабской и индийской традициях. Недостаточно развитой была фонетика и в дальневосточных традициях, где, видимо, сказывался характер письменности. Фонетические изыскания в этих странах, развивавшиеся в разное время, были направлены на выяснение фонетических сходств и различий, существовавших во время создания престижных памятников. Сами же фонетические свойства, кроме рифм и тонов в Китае, не представляли для китайских и японских ученых особого интереса.
Степень развития грамматики в традициях также неодинакова. Здесь явно прослеживается связь со строем языка. Большинство традиций, кроме китайской, связаны с языками, имеющими богатую морфологию. Сама морфология могла пониматься по-разному, но всегда требовала подробной фиксации. Поэтому центральное место грамматики, прежде всего морфологии, в самых разных традициях закономерно. Именно поэтому в Европе термин «грамматика» поначалу означал изучение языка вообще, а позднее приобрел современное значение. Столь же важна морфология у арабов и индийцев. Японская традиция может рассматриваться как самостоятельная именно потому, что там была разработана собственная морфология.
Принципиально иное положение в Китае. Здесь не было необходимости выделять грамматику в особую дисциплину и создавать особый вид описания. В китайском языке нет словоизменения и грамматической аффиксации, а грамматические исследования помимо синтаксиса сводятся к изучению служебных («пустых») слов. Как уже упоминалось выше, такие элементы изучались в Китае в рамках лексикографии if составлялись их особые словари. Впрочем, включение предлогов, союзов, частиц в словарь вполне традиционно и в Европе; даже в составе грамматик традиционный способ их описания — перечисление списком с толкованием значений, т. е, словарный способ. Только в Китае таким образом описывалась вся грамматика (кроме оставшегося не описанным синтаксиса). Первая написанная в Китае грамматика китайского языка появилась лишь в 1898 г. под европейским влиянием.
Неравноценное место занимают в традициях и исследования лексики. Исключительно велика роль словарей в Китае. Большое число иероглифов, превосходящее возможности человеческой памяти, требовало еще в древности создания иероглифических словарей, а характер письменности требовал толкования иероглифов. Китайские способы описания лексики господствовали и в Японии. Из народов, применявших фонетическое письмо, очень интенсивно изучали лексику арабы. Возможно, это было связано с ролью, которую играло толкование Корана в арабской культуре; все словоупотребления этого памятника были еще в первые века существования традиции полностью каталогизированы. В Индии словарная традиция сложилась позже, чем грамматическая (словарь в отличие от грамматики плохо приспособлен для устной передачи), однако на более поздних этапах развития традиции лексикографическая работа интенсивно развивалась. Наконец, в европейской традиции также грамматики появились раньше, чем словари, а лексикографическая деятельность весьма долго была недостаточно развита. Античные и средневековые филологи составляли глоссы, то есть толкования непонятных слов в памятниках. Идея же словаря как полного описания всей лексики языка появилась в Европе лишь с XVI–XVII вв.
Особое место во всех традициях занимала семантика. Она привлекала к себе внимание прежде всего в двух связанных между собой аспектах. Во-первых, это этимология в указанном выше смысле, т. е. выявление правильного, неиспорченного облика слов и выяснение помогающих найти такой облик связей между словами. Этимологизирование во всех традициях поразительно сходно.
Во-вторых, многие традиции искали причинные связи в процессе именования, пытались выявить природные свойства предмета или явления, которые потребовали его назвать именно таким способом, использовать в слове с соответствующим значением те, а не другие звуки. Как и этимология, такие исследования были тесно связаны с представлением о своем языке как единственном, правильно отражающем природу вещей. Хорошо известен диалог Платона «Кратил», где его участники ведут спор о том, насколько имена людей и предметов отражают их природные свойства. Разные участники диалога высказывают как точку зрения о природной связи между названием и сущностью обозначаемого, так и обратное мнение об отсутствии такой связи. Диалог показывает, как в Древней Греции занимались этимологизированием и семантизированием; он также свидетельствует и о том, что не всех убеждали такие рассуждения. Мнение самого Платона на этот счет остается из диалога неясным, и исследователи спорят в связи с этим. Другой же крупнейший философ Древней Греции Аристотель прямо говорил о произвольности связи между звучанием и значением слова. Тем не менее точка зрения об их «естественной» связи (так называемая платоновская) существовала в Европе очень долго.
Подобные идеи существовали и в других традициях. На них были основаны упомянутые выше «исправления имен» в Китае (например, если правление императора было несчастливым, девиз правления объявлялся «неправильным» и изменялся). Самая изощренная методика выявления таких связей существовала у арабов, особенно у Ибн Джинни. Он исходил из того, что исконную связь с теми или иными понятиями имеют не отдельные звуки, а комбинации из двух или трех согласных независимо от их порядка. В связи с этим он пытался открыть семантические связи между словами, где в разном порядке имеются одни и те же корневые согласные. Японские же этимологи пытались выявить общее значение у каждой моры.
Каждый конкретный подход имел особенности, связанные, в частности, со строем изучаемого языка, однако во всех традициях считали, что имена даны вещам не случайно и что познавая значение слов, можно познать качества того, что ими обозначено. Такие исследования, иногда именуемые «большой семантикой», могли дополняться «малой семантикой»; изучением синонимии, перифразирования, отношений слов в словообразовательном гнезде и т. д.; тот же Ибн Джинни параллельно занимался «большой» и «малой» семантикой. Позднее «малая» семантика вошла в научную лингвистику, а «большая» (исключая отдельные ее компоненты типа анализа звукоподражаний) вместе с традиционной этимологией была отвергнута как ненаучная.
Фонетические исследованияПомимо уровня развития фонетики в разных традициях имелись различия в плане общего подхода к фонетическому исследованию, в частности, выделения главных и второстепенных фонетических единиц. Европейская традиция начиная с глубокой древности исходила из выделения в качестве первичных единиц очень небольшого количества минимальных элементарных звуков (или, по первоначальной терминологии, букв). Эти буквы также издавна делились на согласные и гласные, оба класса понимались как разные по свойствам, но однотипные сущности. Звуки могут объединяться в более протяженные единицы — слоги, причем порядок описания всегда — от звука к слогу, но не наоборот. Понятие слога столь же древнее, как и понятие звука, оба восходят к временам значительно более ранним, чем появление античной традиции. Однако описание слогов не было столь же исчерпывающим, как описание звуков: если все звуки перечисляются списком, то слоги не перечисляются, количество их неизвестно и нет правил, отделяющих слог от не-слога, хотя некоторые свойства слога известны. В связи с целями стихосложения в греческом языке, где были долгие и краткие гласные, также была выделена промежуточная между звуком и слогом единица — мора: слог с долгим гласным состоит из двух мор, слог с кратким гласным — из одной. Понятие моры не стало столь универсальным, как понятия звука и слога, и применяется в основном к древнегреческому и латинскому языкам.
В основном подобный подход сохранился в языкознании до наших дней. Современное понятие фонемы обобщает и уточняет традиционное понятие звука, сохраняя основные его принципиальные свойства. Этот подход показал в лингвистике XX в. свою универсальность, но его становление было тесно связано с типологическими особенностями древнегреческого и латинского языков. Здесь сочетаемость фонем сравнительно свободна, структура слога разнообразна и в связи с этим количество слогов очень велико и не поддается точному подсчету; нет жесткой зависимости между классом фонемы (согласный, гласный) и ее местом в структуре слова. Поэтому здесь использование звуков (фонем) в качестве исходных единиц описания, рассмотрение гласных и согласных на одном уровне исследования и отсутствие попыток пересчитать возможные или реальные слоги было вполне естественным. Сравнительно похожий способ описания существовал и в индийской традиции: все перечисленные выше свойства древнегреческого и латинского языков присущи и санскриту.
Несколько иная трактовка имеет место в арабской традиции, хотя и здесь исходная единица близка к фонеме. В арабском языке существует жесткая связь между классом фонемы и ее местом в структуре слова: корень состоит из согласных, прерываемых гласными, а вставляемые в корень гласные (огласовка) имеют грамматическое значение. Такая разная функциональная роль согласных и гласных, отраженная и в арабской письменности, где корни всегда фиксируются, а огласовка обычно не отражается (ср. греческое и латинское письмо, где в равной степени учитываются гласные и согласные), привела к принципиально разной оценке согласных и гласных (точнее, кратких гласных). В соответствии с арабской традицией элементарные и первичные для анализа единицы — не звуки вообще, а лишь согласные, а также долгие гласные. Краткие же гласные как особые сущности не выделяются. Следующая единица — слог, который образуется из одного, реже двух согласных применением операции введения огласовки, при этом слог и огласовка четко не разграничивались между собой. Как и в европейской традиции, количество слогов в отличие от количества звуков в арабской традиции не фиксировалось.
Еще менее для нас привычный подход принят в традициях Дальнего Востока. Так, в японской традиции также фиксировался набор первичных единиц, но их количество и их протяженность не похожи на принятые у нас. Такая единица (по-японски «он») буквально означает «звук», но эти «звуки» своеобразны. Например, японский лингвист XX в.
С. Хасимото еще в 30-е гг. писал, что любое слово каждый носитель языка легко разделит на «звуки»; например, японское слово мацури «праздник» делится на ма, цу и pu. Такие «звуки» могут быть разделены на еще более мелкие единицы — фонемы (этот термин тогда уже дошел из Европы до Японии), например, ма на м и а, цу — на ц и у; однако такое членение слишком сложно для обычного носителя языка и под силу лишь лингвисту. Очевидно, что речь здесь идет об отличных от наших языковых представлениях носителей японского языка. Из приведенного примера может показаться, что элементарные единицы для японского языка — слоги, но это не всегда так: слоги с долгими гласными типа ко и слоги с дифтонгами типа кай рассматриваются как состоящие из двух «звуков» кто = ко + о, кай = ка + й. Е. Д. Поливанов вполне справедливо указал, что такая единица в европейских терминах соответствует море.
Такие единицы (моры) обозначаются отдельными знаками и в употребляемой наряду с иероглифами японской азбуке — кане (во время формирования каны, в IX–X вв. н. э. существовало взаимно однозначное соответствие между знаками каны и морами, несколько нарушенное в современном языке). Японская традиция до ее европеизации обходилась только морами: понятия, соответствующие фонеме и слогу, сформировались в Японии уже в период европеизации под влиянием извне. Количество мор в японском языке несколько больше, чем количество фонем в языках мира, но все же японских мор столь мало (в современном языке не более двухсот, в древнем еще меньше), что они могут быть заданы списком. Рассмотрение моры в качестве элементарной единицы могло давать самые разнообразные следствия вплоть до попыток выделить общее значение для каждой моры, из которых якобы могут выводиться все остальные, тогда как для европейцев или арабов этимологизировать значение каждого звука было бы затруднительно. Такая особенность японской традиции — привычка идти от моры к звуку, а не наоборот — сохранилась даже в наши дни, несмотря на освоение европейских и американских лингвистических теорий и методов. Она безусловно связана со строем японского языка, где сочетаемость фонем менее свободна, чем в греческом, санскрите и арабском, а структура слога подчинена весьма жестким правилам.
Иной подход обнаруживаем в китайской традиции. В ней имелось единое базовое понятие «цзы», одновременно соответствующее письменному знаку, тонированному слогу и единице лексики (см. ниже). Слоговой характер китайского языка повлиял на всю традицию. В качестве первичной единицы фонетики рассматривался слог в целом, а не звук и не мора. Именно эта единица, очень четко выделимая в любом китайском тексте, имеет для носителей китайского языка психолингвистическую значимость.
Первоначально, пока в основном изучалась иероглифика, «цзы» рассматривалась как неделимая единица. Позднее, когда в Китае стала развиваться фонетика, появились и членения «цзы». Прежде всего был отделен тон как особая характеристика, присущая слогу. То, что оставалось за вычетом тона, делили на две части, которые в отечественной китаистике принято именовать «инициаль» и «финаль». Инициаль — начальнослоговой согласный, финаль — все остальное: простой или сложный гласный плюс конечнослоговые согласные и сонанты, если они есть; финаль составляет рифму. Как уже упоминалось, в китайской традиции с XI в. составлялись фонетические таблицы, где слоги упорядочивались по инициалям и финалям. При составлении таблиц решалась и задача исчисления китайских слогов, которых, конечно, много больше, чем мор в японском языке и тем более звуков (фонем) в греческом, санскрите и арабском, но все же значительно меньше, чем слогов в последних трех языках. Каких-либо других единиц, в том числе соответствующих фонемам, китайская традиция не выделяла вплоть до европеизации. Такой подход также безусловно связан с жесткой структурой китайского слога.
Грамматика в лингвистических традицияхВыше уже говорилось, что грамматика занимала разное место в лингвистических традициях, а в китайской ее не было совсем, если не считать описания «пустых слов». Однако во всех традициях существовало представление о некоторой первичной значимой единице, помещаемой в словари и занимающей центральное место в грамматическом описании. В русском языке соответствующая единица называется словом. Как отмечал П. С. Кузнецов, из всех русских грамматических терминов только термин «слово» исконен, остальные — либо заимствования, либо кальки. Также и у других народов соответствующее слову понятие появляется очень рано, задолго до появления лингвистической традиции.
В античности слово являлось первичной и по сути неопределяемой единицей анализа. Критерии членения текста на слова не были выработаны не только в античной и средневековой европейской традиции, но и в выросшей из нее языковедной науке вплоть до начала XX в. Слово для александрийцев и для их продолжателей было заранее известной данностью, с которой затем проводились те или иные операции. Слова классифицировали по частям речи, изучалось словоизменение, в то же время слова толковали и заносили в словари. Все было основано на слове, при этом вопрос о том, что такое слово, перед наукой о языке не стоял вплоть до самого конца XIX в. и начала XX в., когда его в разных странах поставили сразу несколько языковедов.
В европейской морфологии слово было не только первичной, но и единственной единицей анализа. Никаких корней и аффиксов для античных и средневековых ученых не существовало. Если иногда и предпринимались попытки определить слово, то они скорее похожи на современные определения морфемы: слово считалось мельчайшей значимой единицей. Этим определениям, правда, несколько противоречила трактовка сложных слов: признавалось, что они не элементарны, а состоят из слов же. Что же касается склонения и спряжения, то еще стоиками была разработана модель, нашедшая окончательное завершение у Присциана. В соответствии с ней слово как таковое — лишь исходная словоформа, для имен — это именительный падеж единственного числа (для глагола единой точки зрения не было, чаще такой исходной формой считали форму первого лица единственного числа настоящего времени, но иногда и инфинитив). Остальное — лишь «отклонения», «падежи» исходного слова (именительный падеж при таком подходе падежом не считался). Предполагалось, что «падежи» слов образуются заменой части (обычно конечной) слова на некоторую другую часть, при этом ни одной из частей не приписывалось никакое значение. То есть склонение и спряжение описывались не как присоединение к корню тех или иных окончаний, а как некоторое чередование звуков в нечленимом слове. При этом не нарушается понимание слова как минимальной значимой единицы. От такой традиционной модели, просуществовавшей почти два тысячелетия, сохранились до сих пор привычные термины «падеж», «склонение», «спряжение», «словоизменение» (в русском — это кальки из классических языков), а также встречающиеся в наиболее традиционных грамматиках формулировки о том, что, например, в словоформе столами значение творительного падежа множественного числа заключается не в окончании — ами, а во всем слове (даже в наши дни могут писать о том, что в таком слове лексическое и грамматическое значения «неразрывно связаны», хотя корень и окончание очевидно выделяются). Более привычное для нас выделение корней и аффиксов появилось в европейской науке лишь в XVI–XVII вв., по мнению ряда авторитетных ученых, под прямым влиянием знакомства с еврейским и арабским языкознанием, а обобщающее понятие морфемы лишь в конце XIX в. у И. А. Бодуэна де Куртенэ.
У арабов также понятие слова имело большую значимость, но основных единиц было две: слово и корень. Слово, по своим границам вполне сопоставимое с европейской словоформой, также воспринималось как первичная единица, а границы слов считались заданными. Однако в отличие от античных языковедов арабские не считали слово нечленимой единицей. Слово разлагалось на компоненты как по форме, так и по значению, исключение составляли лишь неизменяемые частицы (в состав которых могли попадать также наречия и др.). В обычном же слове выделялись корень, огласовка и «добавки», то есть окончания. От слова прежде всего отчленялись сегментные «добавки» с грамматическими значениями, а остальное делилось на трехсогласный (изредка двухсогласный) корень и огласовку из гласных внутри корня и перед ним (как уже говорилось, понятия изолированного гласного в арабской традиции не было). Как корень, так и огласовка рассматривались как нечто единое. Корню приписывалось определенное лексическое значение, а огласовка рассматривалась как операция над корнем, модифицирующая это значение. Такие принципы, безусловно, более детально разработанные по сравнению с традиционными европейскими, были хорошо применимы к особенностям структуры арабского и других семитских языков.
Грамматическая структура санскрита достаточна близка к структуре древнегреческого и латинского языков, заметно отличаясь от структуры арабского языка. Тем не менее подход, принятый в индийской традиции, сильно отличается от античного и даже ближе к арабскому, прежде всего в связи с важностью понятия корня (хотя корень, разумеется, не мог в Индии пониматься как последовательность согласных). Первичная грамматическая единица — пада — могла соответствовать как слову в нашем понимании, так и корню или аффиксу. Тем не менее различие между корнем и словом проводилось, что отражалось в противопоставлении правил внутренних и внешних сандхи — правил соединения корней и аффиксов внутри слова и правил соединения слов в высказывании; фонетические изменения на стыках морфем и стыках слов оказывались существенно разными, поэтому правила задавались на разных уровнях. При последовательно синтетическом подходе у Панини исходной единицей оказывался корень, из которого по правилам внутренних сандхи получались изолированные слова, а затем по правилам внешних сандхи — предложения и высказывания. Тем самым как бы слово оказывалось не столь значимой единицей, как в других традициях, а определяющим и достаточно четким критерием для выделения слов — различие внутренних и внешних сандхи, что также не было свойственно другим традициям, где такие критерии вообще не формулировались. Однако такая особенность была прежде всего производной от общего индийского подхода к своему объекту. Последовательная ориентация на синтез требовала движения от низших единиц к высшим, отсюда такой интерес к корням и окончаниям. Такие свойства традиции проявлялись и в лексикографии: индийские словари строились по корневому принципу, что перешло в XIX в. и в европейскую санскритологию, хотя данный принцип не мог бы быть выработан в Европе самостоятельно. В то же время немалое место в индийских грамматиках занимало и изучение слова и его свойств.
Достаточно своеобразен подход к морфологии и в японской традиции, которая в некоторых отношениях (без всякого прямого влияния) оказывалась близкой к европейской, но при этом обладала спецификой в понимании первичной единицы. Такая единица, получившая уже в период европеизации название «го», также выделялась издавна и принималась как данность. При этом общего понятия для нее до конца XIX в. не было, существовало два термина для знаменательных и служебных единиц. Оба класса понимались как минимальные значимые единицы языка; даже в XX в. японские лингвисты определяли простое (не сложное и не производное) «го» именно таким образом. Здесь видна аналогия с античной лингвистикой. Эта аналогия распространялась и дальше. Ср. японские ему «читаю, читаешь…», ёми «читая», ёмэ «читай!». Для японской традиции это были три формы одного «го», в которых части — ми, — му, — мэ могли заменяться друг на друга (напомним, что моры типа ми, му, мэ рассматривались как единое целое), при этом отдельным частям никаких значений не приписывалось. Это очень похоже на описание склонения и спряжения в античной и средневековой Европе (только в Японии такая схема применялась лишь к спряжению).
Однако сами «го» не вполне соответствуют словам в привычном для европейца понимании. Парадигма японского глагольного спряжения не исчерпывается приведенными выше формами, существуют и другие аффиксы, уже состоящие из целой моры или нескольких мор.
Однако такого рода единицы не признаются частью «го», они трактуются как целые служебные «го» наряду с несомненными служебными словами. При этом сложные слова и производные слова со словообразовательными суффиксами считаются целыми «го». Итак, знаменательное «го» более или менее соответствует тому, что принято называть основой слова (иногда с добавлением нескольких самых простых аффиксов, упомянутых в предыдущем абзаце), а служебное «го» — служебным словам и большинству аффиксов словоизменения. Японское «го» в целом длиннее морфемы и короче слова.
Характерно, что уже в период европеизации японской лингвистики, когда формировался синтаксис, помимо «го» была выделена еще одна как бы соответствующая слову единица (бунсэцу), представляющая собой сочетание «го» со всеми примыкающими к нему служебными элементами; предложение членится на «бунсэцу», а не непосредственно на «го». Японское письмо обычно лишено пробелов, но в тех редких случаях, когда пробелы бывают (например, в учебниках для начальной школы), выделяют именно «бунсэцу». Различие же между аффиксами словоизменения и служебными словами в стандартном варианте японской лингвистики даже в наше время не появилось.
Наконец, в Китае единственной единицей грамматики и лексики было все то же «цзы», то есть тонированный слог, имеющий значение (корнеслог). Современная китаистика обычно признает существование в китайском языке как минимум сложных слов, состоящих из нескольких слогов (более спорно наличие в китайском языке аффиксации). Однако китайская традиция никогда не выделяла единицы, промежуточные между корнеслогом и предложением, а существование сложных слов в современном смысле если и замечалось, то лишь на том же уровне, на котором в лингвистике фиксируются устойчивые словосочетания (фразеологизмы).
Итак, каждая традиция выделяла одну первичную единицу, обычно (кроме Индии) с неопределяемыми свойствами, рассматриваемую как заданная заранее. Слова в любой традиции сопоставимы по значимости, но не всегда сопоставимы по своим свойствам: в китайской традиции слово обычно соответствует морфеме, в японской — находится между морфемой и словоформой, в европейской, индийской и арабской соответствует словоформе. Некоторые традиции не выделяли более ничего (Китай, первоначально Япония и Европа), иногда выделялись и другие единицы: более протяженные (бунсэцу в поздней японской традиции) или чаще менее протяженные (корень и окончание в Индии, у арабов и на позднем эткпе в Европе).
Такая центральная роль одной единицы во многих традициях (наименьшая в индийской) вряд ли может быть обоснована чисто лингвистически, что видно уже из лингвистической неэквивалентности «слов» разных традиций. Многократно предпринимавшиеся в лингвистике XX в., особенно его первой половины, попытки определить, что такое слово, наталкивались на серьезные трудности, о которых будет идти речь в ряде глав. Быстро появилось разочарование в возможности выяснить, что такое «слово вообще».
По-видимому, значимость понятия слова в традициях определяется не собственно лингвистическими, а психолингвистическими причинами. Действительно, в процессе говорения человек строит некоторый текст по определенным правилам из каких-то исходных «кирпичей» и «блоков», а в процессе слушания членит воспринимаемый текст на «кирпичи» и «блоки», сопоставляя их с эталонами, хранящимися у него в мозгу. Такие хранимые единицы не могут быть ни слишком краткими (тогда процесс порождения был бы очень сложен), ни слишком длинными (тогда память была бы перегружена), должен достигаться какой-то оптимум. Трудно себе представить в качестве нормы хранение в мозгу фонем или предложений (хотя отдельные предложения вроде пословиц или изречений и даже целые тексты вроде молитв храниться могут). Можно предположить, что норму должны составлять некоторые средние по протяженности единицы, а анализ лингвистических традиций ведет к гипотезе о том, что нормально это слова. При этом нет каких-либо оснований считать, что для носителя любого языка эти единицы должны быть совершенно одинаковы по свойствам; эти свойства могут и варьироваться в зависимости от строя языка, что показывают лингвистические традиции.
Высказанные выше умозрительные предположения подтверждаются данными речевых расстройств — афазий и изучения детской речи. Эти данные свидетельствуют о том, что речевой механизм человека состоит из отдельных блоков; при афазиях, связанных с повреждением тех или иных участков мозга, одни блоки сохраняются, а другие выходят из строя, а при формировании речи у ребенка блоки начинают действовать в разное время. Оказывается, в частности, что одни участки мозга отвечают за хранение готовых единиц, а другие — за построение из них других единиц и за порождение высказываний.
Богатый материал такого рода содержится в книге выдающегося отечественного ученого А. Р. Лурия «Травматическая афазия», основанной на исследованиях раненых в период Великой Отечественной войны. Например, при одной из афазий, получившей название «телеграфный стиль», больной свободно использует любые существительные в форме именительного падежа единственного числа и глаголы в форме инфинитива, но не может ни употреблять те же слова в других формах, ни сочетать их между собой. Бывает и обратный случай, когда сочетаемость слов не нарушена, но словарный запас крайне ограничен. Дети на определенном этапе говорят отдельными словами, обычно лишь в исходных формах, и лишь потом приобретают умение их сочетать. Такие исследования безусловно показывают, что для такого языка, как русский (типологически довольно близкого к древнегреческому или латинскому), его носители безусловно говорят в качестве общей нормы словами, а не какими-то другими единицами, и что античное и средневековое понимание словоизменения наиболее соответствует реальной модели. Для других европейских языков исследования в основном дают сходные результаты. Сложнее говорить о языках, на которых основаны другие лингвистические традиции (тем более что современные языки могут здесь отличаться от древних, ныне уже ни для кого не материнских), но данные о японской детской речи в основном подтверждают, что основной психолингвистической единицей является «го», а психолингвистические эксперименты с китайцами также скорее свидетельствуют о первичности «цзы» для китайского языкового сознания.
Итак, все традиции основывались на неосознанном выделении тех единиц, которые хранились в мозгу носителей описываемых языков. Этим объясняется и отсутствие в большинстве традиций критериев для выделения слов: слова извлекались не из текстов, а из собственной языковой интуиции, то есть из психолингвистического механизма. Что такое слово, было ясно изначально, надо было лишь выявить классы слов и особенности этих классов. Безусловно, психолингвистические основы имело и описанное выше выделение первичных фонетических единиц, см. приведенное высказывание японского лингвиста С. Хасимото, отражающее психолингвистические представления японца, но вряд ли приемлемые для интуиции носителя, скажем, русского языка.
Выделение слов вело к их классификации в большинстве традиций. Если в ряде других отношений европейская традиция была менее разработана по сравнению с индийской и арабской, то классификация частей речи в античной науке оказалась самой детальной. Уже Аристотель выделил имена, глаголы и частицы, стоики сделали классификацию более дробной, а у александрийцев она приняла законченный вид. Некоторые элементы этой классификации дожили до наших дней, но все-таки она отличалась от той, которой сейчас учат в школах. В древнегреческой науке выделяли восемь частей речи: имя, глагол, причастие, наречие, местоимение, предлог, артикль и союз. Римляне, перенимая эту классификацию, столкнулись с тем, что в латинском языке не было артикля. Однако для них было важно, что частей речи должно быть именно восемь, поэтому вместо артикля они включили в систему междометие (хотя такую часть речи можно было бы выделить и в греческом языке).
Главным критерием при выделении античных частей речи был безусловно морфологический. Показательно, в частности, что существительное и прилагательное долго рассматривались как подклассы единой части речи — имени: их морфология, исключая степени сравнения у прилагательных, в древнегреческом или латинском языке очень сходна при явном различии синтаксических и семантических сходств. Встречались попытки последовательно выделять части речи по морфологическим критериям. Нельзя не отметить очень строгую схему, предложенную Варроном: имена — слова, которые изменяются по падежам, но не по временам, глаголы — по временам, но не по падежам, причастия изменяются и по падежам, и по временам, наречия не изменяются ни одним из образов. Однако целая классификация была более эклектичной, что видно хотя бы из того, что не было единого класса неизменяемых слов; наречия, междометия, предлоги, артикли и союзы разграничивались не по морфологическим, а по семантическим и синтаксическим признакам; неоднородные факторы лежали и в основе выделения местоимений.
Традиционная схема частей речи сохранилась до XVI–XVII вв., после чего подверглась некоторым модификациям. Выделению прилагательного в особую часть речи способствовало начало изучения новых европейских языков, где они и морфологически разошлись с существительными; тем не менее старая точка зрения существовала еще долго (см. ниже о противоречивой трактовке прилагательных в «Грамматике Пор-Рояля») и была окончательно оставлена лишь в XVIII в. Достаточно поздно были выделены в качестве частей речи также числительные и частицы, а причастие, наоборот, стало обычно исключаться из числа особых частей речи, хотя в русистике, например, старая точка зрения иногда высказывалась и в XIX, и даже в XX в.
В арабской грамматике в противоположность европейской выделялись лишь три части речи: имя, глагол и частица. Такая точка зрения напоминала классификацию Аристотеля и иногда принималась как заимствованная у него. Однако доказательств этого нет, а такая классификация могла выработаться и на арабской почве. Более бедная классификация арабов была по сравнению с европейской и более последовательно морфологической. Действительно, морфология классического арабского языка позволяет выделить три основных морфологических класса, в том числе «нулевой» класс неизменяемых частиц, во всех других отношениях неоднородный (хотя классам давали и семантические интерпретации).
Несколько похожей на арабскую была и более древняя индийская классификация частей речи, впервые проведенная Яской. Он также разграничивал имя и глагол, противопоставляя эти классы служебным элементам. Однако последние, нечленимые у арабов, разделялись у Яски на две части речи, которые принято переводить терминами «предлог» и «частица»; частицы имели некоторое собственное значение, а предлоги понимались как единицы, лишь определяющие значение имен и глаголов. В целом эта классификация была более семантичной, чем античные и арабская.
В Японии первичным издавна было разграничение знаменательных и служебных «слов», которые до конца XIX в. даже именовались разными терминами. В XVIII в. была построена собственная классификация частей речи, основанная в отношении знаменательных единиц прежде всего на противопоставлении имени и глагола; глагол в свою очередь делился на два класса: собственно глаголы и класс, обычно именуемый в европейской японистике классом «предикативных прилагательных», обладающих особым спряжением и особой семантикой (при тех же, что и глаголы, синтаксических свойствах). Классификация также была менее детальна, чем европейская, и отличалась от нее признаком, который можно назвать многоуровневостью. В Европе все части речи от имени до предлога выделялись как бы одновременно, а в Японии сначала выделялись знаменательные и служебные единицы, затем знаменательные делились на имена и глаголы, затем глаголы — на собственно глаголы и «предикативные прилагательные». После европеизации классификация стала детальнее за счет выделения наречий, местоимений и т. д., но основные ее признаки, включая многоуровневость, сохранились.
Наконец, в Китае, где не сочиняли грамматик, классификаций по частям речи не было, за исключением выделения «полных» и «пустых» слов. Это связано с особенностями строя китайского языка, где нет словоизменения, а синтаксически большинство слов может выступать в самых различных позициях. Вопрос о частях речи представляет огромные трудности и для европейских китаистов, подходящих к этому языку с привычными критериями.
Итак, большинству традиций свойственно было выделять части речи, обращая в той или иной степени внимание на два базовых различия: знаменательных и служебных слов, а среди знаменательных слов — имени и глагола. Выделение же таких сейчас для нас привычных частей речи, как прилагательное, наречие, местоимение, — особенность европейской традиции, в некоторых случаях весьма поздняя.
Наконец, кратко надо сказать о синтаксических исследованиях. Они чаще отсутствовали, как это было в Китае и Японии (синтаксис там сложился уже после европеизации), либо были менее развиты, чем морфологические. В частности, в Европе, хотя еще в античности появилась специальная книга по синтаксису Аполлония Дискола, были разработаны лишь некоторые синтаксические проблемы, прежде всего типов согласования и управления в связи с ошибками в употреблении тех или иных грамматических форм. Члены предложения у Аполлония еще не отграничивались от частей речи. Окончательная разработка традиционных синтаксических категорий и терминов произошла лишь в позднее средневековье. Ее начали модисты, а в основном закончили грамматисты XVI в.
Наиболее развитая синтаксическая концепция существовала в арабской традиции, хотя границы между синтаксисом и морфологией там проводили не совсем так, как это привычно для нас; в частности, к синтаксису относили и изучение окончаний слов (морфология ограничивалась корнем и огласовками). В основном арабский синтаксис изучал употребление в предложении тех или иных грамматических форм, в частности, форм падежей и наклонений. Здесь была выработана достаточно сложная методика.
Заключение к главеГоворя о лингвистических традициях в целом, следует сказать, что в их рамках было очень много сделано для изучения языков, многое из того, что существует в современной науке о языке, прямо восходит к традициям многовековой давности. Прежде всего, конечно, на развитие языкознания влияла европейская традиция, из которой непосредственно выросло научное языкознание. Однако и другие традиции оказали на лингвистику некоторое воздействие, а многое из их арсенала еще может быть использовано лингвистикой в будущем. Кроме того, изучение общего и различного в традициях позволяет более четко разграничить общелингвистические свойства и типологические особенности отдельных, в первую очередь европейских языков. Сложившаяся в Европе лингвистика не всегда разграничивала то и другое, что может приводить к неадекватности в описании языков, далеких по строю от европейских. Такие разграничения, влияющие на развитие лингвистической теории, становятся яснее, если наблюдать за тем, как описывают языки иные традиции.
ЛитератураАнтичные истории языка и стиля. М.—Л., 1936. Раздел «Язык».
История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1986.
История лингвистических учений. Позднее средневековье. Л., 1991.
Алпатов В. М. О сопоставительном изучении лингвистических традиций (к постановке проблемы) // Вопросы языкознания, 1990, № 2.
Европейская лингвистика XVI–XVII вв
Грамматика Пор-РояляПосле Томаса Эрфуртского в течение примерно двух столетий теоретический подход к языку не получил значительного развития. Однако именно в это время шло постепенное становление нового взгляда на языки, который в конечном итоге выделил европейскую лингвистическую традицию из всех остальных. Появилась идея о множественности языков и о возможности их сопоставления.
Разумеется, о том, что языков много, знали всегда, бывали и единичные попытки сопоставления языков. Однако, как выше уже отмечалось, каждая из лингвистических традиций явно или неявно основывалась на наблюдениях над каким-то одним языком, которым всегда был язык соответствующей культурной традиции. Можно было переориентироваться с одного языка на другой, как было в Древнем Риме и в Японии, можно было, особенно на раннем этапе развития традиции, переносить на язык своей культуры категории другого, ранее уже описанного языка, но всегда становление традиции или даже ее варианта сопровождалось замыканием в изучении одного языка. В средневековой Европе греческий и латинский варианты традиции почти не соприкасались друг с другом. В Западной Европе даже в XIII–XIV вв., когда на ряде языков уже существовала развитая письменность, единственным достойным объектом изучения все еще считалась латынь. Отдельные исключения вроде исландских фонетических трактатов были редки.
Положение стало меняться в одних странах с XV в., в других с XVI в. К этому времени в ряде государств завершился период феодальной раздробленности, шло становление централизованных государств. На многих языках активно развивалась письменность, появлялись как деловые, так и художественные тексты, в том числе произведения таких выдающихся авторов, как Данте, Ф. Петрарка, Дж. Чосер. Чем дальше, тем больше распространялись представления о том, что латынь не является единственным языком культуры.
Национальная и языковая ситуация в позднесредневековой Европе имела две особенности, которые повлияли на развитие дальнейших представлений о языке. Во-первых, Западная Европа не составляла единого государства, а представляла собой множество государств, где в большинстве случаев говорили на разных языках. При этом среди этих государств не было ни одного, которое бы могло претендовать на господство (как в прошлом Римская империя и недолго существовавшая империя Карла Великого). Уже поэтому ни один язык не мог восприниматься как столь же универсальный, как латынь. Французский язык для немца или немецкий для француза были иностранными языками, а не языками господствующего государства или более высокой культуры. Даже в Англии, где в XI–XV вв. языком знати был французский, затем все же окончательно победил английский язык, включивший в себя много французских заимствований.
Во-вторых, все основные языки Западной Европы были генетически родственны, принадлежа к двум группам индоевропейской семьи — романской и германской, и типологически достаточно близки, обладая, в частности, сходными системами частей речи и грамматических категорий. Отсюда достаточно естественно возникала мысль о принципиальном сходстве языков, обладающих лишь частными отличиями друг от друга. Вместо идеи о латыни как о единственном языке культуры возникала идея о нескольких примерно равных по значению и похожих друг на друга языках: французском, испанском, итальянском, немецком, английском и др.
Кроме этого главного фактора было еще два дополнительных. Хотя и в средние века понаслышке знали о существовании, помимо латыни, еще двух великих языков: древнегреческого и древнееврейского, но реально владели этими языками очень немногие, а выражаясь по-современному, в базу данных для западноевропейской науки о языке они почти не входили. Теперь же в эпоху гуманизма два этих языка начали активно изучаться, а их особенности — учитываться, причем довольно большие типологические отличия древнееврейского языка от европейских расширяли представления ученых о том, какими бывают языки. Другим фактором были так называемые великие географические открытия и усиление торговых связей со странами Востока. Европейцам пришлось сталкиваться с языками других народов, о существовании которых они не подозревали. Нужно было общаться с носителями этих языков, и встала задача их обращения в христианство. И уже в XVI в. появляются первые миссионерские грамматики «экзотических» языков, в том числе индейских. В то время однако европейская научная мысль еще не была готова к адекватному пониманию особенностей строя таких языков. Миссионерские грамматики и тогда, и позже, вплоть до XX в. описывали эти языки исключительно в европейских категориях, а теоретические грамматики вроде грамматики Пор-Рояля не учитывали или почти не учитывали материал таких языков.
Гораздо большее значение для развития европейской традиции и преобразования ее в науку о языке сыграли первые грамматики новых западных языков. Грамматики испанского и итальянского языков появились с XV в., французского, английского и немецкого — с XVI в. Поначалу некоторые из них писались на латыни, но постепенно в таких грамматиках описываемые языки одновременно становились и языками, на которых они написаны. Эти грамматики имели учебную направленность. Стояла задача формирования и закрепления нормы этих языков, особенно важная после изобретения в XV в. книгопечатания. В грамматиках одновременно формулировались правила языка и содержался учебный материал, позволяющий выучить эти правила. В это же время получила активное развитие лексикография, ранее составлявшая отсталую часть европейской традиции. Если раньше преобладали глоссы, то теперь в связи с задачей создания норм новых языков создаются достаточно полные нормативные словари. В связи с подготовкой такого словаря для французского языка в 1634 г. была создана Французская академия, существующая до настоящего времени; она стала центром нормализации языка в стране.
Ранее единая западноевропейская традиция стала разделяться на национальные ветви. Поначалу, примерно до конца XVII в., исследования языков наиболее активно развивались в романских странах. В XVI в. после некоторого перерыва вновь начинает развиваться теория языка. Выдающийся французский ученый Пьер де л а Раме (Рамус) (1515–1672, убит в Варфоломеевскую ночь) завершил создание понятийного аппарата и терминологии синтаксиса, начатое модистами; именно ему принадлежит дожившая до наших дней система членов предложения. Теоретическую грамматику, написанную еще на латыни, но уже учитывающую материал различных языков, создал Ф. Санчес (Санкциус) (1550–1610) в Испании в конце XVI в. У него уже содержатся многие идеи, потом отразившиеся в грамматике Пор-Рояля.
В XVII в. еще более активно ведутся поиски универсальных свойств языка, тем более что расширение межгосударственных связей и трудности, связанные с процессом перевода, оживляли идеи о создании «всемирного языка», общего для всех, а чтобы создать его, надо было выявить свойства, которыми обладают реальные языки. На развитие универсальных грамматик влиял и интеллектуальный климат эпохи, в частности, популярность рационалистической философии Рене Декарта (Картезия) (1596–1650), хотя известное благодаря Н. Хомскому наименование «картезианские грамматики» в отношении грамматики Пор-Рояля и подобных ей не вполне точно, поскольку многие «картезианские» идеи присутствовали у Ф. Санчеса и др. еще до Р. Декарта.
Языкознание XVII в. в основном шло в области теории двумя путями: дедуктивным (построение искусственных языков, о котором речь будет идти ниже) и индуктивным, связанным с попыткой выявить общие свойства реально существующих языков. Не первым, но самым известным и популярным образцом индуктивного подхода стала так называемая грамматика Пор-Рояля, впервые изданная в 1660 г. без указания имен ее авторов Антуана Арно (1612–1694) и Клода Лансло (1615–1695). Эта грамматика неоднократно переиздавалась и переводилась на разные языки. В нашей стране несколько дет назад почти одновременно вышли два ее издания: Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М., 1990; Грамматика Пор-Рояля. Л., 1991 (ниже цитаты приводятся по московскому изданию).
Грамматика вошла в историю науки под не принадлежащим ее авторам названием («Грамматика общая и рациональная» — начало ее очень длинного подлинного названия). Женский монастырь Пор-Рояль в те годы был центром передовой мысли, с ним был связан кружок ученых, в который входили и авторы грамматики. Книга была результатом содружества двух специалистов разных профессий. А. Арно был логиком и философом, соавтором известной книги по логике, а К. Лансло — одним из первых во Франции профессиональных лингвистов, преподавателем языков и автором грамматик; в частности, он первым во Франции преподавал латинский язык как иностранный, с объяснениями на французском языке. Такое сочетание дало возможность объединить высокую для того времени теоретичность с достаточно хорошим знанием материала нескольких языков.
Авторы грамматики считали недостаточным чисто описательный подход к языку и стремились создать объяснительную грамматику. В ней говорится, что стимулом к ее написанию послужил «путь поиска разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них». В целом в книге объяснительный подход преобладает и над описательным, и над нормативным. Однако ряд разделов, посвященных французскому языку, содержит и нормативные правила. К 1660 г. нормы французского языка были в общих чертах сформированы, но многие детали еще оставались неотшлифованными. Поэтому в грамматике не раз говорится о том, какие обороты надо «рекомендовать к употреблению». Однако значение «Грамматики Пор-Рояля» прежде всего не в предписаниях, а в объяснениях ранее уже описанных явлений языка.
Авторы грамматики исходили из существования общей логической основы языков, от которой конкретные языки отклоняются в той или иной степени. Сама по себе такая идея была в XVII в. не новой и восходила к модистам. Эта идея для А. Арно и К. Лансло была столь обычной, что не требовала особых доказательств. Например, в грамматике говорится о «естественном порядке слов» без доказательств существования такого порядка и даже без его описания (хотя достаточно ясно, что «естественным» для них, как и для модистов, был порядок «подлежащее — сказуемое — дополнение»).
От модистов авторы «Грамматики Пор-Рояля» отличались не столько самой идеей основы языков, сколько пониманием того, что собой эта основа представляет. У модистов, выражаясь современным языком, соответствие между поверхностными и глубинными структурами оказывалось взаимно однозначным или по крайней мере очень близким к нему. Они старались каждому явлению, зафиксированному в грамматике Присциана, приписать философский смысл. В данной грамматике этого уже нет прежде всего из-за расширения эмпирической базы. Если модисты исходили из одной латыни, то здесь почти в каждой главе рассматриваются два языка: латынь и французский, достаточно часто упоминаются также испанский, итальянский, древнегреческий и древнееврейский, а изредка речь идет и о «северных», то есть германских, и о «восточных» языках; что имеется в виду в последнем случае, не вполне ясно. С современной точки зрения количество языков невелико, но по сравнению с предшествующим временем это был крупный шаг вперед.
Ориентация на латинский эталон была еще не вполне преодолена в грамматике, что особенно заметно в разделе о падежах и предлогах. Хотя и сказано, что «из всех языков только греческий и латынь имеют падежи имен в полном смысле этого слова», но за эталон принимается латинская падежная система, именно она признается «логической». В древнегреческом языке, где по сравнению с латынью на один падеж меньше, предлагается считать, что отсутствующий аблатив «есть и у греческих имен, хотя он всегда совпадает с дативом». Для французского же языка выражение тех или иных «глубинных» падежей видится в употреблении предлогов или опущении артикля. Более сложный случай составляют для А. Арно и К. Лансло прилагательные. В латинских грамматиках было принято считать существительные и прилагательные одной частью речи — именем, но для французского и других новых языков Европы данные два класса необходимо было различать. В грамматике принят компромиссный подход: выделяется одна часть речи — имя — с двумя подклассами. Такая трактовка проецируется и на семантику: у слов выделяются «ясные» значения, разъединяющие существительные и прилагательные, и «смутные» значения, общие для них: слова красный и краснота имеют общее «смутное» значение и разные «ясные». Введение «ясных» значений указывает на отход от латинского эталона, введение «смутных» — на частичное его сохранение (впрочем, есть и другая трактовка, согласно которой выделение двух видов значений имеет глубокий философский смысл).
Однако в ряде других пунктов авторы грамматики решительно отходят от латинского эталона в пользу французского. Особенно это видно в связи с артиклем: «В латыни совсем не было артиклей. Именно отсутствие артикля и заставило утверждать… что эта частица была бесполезной, хотя, думается, она была бы весьма полезной для того, чтобы сделать речь более ясной и избежать многочисленных двусмысленностей». И далее: «Обиход не всегда согласуется с разумом. Поэтому в греческом языке артикль часто употребляется с именами собственными, даже с именами людей… У итальянцев же такое употребление стало обычным… Мы не ставим никогда артикля перед именами собственными, обозначающими дюдей». Итак, оказывается, что у «нас», французов, в данном случае «обиход согласуется с разумом», а у других народов нет. Из французского языка исходят авторы и говоря о именах с предлогом, соответствующих «необязательным» наречиям в латыни, и в некоторых других случаях.
Эталонные, соответствующие «разуму» структуры в большинстве случаев конструируются на основе либо латыни, либо французского языка. Но в принципе в этой роли могут выступать любые языки вплоть до «восточных», как это говорится там, где признается рациональность совпадения формы третьего лица с основой глагола. Авторы, по-видимому, исходят из некоторых априорных и прямо не формулируемых представлениях о «логичности» и «рациональности», но берут в каждом случае некоторые реальные структуры одного из известных им языков (иногда, как с прилагательными, из контаминации структур двух языков).
Однако есть случаи, когда А. Арно и К. Лансло отвлекаются от особенностей конкретных языков и подходят к семантическому анализу. Здесь наиболее важными оказываются разделы, посвященные сравнительно периферийным вопросам: относительным местоимениям, наречиям, эллипсису и т. д. Одно из самых известных мест книги — тот фрагмент раздела об относительных местоимениях, где анализируется фраза Dieu invisible a cr?? le monde visible «Невидимый бог создал видимый мир».
По его поводу А. Арно и К. Лансло пишут: «В моем сознании проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) что Бог невидим; 2) что он создал мир, 3) что мир видим. Из этих трех предложений второе является основным и главным, в то время как первое и третье являются придаточными… входящими в главное как его составные части; при этом первое предложение составляет часть субъекта, а последнее — часть атрибута этого предложения. Итак, подобные придаточные предложения присутствуют лишь в нашем сознании, но не выражены словами, как в предложенном примере. Но часто мы выражаем эти предложения в речи. Для этого и используется относительное местоимение».
Если отвлечься от архаичных для нашей эпохи терминов вроде «суждение», такое высказывание кажется очень современным. Авторы «Грамматики Пор-Рояля» здесь четко различают формальную и семантическую структуру, которые фактически не различали модисты, но не всегда четко разграничивали и многие лингвисты XIX и XX вв. Отталкиваясь от объяснения поверхностных явлений французского языка (в данном разделе грамматики речь идет только об одном языке), они переходят к описанию их семантики, не имеющей прямых формальных соответствий. Еще в XVII в. они пришли к тем же выводам, что многие современные лингвисты. Однако, как уже говорилось, чаще в грамматике «логическая», а фактически семантическая структура соответствует некоторой поверхностной структуре того или иного языка.
В некоторых других местах книги говорится о синонимии языковых выражений, из которых одно признается более соответствующим логике (хотя не всегда ясно, идет ли речь о полном соответствии), а другое может употребляться вместо него ради «желания людей сократить речь» или «для изящества речи». Чаще в этих случаях за эталон принимаются явления французского языка. В подобных случаях Н. Хомский находил аналог трансформационных правил, что явная модернизация, но некоторое сходство здесь бесспорно есть. Впрочем, о синонимии некоторых исходных и неисходных выражений говорилось задолго до XVII в.: можно указать на явление эллипсиса, рассматривавшееся так еще с античности.
Безусловно, у А. Арно и К. Лансло не было четкого представления о том, откуда берется их «рациональная основа грамматики» всех языков. Но нельзя к авторам XVII в. предъявлять те же требования, что к лингвистам XX в. Сама идея установления общих свойств человеческих языков, основанная на принципиальном их равноправии (пусть реально такие свойства оказываются сильно романизированными), представляла собой важную веху в развитии лингвистических идей.
Судьба «Грамматики Пор-Рояля» была весьма сложной. Поначалу она стала очень популярной и во Франции считалась образцовой до конца XVIII — начала XIX в., известна она была и за пределами Франции. Авторы последующих «логических» и «рациональных» грамматик ей подражали. Однако после становления новой, сравнительно-исторической научной парадигмы именно из-за своей известности она стала восприниматься как образец «умствующего, априористического, ребяческого», по выражению И. А. Бодуэна де Куртенэ, направления в языкознании, втискивающего язык в логические схемы; часто ей приписывали и то, против чего она была направлена: жесткое следование латинскому эталону. Положение не изменилось и в первой половине XX в. Среди ее критиков были многие крупные ученые: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. Блумфилд, Ч. Хоккетт и др., часто судившие о ней из вторых рук. К этому времени эмпирическая база общего языкознания сильно расширилась, и «Грамматика Пор-Рояля» стала восприниматься как слишком явно смешивающая универсальные свойства языка с особенностями романских языков.
Новый интерес к книге возник в 60-е гг. XX в. Во многом здесь сыграл роль Н. Хомский, объявивший ее авторов своими предшественниками. Его оппоненты справедливо указывают на то, что он сильно модернизировал идеи грамматики и рассматривал ее вне исторического контекста, однако действительно многое в книге, прежде всего идея об общих для всех языков «структурах мысли», оказалось созвучным хомскианской лингвистике (см. соответствующую главу). Однако возрождение интереса к «Грамматике Пор-Рояля» нельзя сводить только к авторитетету Н. Хомского. В середине 60-х гг. ее анализом и комментированием независимо друг от друга занялись сразу несколько специалистов, и Н. Хомский оказался лишь одним из них. «Реабилитация» книги была связана с общими тенденциями мирового развития лингвистики. Один из комментаторов ее, Р. Лакофф, справедливо называет «Грамматику Пор-Рояля» «старой грамматикой, долго имевшей плохую репутацию среди лингвистов, но недавно восстановившей престиж, который она имела в свое время».
Отметим еще одну черту «Грамматики Пор-Рояля», также повлиявшую на ее дальнейшую репутацию. Как и лингвистические сочинения предшествующего времени, она была чисто синхронной. «Рациональная основа» всех языков рассматривается как нечто неизменное, а фактор исторического развития просто не включен в концепцию. Латинский и французский языки рассматриваются в книге как два разных языка, а не как язык-предок и язык-потомок (впрочем, происхождение французского языка от латинского тогда не было столь очевидно, как сейчас).
Другой, дедуктивный подход к языку нашел в XVII в. отражение в попытках конструирования искусственного «идеального» языка, долгое время популярных. Интерес к этим вопросам проявляли многие крупнейшие мыслители этого века: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Я. А. Коменский, позже Г. В. Лейбниц. Особенно активно этим занимались в Англии. Много работал в этой области первый председатель Лондонского Королевского общества Дж. Уилкинс (Вилкинс) (1614–1672), а одно из сочинений такого рода принадлежит Исааку Ньютону, который написал его в 1661 г. в возрасте 18 лет; труд И. Ньютона имеется в русском переводе: Семиотика и информатика, вып. 28. М., 1986.
Авторы подобных проектов исходили из двух постулатов. Во-первых, существование множества языков — большое неудобство, которое необходимо преодолеть. Во-вторых, каждой вещи от природы соответствует правильное имя, отражающее ее сущность. Второй постулат, как уже отмечалось, свойствен разным лингвистическим традициям на их ранних этапах. Однако такой подход, отраженный в ранних этимологиях, основывался на принадлежности «правильных имен» некоторому реальному языку: древнегреческому, санскриту и т. д. Так считать во времена И. Ньютона уже было невозможно, хотя у авторов искусственных языков иногда встречается представление о древнееврейском языке как первичном. В XVII в. все еще господствовало представление о том, что библейская легенда о вавилонском смешении языков отражала реальность. Поэтому открыто ставилась задача «девавилонизации» языка. Поиски всемирного языка тесно были связаны с поисками единой связующей мировой гармонии, часто принимавшими, в том числе и у И. Ньютона, мистический характер. Бурные успехи естественных наук рассматривались как средство для достижения весьма архаических целей.
Это происходило и в подходе к языку. Для создания «идеального языка», понимаемого прежде всего как «язык смыслов», необходимо было описать эти смыслы. Интерес к описанию семантики имеется и в «Грамматике Пор-Рояля», но там многое затемнялось конкретными формами известных ее авторам языков. Здесь же в силу самой общей задачи требовалось отвлечься от структурных особенностей реальных языков и достичь глубинного уровня.
И. Ньютон писал: «Диалекты отдельных языков так сильно различаются, что всеобщий Язык не может быть выведен из них столь верно, как из природы самих вещей, которая едина для всех народов и на основе которой весь Язык был создан вначале». В его проекте речь шла о составлении на каждом языке алфавитного списка всех «субстанций», затем каждому элементу списка должен быть поставлен в соответствие элемент универсального языка. Тем самым универсальный язык просто отражал лексическую структуру исходного естественного языка (у И. Ньютона реально говорится об английском языке) с одной лишь разницей: по-английски «субстанции» могут быть выражены и словосочетаниями, в «идеальном языке» — обязательно словами. Однако описываемый языком мир не ограничивается «субстанциями». Помимо простых понятий бывают сложные. В естественных языках производные понятия часто обозначаются с помощью тех или иных словообразовательных моделей. Это было учтено создателями искусственных языков, которые однако старались здесь отвлечься от свойственной естественным языкам нерегулярности. Выделялись те или иные типичные семантические отношения: деятель, местонахождение, отрицание, уменьшительность и т. д., которые в универсальном языке должны были получать универсальное выражение. При этом устанавливались семантические отношения между словами, в том числе и формально непроизводными; выделялись компоненты значения тех или иных слов, которые в «идеальном языке» в целях регулярности должны были обозначаться раздельно. Тем самым уже в XVII в. в той или иной степени занимались тем, что в современной лингвистике получило название компонентного анализа и изучения лексических функций.
В искусственных языках должна была существовать и грамматика, в частности, определенный набор грамматических категорий. При этом за основу, естественно, брали набор категорий известных европейских языков, чаще всего латинского, но с определенными коррективами: исключалась категория рода как нелогичная. Противопоставление же частей речи в ряде проектов, в том числе у И. Ньютона и Дж. Уилкинса, не считалось необходимым: слова у них выступали как имена, а обозначения действий или состояний производились через присоединение регулярных словообразовательных элементов. Тем не менее такие имена могли иметь в случае необходимости показатели времени или наклонения.
В плане выражения конструкторы языков ориентировались скорее на структуру древнееврейского языка с трехбуквенностью корня и «служебными буквами». Сама же система «первоэлементов» (скорее букв, чем звуков) строилась на основе латинского алфавита.
Пытаясь отвлечься от особенностей конкретных языков и ни в коем случае не допуская каких-либо непосредственных заимствований из них в свои языки, конструкторы универсальных языков не могли отвлечься от ограниченного круга известных им языковых систем. Первичные «субстанции» выделялись на основе слов и словосочетаний европейских языков. Основу словообразования составляли реально существующие в этих языках модели. Грамматические категории также взяты из этих языков, но в несколько редуцированном виде.
В то же время создатели универсальных языков на основе анализа явлений опять же романских и германских языков с добавлением древнееврейского подошли к ряду вопросов глубже, чем авторы «Грамматики Пор-Рояля». Прежде всего это относится к семантическому анализу. Современная исследовательница лингвоконструирования XVII в. Л. В. Кнорина справедливо писала: «Искусственные языки — это описания глубинной семантики естественного языка, выполненные на выдающемся уровне».
Однако эта сторона деятельности данной группы ученых не была замечена современниками. Во всех исследованиях подобного рода видели лишь создание «идеальных языков» как таковых. А задача «девавилонизации» языкового мира была слишком явно утопической. Сами проекты «идеальных языков» часто были связаны либо с мистическими поисками мировой гармонии, либо с попытками переустройства общества на утопических основах; недаром одним из создателей универсального языка был знаменитый утопист Томмазо Кампанелла, автор «Города солнца». Когда идея создания мирового языка отошла на второй план (что произошло уже с начала XVIII в.), все упомянутые проекты забыли. В частности, проект И. Ньютона, оставшийся в рукописи, был впервые издан в оригинале лишь в 1957 г. Судьба всех подобного рода исследований оказалась много хуже, чем судьба никогда совсем не исчезавшей из лингвистического обихода «Грамматики Пор-Рояля». Они не оказали влияния на лингвистику XVIII, XIX и первой половины XX в., и лишь в последние десятилетия труды Дж. Уилкинса, И. Ньютона и др. начали привлекать внимание и оказалось, что многое в них актуально.
Сама же идея создания всемирного языка, уйдя на периферию науки о языке, продолжала развиваться и позже. Ей увлекались некоторые языковеды, самым знаменитым из которых был Н. Я. Марр, а со второй половины XIX в. она нашла отражение в создании эсперанто и других вспомогательных языков. Однако их создатели уже не стремились отражать в структурах слов структуры вещей и использовали, хоть и в видоизмененном виде, реальные корни и слова реальных языков.
Литература
Алпатов В. М. «Грамматика Пор-Рояля» и современная лингвистика (К выходу в свет русских изданий) // Вопросы языкознания, 1992, № 2, с. 57–68.
Кнорина Л. В. Природа языка в лингвоконструировании XVII века // Вопросы языкознания, 1995, № 2, с. 110–120.
Лингвистика XVIII века и первой половины XIX века
Становление сравнительно-исторического методаXVIII век в отличие от предыдущего и последующего веков не дал каких-либо новых развернутых лингвистических теорий. В основном шло накопление фактов и рабочих приемов описания в рамках старых идей, а некоторые ученые (больше философы, чем собственно лингвисты) высказывали принципиально новые теоретические положения, постепенно менявшие общие представления о языке.
В течение века увеличилось количество известных в Европе языков, составлялись грамматики миссионерского типа. К концу века и в самом начале XIX в. начали появляться многоязычные словари и компендиумы, куда старались включить информацию о как можно большем числе языков. В 1786–1791 гг. в Петербурге вышел четырехтомный словарь русско-немецкого путешественника и естествоиспытателя П. С. Палласа, включавший материал 276 языков. Уже в начале XIX в. был составлен наиболее известный словарь этого типа, «Митридат» И. X. Аделунга — И. С. Фатера, куда вошел перевод молитвы «Отче наш» почти на 500 языков.
В это же время продолжает развиваться нормативное изучение языков Европы. Для большинства из них к концу XVIII в. сформировалась разработанная литературная норма. При этом сами языки описывались более строго и последовательно. Например, в «Грамматике Пор-Рояля» французская фонетика еще трактовалась под сильным влиянием латинского алфавита, например, не замечалось существование носовых гласных. В XVIII в. такого рода описания выделяли систему звуков, мало отличающуюся от того, что сейчас называют системой фонем французского языка. Активно велась словарная работа. Огромное значение для окончательного установления норм английского языка имела деятельность выдающегося лексикографа Сэмюэля Джонсона (1709–1784).
Среди стран, где в XVIII в. активно велась деятельность по нормализации языка, следует назвать и Россию. Если до того в Восточной Европе объектом изучения служил лишь церковнославянский язык, то начиная с петровского времени стал, поначалу стихийно, а затем все более осознанно, развиваться процесс формирования норм русского литературного языка, что требовало и его описания. В 30-е гг. XVIII в.
В. Г. Адодуров (1709–1780) пишет первую в России грамматику русского языка. Затем появляется «Российская грамматика» великого русского ученого М. В. Ломоносова (1711–1765). В этой грамматике, еще не вполне свободной от латинского эталона, дается подробное и точное для своего времени описание строя русского языка. В XVIII в. складывается и русская лексикография. В течение века благодаря активной теоретической и практической деятельности В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, а позже H. М. Карамзина и его школы складываются нормы русского языка.
В течение XVIII в. продолжали составляться и общие рациональные грамматики в духе «Грамматики Пор-Рояля», из Франции традиция их написания распространяется в Германию. Однако такие грамматики не содержали особо новых идей. Идея конструирования «идеальных» языков с начала XVIII в. перестает быть популярной.
Однако с конца XVn в. по конец XVIII в. к теоретическим проблемам языка обращались ученые, не создавшие каких-либо строгих методов языкового описания и обычно не бывшие профессиональными лингвистами. К их числу принадлежали в Германии Георг Вильгельм Лейбниц (1646–1716) и позже Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), в Италии Джанбатиста Вико (1668–1744), во Франции Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) и Жан-Жак Руссо (1712–1778). В их сочинениях появляется ряд новых идей, главной из которых стала идея исторического развития языка.
Именно в XVIII в. в центр обсуждений встала проблема происхождения языка, ни до того, ни после того она не обсуждалась столь активно. Раньше безоговорочно господствовали библейские представления об Адаме и вавилонской башне. Теперь им на смену пришли попытки рационалистических объяснений того, каким образом люди начали говорить. Почти все известные до наших дней концепции происхождения языка появились в XVIII в., хотя довольно сходные с ними взгляды высказывались еще в античности. Была выдвинута идея о появлении языка на основе звукоподражаний, развитии языка из непроизвольных выкриков человека, а также развивавшаяся Ж.-Ж. Руссо идея о «коллективном договоре», в соответствии с которой люди договорились между собой о том, что как называть. Наиболее разработанную теорию происхождения и развития языка для тех лет предложил Э. Кондильяк. Он считал, что язык на ранних этапах развивался от бессознательных криков к сознательному их использованию, а получив контроль над звуками, человек смог контролировать свои умственные операции. От Э. Кондильяка произошла и идея о первичности языка жестов, который поначалу лишь дополнялся звуковым, а звуковые знаки возникали по аналогии с жестами. Французский философ развил и концепцию о едином пути развития языков, который однако языки проходят с разной скоростью и потому одни языки совершеннее других. Здесь мы уже видим первый вариант концепции стадий, позднее развитой братьями Шлегелями и В. фон Гумбольдтом.
Еще до Э. Кондильяка идеи историзма развивал Дж. Вико, выдвинувший развернутую концепцию исторического развития человечества, в которой важное место отводилось развитию языка. По мнению К. Маркса, у Дж. Вико в зародыше уже содержались основы сравнительно-исторического метода. И. Г. Гер дер выдвинул положения о «духе народа», повлиявшие на В. фон Гумбольдта.
Все эти идеи были достаточно интересными, но содержали один неустранимый недостаток: они были основаны не на анализе языкового материала, а на произвольных, хотя иногда и остроумных догадках. Что же касается вопроса о происхождении языка, то никакими конкретными данными об этом процессе наука не располагала тогда и не располагает сейчас.
Общее распространение идей историзма сказывалось и на общем интересе к выяснению родственных связей языков. Уже тогда не сомневались в том, что сходство между собой германских или славянских языков объясняется общностью происхождения. Появляется идея о языковых семьях. Пережившие много веков представления о древнееврейском языке как «корне» всех языков мира, на котором говорили до вавилонского смешения языков, уступает окончательно место идеям о множественности языковых семей. Однако надежного научного метода наука XVIII в. еще не имела, а представления об истории языков часто бывали фантастическими. Например, французский язык тогда чаще всего не считали потомком латыни по двум причинам: во-первых, предки французов — не римляне, а галлы; во-вторых, в Латыни сложное склонение и спряжение, а во французском языке склонения почти нет, а спряжение много беднее, чем в латыни; отсюда вывод: французский язык — потомок кельтского (галльского), лишь испытавший латинское влияние.
По выражению В. Томсена, весь XVIII в. сравнительно-исторический метод «витал в воздухе». Но нужен был некоторый толчок, который стал бы отправной точкой для кристаллизации метода. Таким толчком стало в конце века открытие санскрита, ранее совсем не известного в Европе.
В 1786 г. на заседании Королевского общества в Калькутте выступил английский востоковед Уильям Джонс (1746–1794). Он много лет прожил в Индии, тогда бывшей английской колонией, и занимался изучением индийской культуры под руководством местных учителей, сохранявших знание национальной лингвистической традиции. Эта традиция к тому времени уже перестала развиваться, но знание трудов Панини и других классиков продолжало передаваться из поколения в поколение. У. Джонс одним из первых среди европейцев узнал санскрит и первым начал его сопоставлять с греческим, латинским и другими языками Европы. Сходство санскрита с этими языками было очевидным, а поскольку санскрит был древнее любого до того известного индоевропейского языка, то У. Джонс выдвинул идею о санскрите как праязыке. Такая точка зрения держалась очень долго, окончательно опроверг ее лишь А. Шлейхер в начале второй половины XIX в. Одновременно английский ученый положил начало знакомству европейского языкознания с индийской традицией, оказавшей некоторое влияние на ее развитие, особенно в самой санскритологии.
Открытие санскрита стало тем недостающим звеном, после появления которого началось бурное развитие исследований в области сопоставления европейских языков с санскритом и между собой. Хотя открыли санскрит англичане, но очень скоро центр данных исследований переместился в Германию, в то время страну с наиболее сильными научными центрами и школами. В течение всего XIX в. там находился центр мировой науки о языке, прежде всего сравнительно-исторического языкознания, или компаративистики. Помимо Германии ряд крупных ученых дала близкая к ней по научным традициям Дания, а в ряде других стран основателями компаративистики стали ученые, происходившие из Германии. Так было в России, где такую роль сыграл Александр Христофорович Востоков (Остенек) (1781–1864), соединивший немецкую ученость с большой любовью к культуре славянских народов.
Поначалу сопоставления языков еще были очень несовершенными. Но всего через три десятилетия после открытия санскрита, в 1816 г., появляется первая вполне научная работа, заложившая основы сравнительно-исторического метода. Это была книга Франца Боппа (1791–1867) «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков». В 1818 г. была издана книга другого крупного ученого, датчанина Расмуса Раска (1787–1832) «Исследование в области древнесеверного языка, или происхождение исландского языка». В 1819 г. вышел первый том «Немецкой грамматики» Якоба Гримма (1785–1863), в 1820 г. — «Рассуждение о славянском языке» A. X. Востокова. За исключением рано умершего Р. Раска эти ученые продолжали активно работать примерно до 50-х гг. XIX в., опубликовав немало сочинений. В этих сочинениях впервые формировался сравнительно-исторический метод.
Никто из перечисленных ученых не стремился к общетеоретическим и тем более философским рассуждениям, которыми так были богаты XVII и XVIII вв. У них редко можно найти какие-либо высказывания о природе и сущности языка. Они впервые в мировой науке, работая с конкретным материалом, старались выработать действительно научный метод его исследования.
Из указанных ученых наиболее широким по своему подходу был Ф. Бопп, старавшийся охватить все известные к тому времени индоевропейские языки. Другие компаративисты были уже по проблематике: Р. Раск и Я. Гримм занимались германскими языками, A. X. Востоков — славянскими. Однако подход у них имел общие черты.
Значительное количество сходных по звучанию и значению слов разных языков было известно и до основателей компаративистики. Однако надо было разобраться во всем этом богатстве, отличая истинное родство от заимствований и случайных совпадений. Данные ученые выдвинули ряд методических принципов, которые, будучи развиты компаративистами последующих поколений, сохраняются в компаративистике и по сей день.
Одним из них было понимание того, что сравнивать следует не целые слова известных языков, которые могут состоять из компонентов разного происхождения, а их составные части: корни, окончания. Понятие корня было сформулировано Ф. Боппом уже в первой его работе 1816 г. При этом корень понимался не в привычном для нас смысле, а как древний комплекс, которому в более поздних языках могут соответствовать и аффиксы, и не имеющие значения элементы. В частности, Ф. Бопп стремился возвести аффиксы современных и древних языков Европы к первичным, древнейшим корням. И Ф. Бопп, и Р. Раск считали лексические параллели менее надежными, чем грамматические, поэтому на первых порах, что особенно последовательно проводилось у Ф. Боппа, сравнительно-историческое исследование строилось как сравнительная грамматика родственных языков, выявлялось происхождение тех или иных морфологических показателей. Идея об особом значении сопоставления морфологических показателей, по сравнению с лексическими элементами более устойчивых в языке, сохраняется и в современной науке (другой вопрос, что для ряда языков, прежде всего изолирующих, такие сопоставления вообще невозможны и родство может устанавливаться лишь через анализ лексики).
Другой принцип — регулярности соответствий — впервые наиболее четко сформулировал Р. Раск. Он первым разграничил имеющие разную значимость для компаративистики классы лексики. Слова, связанные с торговлей, образованием, наукой и т. д., слишком часто «возникают не естественным путем», то есть заимствуются. В то же время имеются слова, наиболее показательные для установления родства, поскольку они очень устойчивы и не склонны к заимствованию: это местоимения, числительные, имена родства и др. Данное разграничение проводится сравнительно-историческим языкознанием и сейчас.
После выявления таких показательных слов, согласно Р. Раску, можно ставить вопрос об установлении родства: «Когда в двух языках имеются соответствия именно в словах такого рода и в таком количестве, что, могут быть выведены правила относительно буквенных переходов из одного языка в другой, тогда между этими языками имеются тесные родственные связи». Далее Р. Раск приводит таблицу соответствий греческих и латинских слов и заключает: «Известно, что, сравнивая множество слов, можно вывести большое число правил перехода, а так как в данном случае имеются большие соответствия также в грамматике обоих языков, то мы можем с большим правом заключить, что между латинским и греческим языками имеют место тесные родственные связи». Если отвлечься от явно устаревшего представления о звуковых переходах как о «буквенных», то данный принцип используется в компаративистике нашего времени тоже.
Не надо однако думать, что все построения основателей компаративистики выглядят столь же современно. Они владели материалом лишь ограниченного числа индоевропейских языков, главным образом старописьменных, ввиду чего их сопоставления быстро устарели. Они лишь сопоставляли родственные языки, но еще не занимались систематической реконструкцией праязыка, в лучшем случае реконструируя отдельные элементы вроде глагольных флексий у Ф. Боппа. У них еще не было разработанной методики по разграничению исконных соответствий и пусть достаточно многочисленных, но имеющих иное происхождение параллелей (за исключением правильного, но слишком еще общего разграничения базовой и небазовой лексики). Нередко они исходили из впоследствии отброшенных построений, вроде упомянутого представления о санскрите как праязыке или тезиса Р. Раска о выведении греческого, латинского и германских языков из фракийского. Однако для своего времени труды первых компаративистов были большим шагом вперед. Впервые наука о языке могла развиваться на основе достаточно строгого метода.
Основатели компаративистики не ограничивались сопоставлением языков. В ряде их работ, прежде всего в «Немецкой грамматике» Я. Гримма, исследовалось историческое развитие отдельных языков и языковых групп. В частности, в книге Я. Гримма описывалась история германских языков и диалектов начиная с самых древних засвидетельствованных форм. По сравнению с другими учеными данного направления Я. Гримм находился под значительным влиянием романтических идей о «духе народа» и его отражении в языке, особо подчеркивая роль данных о народных диалектах (Я. Гримм вместе с братом Вильгельмом также известны как выдающиеся собиратели немецкого фольклора). Изучение исторического развития германских языков дало возможность Я. Гримму выявить закономерности их фонетического развития. Ему и некоторым его современникам принадлежат первые формулировки конкретных законов звуковых изменений языка. Понятие звукового закона, введенное Ф. Боппом в 1824 г. и развитое Я. Гриммом, тогда однако еще не имело столь принципиального значения, которое оно получило у следующих поколений компаративистов. Изучение исторических изменений и сопоставление языков давало возможность восстанавливать то, что исчезло из памяти носителей языка. Так, в старославянской письменности существовали две особые буквы: юс большой и юс малый, звуковое значение которых забыли. Однако сопоставлением славянских языков Л. X. Востоков открыл «тайну юсов», установив, что это были носовые гласные.
Наука о языке первой половины XIX в. не исчерпывалась одной компаративистикой. Параллельно развивались философские теории языка, с которыми было связано и зарождение типологии. В начале XIX в. братья Август (1767–1845) и Фридрих (1772–1829) Шлегели впервые сформулировали идею об аморфных (позднее названных изолирующими), агглютинативных и флективных языках, различие в строе которых они трактовали как различие стадий человеческого мышления (подробнее см. об этом в главе о В. фон Гумбольдте). Общетеоретический, философский подход к языку в первой половине XIX в. достиг наивысшего развитие в теории В. фон Гумбольдта, которую необходимо рассмотреть отдельно в особой главе. Гумбольдтианская традиция продолжала развиваться в той или иной степени в течение всего XIX в. параллельно с развитием компаративистики.
Как традиция, заложенная Ф. Боппом, Р. Раском и др., так и традиция В. фон Гумбольдта были связаны с историческим подходом к языку. Описания современных языков и синхронные общетеоретические работы, хотя и продолжали писаться, ушли на периферию науки. Лишь изредка профессиональные ученые обращались к подобной проблематике, и чем позже, тем все меньше. Одним из редких образцов такой грамматики современного языка, не связанной с историческими изысканиями, стала якутская грамматика выдающегося ученого Отто Бётлингка (1815–1901), долго работавшего в России; грамматика вышла в Петербурге на немецком языке в 1851 г. (о ее значении говорит уже то, что ее русский перевод был издан в Новосибирске совсем недавно, в 1990 г.). Однако по основной специальности О. Бётлингк был санскритологом и в последующие десятилетия более не обращался к современным языкам. В основном же изучение современных языков ушло из университетской науки. Европейскими языками занимались в основном педагоги, методисты, авторы гимназических учебников, нормативных грамматик и словарей. «Экзотические» языки, как и раньше, чаще всего изучались силами миссионеров, офицеров-путешественников, служащих колониальной администрации. Продолжали появляться и «логические», «рациональные» грамматики, продолжавшие традиции «Грамматики Пор-Рояля» и далекие от историзма. За ними, а затем и за самой грамматикой А. Арно и К. Лансло, прочно установилась репутация безнадежно устаревших.
К середине XIX в. компаративисты все более занимались реконструкциями древних, не наблюдаемых языковых состояний, поначалу не столько праиндоевропейского, сколько более поздних. Одним из таких состояний было прароманское, представленное так называемой народной (вульгарной) латынью, мало отраженной в письменных памятниках (классическая латынь отражала несколько более раннее состояние языка). Сопоставление романских языков, проводимое последователем Ф. Боппа Ф. К. Дицем и его учениками, дало возможность реконструировать ряд форм народной латыни, не зафиксированных в памятниках. А затем при раскопках был найден написанный на народной латыни текст, где употреблялись эти формы! Так сравнительно-исторический метод еще на довольно раннем этапе развития уже выдержал проверку на надежность. Другие области языкознания тогда были развиты гораздо слабее.
Литература
Томсен В. История языкознания до конца XIX века. М., 1938, с. 51–81.
Звегинцев В. А. Зарождение сравнительно-исторического языкознания // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 1. М., 1960, с. 25–27.
Вильгельм фон ГумбольдтВильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) был одним из крупнейших лингвистов-теоретиков в мировой науке. По поводу его роли в языкознании В. А. Звегинцев писал: «Выдвинув оригинальную концепцию природы языка и подняв ряд фундаментальных проблем, которые и в настоящее время находятся в центре оживленных дискуссий, он, подобно непокоренной горной вершине, возвышается над теми высотами, которых удалось достичь другим исследователям».
В. фон Гумбольдт был многосторонним человеком с разнообразными интересами. Он был прусским государственным деятелем и дипломатом, занимал министерские посты, играл значительную роль на Венском конгрессе, определившем устройство Европы после разгрома Наполеона. Он основал Берлинский университет, ныне носящий имена его и его брата, знаменитого естествоиспытателя и путешественника А. фон Гумбольдта. Ему принадлежат труды по философии, эстетике и литературоведению, юридическим наукам и др. Его работы по лингвистике не столь уж велики по объему, однако в историю науки он вошел в первую очередь как языковед-теоретик.
Время, когда работал В. фон Гумбольдт, было периодом расцвета немецкой классической философии; в это время работали такие великие мыслители, как старший современник В. фон Гумбольдта И. Кант и принадлежавший к одному с В. фон Гумбольдтом поколению Г. Гегель. Вопрос о связи гумбольдтовской теории с теми или иными философскими концепциями, в частности, И. Канта, по-разному трактуется историками науки. Однако несомненно одно: влияние на ученого общей философской атмосферы эпохи, способствовавшее рассмотрению крупных, кардинальных вопросов теории. В то же время эпоха сказывалась и на научном стиле ученого: перед ним не стояла задача строить логически непротиворечивую теорию или доказывать каждое из ее положений; такого рода требования появились в лингвистике позже. Зачастую философская манера рассуждений В. фон Гумбольдта кажется современному читателю не очень понятной, особенно это относится к его главному лингвистическому труду. Однако за сложно изложенными и никак не доказанными рассуждениями скрывается глубокое содержание, часто очень актуальное для современной науки. Наряду с несомненно устаревшими положениями мы видим у В. фон Гумбольдта постановку и решение, пусть в зачаточном виде, многих проблем, к которым впоследствии вновь приходила наука о языке.
Лингвистикой В. фон Гумбольдт в основном занимался в последние полтора десятилетия жизни, после отхода от активной государственной и дипломатической деятельности. Одной из первых по времени работ был его доклад «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», прочитанный в Берлинской академии наук в 1820 г. Несколько позже появилась другая его работа — «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей». В последние годы жизни ученый работал над трудом «О языке кави на острове Ява», который не успел завершить. Была написана его вводная часть «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества», опубликованная посмертно в 1848 г. Это безусловно главный лингвистический труд В. фон Гумбольдта, в котором наиболее полно изложена его теоретическая концепция. Работа сразу стала очень знаменитой, и уже спустя десятилетие появился ее русский перевод, хотя и не бывший достаточно адекватным. В хрестоматию В. А. Звегинцева включены доклад «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития» и фрагменты из его главного труда. Наконец, в 1984 г. вышла книга В. фон Гумбольдта «Избранные труды по языкознанию», куда впервые включены русские переводы всех его основных лингвистических работ.
В двух более ранних работах В. Гумбольдта, прежде всего в статье «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», ученый высказывает идеи, связанные с так называемой стадиальной концепцией языка. Эти идеи были основаны на анализе значительного для того времени количества языков; в частности, на основании материалов, собранных его братом, он первым среди языковедов-теоретиков стал изучать языки американских индейцев.
Сравнительное изучение языков было нужно В. фон Гумбольдту не для выяснения языкового родства (работы Ф. Боппа он оценивал высоко, но сам компаративистикой такого типа не занимался), но и не просто для выявления общего и различного в языковых структурах, как в типологии более позднего времени. Для него было необходимым выявить общие закономерности исторического развития языков мира. Языкознание он, как и все его современники, понимал как историческую науку, но история языков не сводилась для него к истории языковых семей.
В связи с выделяемыми им тремя этапами развития В. фон Гумбольдт выделял «три аспекта для разграничения исследований языков». Первый этап — период происхождения языков. Владевший материалом многих языков так называемых примитивных народов ученый четко осознавал, что «еще не было обнаружено ни одного языка, находящегося ниже предельной границы сложившегося грамматического строения. Никогда ни один язык не был застигнут в момент становления его форм». Тем более нет никаких прямых данных о происхождении языка. В. фон Гумбольдт отказывался от сколько-нибудь развернутых гипотез в духе XVIII в. о происхождении языка, предполагая лишь, что «язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг», то есть происхождение языка из чего-то ему предшествовавшего — скачкообразный переход из одного состояния в другое. На первом этапе происходит «первичное, но полное образование органического строения языка».
Второй этап связан со становлением языков, формированием их структуры; его изучение «не поддается точному разграничению» от исследования первого этапа. Как уже отмечено выше, этот этап также недоступен прямому наблюдению, однако данные о нем можно полнить, исходя из различий структур тех или иных языков. Становление языков продолжается вплоть до «состояния стабильности», после достижения которого принципиальное изменение языкового строя уже невозможно: «Как земной шар, который прошел через грандиозные катастрофы до того, как моря, горы и реки обрели свой настоящий рельеф, но внутренне остался почти без изменений, так и язык имеет некий предел законченности организации, после достижения которого уже не подвергаются никаким изменениям ни его органическое строение, ни его структура… Если язык уже обрел свою структуру, то важнейшие грамматические формы уже не претерпевают никаких изменений; тот язык, который не знает различий в роде, падеже, страдательном или среднем залоге, этих пробелов уже не восполнит».
Согласно В. фон Гумбольдту, языки проходят принципиально единый путь развития, но «состояние стабильности» может достигаться на разных этапах. Здесь он развил существовавшие и до него идеи о стадиях развития языков, отражающих разные уровни развития тех или иных народов. Здесь позиция ученого оказывается несколько противоречивой. С одной стороны, он предостерегает против установления принципиальной пропасти между уровнями развития языков «культурных» и «примитивных» народов: «Даже так называемые грубые и варварские диалекты обладают всем необходимым для совершенного употребления»; «Опыт перевода с различных языков, а также использование самого примитивного и неразвитого языка при посвящении в самые тайные религиозные откровения показывают, что, пусть даже с различной точностью, каждая мысль может быть выражена в любом языке». С другой стороны, он же определенно пишет: «Наивысшего совершенства по своему строю, без сомнения, достиг греческий язык» (имеется в виду древнегреческий). В статье «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей», откуда взята последняя цитата, В. фон Гумбольдт стремится выявить шкалу, по которой можно расположить языки, достигшие «состояния стабильности» на том или ином уровне (он допускает и возможность того, что некоторые языки еще развиваются и «состояния стабильности» не достигли и достигнут лишь в будущем).
В этом пункте В. фон Гумбольдт развил идеи, высказанные незадолго до того двумя другими немецкими мыслителями, принадлежавшими к тому же поколению, — братьями Августом и Фридрихом Шлегелями. Они ввели понятия аморфных (позднее переименованных в изолирующие), агглютинативных и флективных языков; эти понятия, позднее ставшие чисто лингвистическими, связывались братьями Шлегелями и затем В. фон Гумбольдтом со стадиями развития языков и народов.
В. фон Гумбольдт выделяет четыре ступени (стадии) развития языков: «На низшей ступени грамматическое обозначение осуществляется При помощи оборотов речи, фраз и предложений… На второй ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи устойчивого порядка слов и при помощи слов с неустойчивым вещественным и формальным значением… На третьей ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи аналогов форм… На высшей ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи подлинных форм, флексий и чисто грамматических форм». Нетрудно видеть, что три последние ступени соответствуют изолирующему, агглютинативному и флективному строю («аналоги форм» отделяются от «подлинных форм» тем, что в первых «связь… компонентов еще недостаточно прочна, заметны места соединения. Образовавшаяся смесь еще не стала одним целым», то есть речь идет явно об агглютинации). Стадиальное различие прямо связывается со степенью духовного развития: «Первое, и самое существенное, из того, что дух требует от языка, — это не смешение, а четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения… Однако такое разграничение происходит только при образовании подлинных грамматических форм путем флексии или грамматических слов… при последовательном обозначении грамматических форм. В каждом языке, располагающем только аналогами форм, в грамматическом обозначении, которое должно быть чисто формальным, остается материальный компонент».
Правда, тут же В. фон Гумбольдт вынужден констатировать, что в данную схему с трудом укладывается китайский язык, составляющий, по его мнению, «самый необычный пример», другой сходный пример представлял и древнеегипетский язык. Оказывается, что «два самых необычных народа были в состоянии достигнуть высокой ступени интеллектуального развития, обладая языками совершенно или большей частью лишенными грамматических форм». Однако В. фон Гумбольдт не склонен данные примеры считать опровержением своей точки зрения: «Там, где человеческий дух действует при сочетании благоприятных условий и счастливого напряжения своих сил, он в любом случае достигает цели, пусть даже пройдя к ней трудным и долгим путем. Трудности при этом не уменьшаются оттого, что духу приходится их преодолевать». Все-таки к языкам, «обладающим истинным строем грамматических форм», относятся, согласно В. фон Гумбольдту, санскрит, семитские языки и, наконец, классические языки Европы с греческим на вершине.
Позиция ученого оказывается здесь не вполне цельной. С одной стороны, он ставит в данной статье важную и не потерявшую актуальности проблему описания «экзотических» языков в их собственных категориях, без европеизации: «Поскольку к изучению неизвестного языка подходят с позиции более известного родного языка или латыни, то для иностранного языка избирается способ обозначения грамматических отношений, принятый в ряде языков… Во избежание ошибки необходимо изучать язык во всем его своеобразии, чтобы при точном расчленении его частей можно было определить, при помощи какой определенной формы в данном языке в соответствии с его строем обозначается каждое грамматическое отношение». В этой связи он разбирает некоторые испанские и португальские грамматики индейских языков, показывая, что, например, инфинитивом в них именуют то, что не соответствует европейскому инфинитиву. Но с другой стороны, он считает, что «дух требует от языка» тех качеств, которые специфичны для флективных, прежде всего классических языков. Во времена В. фон Гумбольдта еще сильны были шедшие от эпохи Возрождения представления об античной культуре как самой «мудрой» и совершенной; после открытия санскрита такое же совершенство стали видеть и в древнеиндийской культуре. Имелось и объективное «доказательство» такого подхода: максимальная морфологическая сложность, действительно свойственная санскриту или древнегреческому по сравнению с большинством языков мира.
Типологическими проблемами В. фон Гумбольдт занимался и в главном своем лингвистическом труде. Там на основе изучения индейских языков он выделил наряду с тремя типами братьев Шлегелей еще один языковой тип — инкорпорирующий. Стадиальная типологическая концепция после В. фон Гумбольдта в течение нескольких десятилетий господствовала в европейской науке. Однако многие ее положения нельзя было тактически доказать. Это относилось не только к представлениям о том, чего «дух требует от языка», но и к тезису о достижении каждым языком «предела законченности организации» (аналогия с земным шаром, соответствовавшая представлениям времен В. фон Гумбольдта, также была отвергнута последующей наукой). Как дальше будет показано, стадиальная концепция потеряла влиятельность уже во второй половине XIX в. и ушла из языкознания, если не считать неудачной попытки ее возрождения Н. Я. Марром. И в то же время кое-что осталось. Сами понятия агглютинативных, флективных, изолирующих (аморфных) и инкорпорирующих языков, также как и сопряженные с ними понятия агглютинации, инкорпорации и др., несмотря ни на что всегда оставались в арсенале науки о языке. Братья Шлегели и Гумбольдт сумели открыть некоторые существенные черты языковых структур. Вопрос о закономерностях развития языкового строя, впервые поставленный В. фон Гумбольдтом, остается важным и серьезным и сейчас, хотя современная наука решает его не столь прямолинейно. И, наконец, сама идея структурного сравнения языков вне зависимости от их родственных связей легла в основу одной из важнейших лингвистических дисциплин — лингвистической типологии.
Вернемся к докладу В. фон Гумбольдта «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития». Третий и последний этап языковой истории начинается с момента, когда язык достиг «предела законченности организации». Язык уже не развивается, но и не деградирует (такого рода идеи появились позже). Однако в органическом строении языка и его структуре, «как живых созданиях духа», может до бесконечности происходить более тонкое совершенствование языка. «Посредством созданных для выражения более тонких ответвлений понятий, сложением, внутренней перестройкой структуры слов, их осмысленным соединением, прихотливым использованием первоначального значения слов, точно схваченным выделением отдельных форм, искоренением излишнего, сглаживанием редких звучаний язык, который в момент своего формирования беден, слаборазвит и незначителен, если судьба одарит его своей благосклонностью, обретет новый мир понятий и доселе неизвестный ему блеск красноречия». На этом этапе истории находятся, в частности, современные языки Европы.
Изучение языка на этом этапе составляет предмет собственно исторической лингвистики. Совершенствование языка тесно связано с историческим развитием соответствующего народа. В то же время и здесь можно и нужно сопоставлять языки. Только на материале языков, стоящих на одинаковой ступени развития, «можно ответить на общий вопрос о том, как все многообразие языков вообще связано с процессом происхождения человеческого рода». Уже здесь В. фон Гумбольдт отвергает идею о том, что представления человека о мире независимы от его языка. Различное членение мира различными языками, как отмечает ученый, «выявляется при сопоставлении простого слова с простым понятием… Безусловно, далеко не безразлично, использует ли один язык описательные средства там, где другой язык выражает это одним словом, без обращения к грамматическим формам… Закон членения неизбежно будет нарушен, если то, что в понятии представляется как единство, не проявляется таковым в выражении, и вся реальная действительность отдельного слова пропадает для понятия, которому недостает такого выражения». Уже в этой сравнительно ранней работе В. фон Гумбольдт заявляет: «Мышление не просто зависит от языка вообще, потому что до известной степени оно определяется каждым отдельным языком». Здесь уже сформулирована так называемая гипотеза лингвистической относительности, выдвигавшаяся лингвистами, в частности, Б. Уорфом, и в XX в.
Здесь же В. фон Гумбольдт описывает, что такое язык. Он указывает на его коллективный характер: «Язык не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу;. позднейшие поколения получают его от поколений минувших». Очень важна и такая формулировка: «Языки являются не только средством выражения уже познанной действительности, но, более того, и средством познания ранее неизвестной. Их различие не только различие звуков и знаков, но и различие самих мировоззрений. В этом заключается смысл и конечная цель всех исследований языка». Как отмечает комментатор В. фон Гумбольдта Г. В. Рамишвили, точнее по-русски говорить не о мировоззрении (этот термин имеет другой устоявшийся смысл), а о мировидении.
Итак, если сравнение языков на этапе их становления — это типология, то сравнение языков на этапе их совершенствования — это прежде всего сопоставление «мировидений», картин мира, создаваемых с помощью языков. Такого рода сопоставительные исследования продолжают вестись и в наше время; более того, к такого рода проблемам наука о языке всерьез стала подступаться лишь в самые последние годы. Во многом данная дисциплина — еще дело будущего: при значительном количестве фактов и наблюдений общая теория сопоставления языковых картин мира пока не создана.
Теперь следует рассмотреть главный лингвистический труд ученого «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества». Как указывал он сам, эта работа должна была стать теоретическим введением к оставшемуся нереализованным замыслу конкретного описания языка древнеяванских письменных памятников.
Первичное и неопределяемое для В. Гумбольдта понятие — «человеческая духовная сила», конкретно проявляющаяся в виде «духа народа». Он пишет: «Разделение человечества на народы и племена и различие его языков и наречий, конечно, тесно связаны между собой, но вместе с тем и то и другое непосредственно зависит от третьего явления более высокого порядка — действия человеческой духовной силы, выступающей всегда в новых и часто более совершенных формах… Выявление человеческой духовной силы, в разной степени и разными способами совершающееся в продолжение тысячелетий на пространстве земного круга, есть высшая цель всего движения духа, окончательная идея, которая должна явственно вытекать из всемирно-исторического процесса». Как «язык вообще» неразрывно связан с «человеческой духовной силой», так каждый конкретный язык связан с «духом народа»: «Язык… всеми тончайшими нитями своих корней сросся… с силой национального духа, и чем сильнее воздействие духа на язык, тем закономерней и богаче развитие последнего. Во всем своем строгом сплетении он есть лишь продукт языкового сознания нации, и поэтому на главные вопросы о началах и внутренней жизни языка, — а ведь именно здесь мы подходим к истокам важнейших звуковых различий, — вообще нельзя должным образом ответить, не поднявшись до точки зрения духовной силы и национальной самобытности». В. фон Гумбольдт не дает ни определения народа, ни определения отдельного языка, но он постоянно указывает на их неразрывность: язык в отличие от диалекта, с одной стороны, и языковой семьи, с другой, есть достояние отдельного народа, а народ — это множество людей, говорящих на одном языке. В первой половине XIX в. такая точка зрения имела и четкий политико-идеологический смысл: шла борьба за объединение Германии, в которой ведущую роль играла именно Пруссия, а одним из обоснований этой борьбы была идея о единстве немецкоговорящей нации.
Согласно В. фон Гумбольдту, язык неотделим от человеческой культуры и представляет собой важнейший ее компонент: «Язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры». По сравнению с другими видами культуры язык наименее связан с сознанием: «Язык возникает из таких глубин человеческой природы, что в нем никогда нельзя видеть намеренное произведение, создание народов. Ему присуще очевидное для нас, хотя и необъяснимое в своей сути самодеятельное начало, и в этом плане он вовсе не продукт ничьей деятельности, а непроизвольная эманация духа, не создание народов, а доставшийся им в удел дар, их внутренняя судьба. Они пользуются им, сами не зная, как его построили». Идея о полностью бессознательном развитии языка и невозможности вмешательства в него потом получила развитие у Ф. де Соссюра и других лингвистов.
Человек не может ни мыслить, ни развиваться без языка: «Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества. Язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением». «Языкотворческая сила в человечестве» стремится к совершенству, этим и обусловливаются единые закономерности развития всех языков, даже тех, «которые не обнаруживают между собой никаких исторических связей». Отсюда необходим стадиальный подход и кажущееся В. фон Гумбольдту несомненным разграничение более и менее совершенных языков. При этом он указывает, что «язык и цивилизация вовсе не всегда находятся в одинаковом соотношении друг с другом»; в частности, «так называемые примитивные и некультурные языки могут иметь в своем устройстве выдающиеся достоинства, и действительно имеют их, и не будет ничего удивительного, если окажется, что они превосходят в этом отношении языки более культурных народов».
Как уже говорилось, для Ф. фон Гумбольдта язык — безусловно общественное явление: «Жизнь индивида, с какой стороны ее ни рассматривать, обязательно привязана к общению… Духовное развитие, даже при крайней сосредоточенности и замкнутости характера, возможно только благодаря языку, а язык предполагает обращение к отличному от нас и понимающему нас существу… Отдельная индивидуальность есть вообще лишь явление духовной сущности в условиях ограниченного бытия». Такая точка зрения была естественной, если исходить из первичности духа народа; позднее, как мы увидим, вопрос о соотношении индивидуального и коллективного в языке получал в лингвистике и иные решения.
Дух народа и язык народа неразрывны: «Духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в столь тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого обязательно должно вытекать другое… Язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное». При этом единстве первичен все же дух народа: «Мы должны видеть в духовной силе народа реальный определяющий принцип и подлинную определяющую основу для различий языков, так как только духовная сила народа является самым жизненным и самостоятельным началом, а язык зависит от нее». В то же время дух народа в полной мере недоступен наблюдению, о нем мы можем узнавать лишь по его проявлениям, прежде всего по языку: «Среди всех проявлений, посредством которых познается дух и характер народа, только язык и способен выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные тайны. Если рассматривать языки в качестве основы для объяснения ступеней духовного развития, то их возникновение следует, конечно, приписывать интеллектуальному своеобразию народа, а это своеобразие отыскивать в самом строе каждого отдельного языка».
Но чтобы понять, как дух народа реализуется в языке, надо правильно понять, что же такое язык. Как отмечает В. фон Гумбольдт, «язык предстает перед нами в бесконечном множестве своих элементов — слов, правил, всевозможных аналогий и всякого рода исключений, и мы впадаем в немалое замешательство в связи с тем, что все это многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все же предстает перед нами обескураживающим хаосом, мы должны возвести к единству человеческого духа». Нельзя ограничиться фиксацией этого хаоса, надо в каждом языке искать главное. А для этого надо «определить, что следует понимать под каждым языком».
И здесь В. фон Гумбольдт дает определение языка, ставшее, пожалуй самым знаменитым местом всего его труда: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia). Его истинное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы по привычке именуем языком, наличествуют лишь отдельные элементы, воспроизводимые — и притом неполно — речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и составить верную картину живого языка, по разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и уловить только в связной речи… Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа. Определение языка как деятельности духа совершенно правильно и адекватно уже потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой».
Два греческих слова, ergon и energeia, употребленные В. фон Гумбольдтом, с тех пор часто рассматривались многими лингвистами и нередко употребляются как термины без перевода. Понимание языка в качестве energeia было качественно новым в науке о языке. Как верно определил В. фон Гумбольдт, вся европейская лингвистика начиная по крайней мере со стоиков и александрийцев сводила язык к множеству правил, устанавливаемому в грамматиках, и множеству слов, записанных в словарях. Ориентация на изучение продукта деятельности была отчасти связана и с преимущественным, особенно в Средние века и в Новое время, вниманием к письменным текстам в ущерб устным. Но еще в большей степени она определялась аналитическим подходом к языку. Языковед моделировал деятельность слушающего, а не говорящего. Он имел дело с речевой деятельностью, либо прямо, либо косвенно, через посредство письменных текстов, расчленяя ее на части, извлекая из нее единицы, в том числе слова, и правила оперирования этими единицами. Этого было достаточно для тех практических целей, из которых выросла европейская традиция (обучение языкам, толкование текстов, помощь при стихосложении и пр.), а после появления теоретической лингвистики аналитический подход к языку оставался господствующим. В. фон Гумбольдт впервые поставил вопрос иначе, хотя и признавал, что для изучения языков происходит «неизбежное в языковедении расчленение языкового организма». Какого-либо примера конкретного описания языка в соответствии со своим подходом В. фон Гумбольдт в 30-е гг. XIX в. не дал и, вероятно, еще не мог дать. Однако после него все направления теоретического языкознания не могли не учитывать его разграничения. Наряду с подходом к языку как ergon, получившим законченное развитие в структурализме, существовало и так называемое гумбольдтовское направление, для которого язык — energeia. Это направление было влиятельным в течение всего XIX в., отошло на периферию науки, но не исчезло совсем в первой половине XX в., а затем нашло новое развитие в генеративной лингвистике.
Язык, согласно В. фон Гумбольдту, состоит из материи (субстанции) и формы. «Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и непроизвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка». Говорить что-либо о языковой материи в отвлечении от формы невозможно: «в абсолютном смысле в языке не может быть никакой неоформленной материи»; в частности, звук «становится членораздельным благодаря приданию ему формы». Именно форма, а не играющая лишь вспомогательную роль материя составляет суть языка. Как пишет В. фон Гумбольдт, «постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка». Ученый выступал против представления о форме как о «плоде научной абстракции». Форма, как и материя, существует объективно; форма «представляет собой сугубо индивидуальный порыв, посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и чувства». Нетрудно видеть, что формулировка Ф. де Соссюра «Язык — форма, а не субстанция» восходит к В. фон Гумбольдту, хотя понимание формы у него во многом иное.
Форму нельзя познать в целом, ее нам дано наблюдать «лишь в конкретно-единичных проявлениях». С одной стороны, все в языке так или иначе отражает его форму. С другой стороны, разные явления имеют разную значимость: «в каждом языке можно обнаружить много такого, что, пожалуй, не искажая сущности его формы, можно было бы представить и иным». Лингвист должен уметь находить наиболее существенные черты языка (к их числу В. фон Гумбольдт относил, в частности, флексию, агглютинацию, инкорпорацию), но в то же время ему «приходится обращаться к представлению о едином целом», выделение отдельных черт не дает полного представления о форме того или иного языка. Если же он не стремится изучать язык как форму воплощения мыслей и чувств народа, то «отдельные факты будут представляться изолированными там, где их соединяет живая связь». Тем самым необходимо системное изучение языка; то есть В. фон Гумбольдт предвосхищает здесь еще одно основополагающее требование структурной лингвистики.
Форма не должна пониматься узко только как грамматическая форма. Форму мы видим на любом уровне языка: и в области звуков, и в грамматике, и в лексике. Форма каждого языка отдельна и неповторима, но формы разных языков имеют те или иные сходства. «Среди прочих сходных явлений, связывающих языки, особенно бросается в глаза их общность, которая основывается на генетическим родстве народов… Форма отдельных генетически родственных языков должна находиться в соответствии с формой всей семьи языков». Но можно говорить и об общей форме всех языков, «если только идет речь о самых общих чертах». «В языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное со всеобщим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим языком». Здесь ученый обратил внимание на одно из кардинальных противоречий языкознания; для него все находилось в диалектическом единстве, но ряд ученых более позднего времени был склонен к абсолютизации только чего-то одного, чаще индивидуального языка.
Поскольку бесформенные «непроизвольные движения духа» не могут создать мысль, то невозможно мышление без языка: «Язык есть орган, образующий мысль. Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия. Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое. В силу необходимости мышление всегда связано со звуками языка; иначе мысль не сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет стать понятием». Важно и такое высказывание В. фон Гумбольдта: «Даже не касаясь потребностей общения людей друг с другом, можно утверждать, что язык есть обязательная предпосылка мышления и в условиях полной изоляции человека. Но обычно язык развивается только в обществе, и человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям… Речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека. Так же обстоит дело и с пониманием». Такой подход к взаимоотношениям языка и мышления в течение долгого времени оставался самым влиятельным в языкознании.
В. фон Гумбольдт подчеркивал творческий характер языка: «В языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определенны, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. Усвоение языка детьми — это не ознакомление со словами, не простая закладка их в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности с годами и упражнением». В этих фразах уже есть многое из того, к чему в последние десятилетия пришла наука о языке, показателен сам термин «порождение».
В связи с этим В. фон Гумбольдтом трактуется и противоречие между неизменностью и изменчивостью языка: «В каждый момент и в любой период своего развития язык… представляется человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — неисчерпаемой сокровищницей, в которой дух всегда может открыть что-то еще неведомое, а чувство — всегда по-новому воспринять что-то еще не прочувствованное. Так на деле и происходит всякий раз, когда язык перерабатывается поистине новой и великой индивидуальностью… Язык насыщен переживаниями прежних поколений и хранит их живое дыхание, а поколения эти через звуки материнского языка, которые и для нас становятся выражением наших чувств, связаны с нами национальными и родственными узами. Эта отчасти устойчивость, отчасти текучесть языка создает особое отношение между языком и поколением, которое на нем говорит». Если отвлечься от стиля, который в наши дни может казаться ненаучным, мы имеем здесь важное положение о динамике языкового развития, о связи каждого состояния языка с предшествующим и последующим, а к этому в конечном итоге пришла и лингвистика XX в. Важны для последующего развития вопроса о причинах языковых изменений и такие слова В. фон Гумбольдта: «Ясно, до чего ничтожна сила одиночки перед могущественной властью языка… И все-таки каждый со своей стороны в одиночку, но непрерывно воздействует на язык, и потому каждое поколение, несмотря ни на что, вызывает в нем какой-то сдвиг, который, однако, часто ускользает от наблюдения».
Язык помогает человеку познавать мир, и в то же время это познание зависимо от языка: «Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне, человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей… Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык… И каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка». Таким образом и здесь, как и в более ранней работе, В. фон Гумбольдт ставит вопрос о языковых картинах мира, высказывая точку зрения о том, что многое в представлении каждого человека о мире обусловлено его языком; эта проблематика была позднее развита Б. Уорфом и др.
В. фон Гумбольдт в связи с этим выделяет два способа освоения иностранного языка. Если мы освоили его адекватно, то такое освоение «можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира». Однако чаще этого не происходит, поскольку «мы в большей или меньшей степени переносим на иностранный язык свое собственное миропонимание и, больше того, свое собственное представление о языке». В пределах европейской культуры подобный перенос не приводил к трудностям во взаимопонимании из-за очень сходных языковых картин мира. Однако при исследовании, например, индейских языков такая проблема, как будет сказано ниже, в главе о дескриптивизме, стала серьезной.
Говоря о звуковой стороне языка, В. фон Гумбольдт исходил из не очень развитого состояния фонетики его времени и даже смешивал звук с буквой. И в то же время у него присутствуют высказывания, предвосхищающие идеи сложившейся лишь почти столетие спустя фонологии: «В языке решающим фактором является не обилие звуков, а, скорее, наоборот, — гораздо существенней строгое ограничение числа звуков, необходимых для построения речи, и правильное равновесие между ними. Языковое сознание должно поэтому содержать… предчувствие всей системы в целом, на которую опирается язык в данной индивидуальной форме. Здесь уже проявляется то, что, в сущности, проявляется во всем процессе образования языка. Язык можно сравнить с огромной тканью, все нити которой более или менее заметно связаны между собой и каждая — со всей тканью в целом».
Среди единиц языка В. фон Гумбольдт прежде всего выделял слово. Выступая против традиционных наивных представлений о происхождении языка, он писал: «Нельзя себе представить, чтобы создание языка начиналось с обозначения словами предметов, а затем уже происходило соединение слов. В действительности речь строится не из предшествующих ей слов, а, наоборот, слова возникают из речи». В то же время любая речь членится на слова; «под словами следует понимать знаки отдельных понятий»; «слово образует границу, вплоть до которой язык в своем созидательном процессе действует самостоятельно». То есть слова уже даны говорящему языком, тогда как «для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы, предоставляя их индивидуальное оформление произволу говорящего». Ср. существующую у ряда лингвистов XX в. концепцию, согласно которой слова и «регулирующие схемы» предложений принадлежат языку, а сами предложения — единицы речи. Наряду со словами В. фон Гумбольдт выделял и корни. Он разграничивал корни «как продукт частой рефлексии и результат анализа слов», то есть «как результат работы грамматистов», и существующие в ряде языков реальные корни, нужные говорящим в связи с «определенными законами деривации».
Языковая форма далеко не сводится к внешней, звуковой форме. Еще большее значение имеет внутренняя форма языка, членящая «чувственные впечатления и непроизвольные движения духа». Внутренняя форма, специфическая для каждого языка, проявляется как в членении мира в области лексики, так и в системе грамматических категорий. Например, по мнению В. фон Гумбольдта «понятие наклонения» получило подлинное развитие в древнегреческом, тогда как в санскрите «осталось явно недоразвитым».
В связи с внутренней формой языка В. фон Гумбольдт затрагивает проблему, которая позже стала трактоваться как различие значения и смысла слова; с точки зрения образования понятия «слово — не эквивалент чувственно воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова. Именно здесь — главный источник многообразия выражений для одного и того же предмета: так, в санскрите, где слона называют то дважды пьющим, то двузубым, то одноруким, каждый раз подразумевая один и тот же предмет, тремя словами обозначены три разных понятия. Поистине язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них». Позднее в отечественной традиции начиная с А. А. Потебни термин «внутренняя форма» стал употребляться в суженном по сравнению с В. фон Гумбольдтом значении: говорится не о внутренней форме языка, а о внутренней форме слова в связи с тем, как в морфемной структуре слова или же в его этимологической структуре отражаются те или иные смысловые признаки.
Образование понятий в указанном выше смысле специфично для каждого народа, поэтому «влияние национального своеобразия обнаруживается в языке… двояко: в способе образования отдельных понятий и в относительно неодинаковом богатстве языков понятиями определенного рода». Здесь опять-таки В. фон Гумбольдт исходил из разных уровней развития языков, которые проявляются не только в звуковой форме, но и в образовании понятий; вновь самыми богатыми и в этом плане признаются санскрит и древнегреческий.
Ни звуковая, ни внутренняя форма языка не создают язык сами по себе, необходим их синтез: «Соединение звуковой формы с внутренними языковыми законами придает завершенность языкам, и высшая ступень их завершенности знаменуется переходом этой связи, всегда возобновляющейся в одновременных актах языкотворческого духа, в их подлинное и чистое взаимопроникновение. Начиная со своего первого элемента, порождение языка — синтетический процесс, синтетический в том подлинном смысле слова, когда синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых. Этот процесс завершается, только когда весь строй звуковой формы прочно и мгновенно сливается с внутренним формообразованием. Благотворным следствием этого является полная согласованность одного элемента с другим». Фактически здесь речь идет о том, что позднее получило название двусторонности знака, и еще раз здесь В. фон Гумбольдт подчеркивает системность языка, взаимосвязанность его элементов.
Безусловно, многое у В. фон Гумбольдта устарело. Особенно это относится к его исследованию конкретного языкового материала, часто не вполне достоверного. Лишь историческое значение имеют егo идеи стадиальности и попытки выделять более или менее развитые языки. Однако можно лишь удивляться тому, сколько идей, которые рассматривала лингвистика на протяжении последующих более чем полутора столетий, в том или ином виде высказано у ученого первой половины XIX в. Безусловно, многие проблемы, впервые поднятые В. фон Гумбольдтом, крайне актуальны, а к решению некоторых из них наука лишь начинает подступаться.
Литература
Шор Р. О. Краткий очерк истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в. // Томсен В. История языковедения до конца XIX в. М., 1938.
Звегинцев В. А. Вводная статья к разделу «В. Гумбольдт» // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях, ч. 1. М., 1964.
Звегинцев В. А. О научном наследии Вильгельма фон Гумбольдта // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Рамишвили Г. В. Вильгельм фон Гумбольдт — основоположник теоретического языкознания // Там же.
Август ШлейхерК середине XIX в. сравнительно-историческое языкознание активно развивалось. Прежде всего произошло значительное накопление фактического материала. Языковеды уже не ограничивались материалом германских, романских языков, древнегреческого и санскрита. Впервые объектом изучения стали такие языки, как иранские, балтийские, армянский, развились славистика и кельтология. Сопоставления в работах компаративистов стали значительно надежнее. Параллельно с расширением материала шлифовался метод.
В то же время научный и общественный климат эпохи заметно изменился. Завершилась история классической немецкой философии, с которой были тесно связаны теоретические построения таких ученых, как В. фон Гумбольдт. На смену философским теориям пришел интерес к конкретным фактам. В то же время бурно развивались естественные науки, особенно биология. Огромное влияние на развитие многих наук оказала теория Ч. Дарвина, появившаяся в 50-е гг. XIX в.
Наиболее крупным из ученых, отразивших этот этап в развитии европейской науки, был немецкий языковед Август Шлейхер (1821–1868). За недолгую жизнь он написал довольное большое количество работ. Самый большой его труд — «Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков», изданный в 1861 г. Другая крупная работа — «Немецкий язык» (первое издание вышло в 1860 г., второе, переработанное, — посмертно в 1869 г.). В последние годы жизни А. Шлейхер опубликовал две сравнительно небольшие работы, в концентрированном виде излагающие его теоретические взгляды: «Теория Дарвина и наука о языке» (1863) и «Значение языка для естественной истории человека» (1865).
Помимо этого А. Шлейхеру принадлежат «Индоевропейская хрестоматия», труды по славянским и балтийским языкам и др. В теоретическом плане он пытался синтезировать идеи Ф. Боппа, некоторые, в основном стадиальные идеи В. Гумбольдта и положения дарвинизма.
Как и другие ученые XIX в., А. Шлейхер занимался проблемами языковой истории. Однако ему еще свойствен интерес к широким и не всегда подтвержденным фактами общим построениям, попыткам выявить пути развития языков и языковые стадии. Этим он отличался от следующего поколения лингвистов, принципиально не выходивших за пределы собственно компаративистики. А. Шлейхер однако уже довольно мало интересовался проблемой происхождения языка. Главным для него было выявление того, по каким законам развиваются языки.
Как и В. фон Гумбольдт (и, несомненно, под его влиянием), А. Шлейхер выделял две основные стадии (периода) в истории языка: «доисторическую» и «историческую». Доисторический период понимается им примерно таким же образом, как у В. Гумбольдта: это развитие языка от простого к сложному. Он дишет: «Все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих». Однако исторический период понимается у A. Шлейхера иначе, чем у его великого предшественника. Если у B. фон Гумбольдта языки в исторический период не развиваются, но совершенствуются, то А. Шлейхер понимает этот период как регресс, «распад языка в отношении звуков и форм». Ясно, что А. Шлейхер сохранял существовавшее у романтиков представление о морфологически сложных и одновременно связанных с «мудростью древних» классических языках (санскрите, древнегреческом, латинском) как о самых совершенных. Концепция регресса строилась исключительно на основе развития индоевропейских языков от синтетизма к аналитизму. Согласно А. Шлейхеру, морфологическое упрощение следует считать «распадом», причем английский язык значительно дальше регрессировал, чем немецкий.
Выделение двух периодов истории языка (прямо именуемой у А. Шлейхера «жизнью языка») подводит к аналогии с живым организмом: тот и другой развиваются, растут, затем постепенно начинают стареть, распадаться. Биологический подход был свойствен А. Шлейхеру и во многих других отношениях. В связи с этим за лингвистическим направлением, главным представителем которого он был, установилось наименование натуралистического. Одним из важнейших пунктов, где, согласно натуралистическому направлению, язык уподоблялся организму, была классификация языков, заимствованная из биологической систематики.
Основатели компаративистики основное внимание уделяли установлению соответствий между индоевропейскими языками, при этом быстро выявилась регулярность многих соответствий. Регулярность с самого начала объяснялась общностью происхождения, но вопрос о конкретном происхождении тех или иных соответствий первоначально четко не ставился. К тому же довольно долго становлению концепции праязыка мешало догматическое представление о санскрите как «древнейшем» индоевропейском языке и «корне» других языков, то есть как о праязыке. Одной из заслуг А. Шлейхера было четкое формирование понятия индоевропейского праязыка и определение реконструкции его как цели компаративных исследований. Он уже четко понимал, что санскрит — не индоевропейский праязык, а древнейший известный нам представитель одной из ветвей этой семьи, что древнегреческий или старославянский прямо не возводятся к санскриту. Однако он еще сохранял как реликт представлений эпохи Ф. Боппа идею о том, что «чем восточнее живет индоевропейский народ, тем более древним остался его язык, и чем западнее, тем менее древних черт и более новообразований содержит он». Такая догматическая идея позже была отвергнута младограмматиками.
История индоевропейских (и любых других) языков объяснялась А. Шлейхером на основе концепции родословного древа. Первоначально был единый праязык, затем в силу исторических условий (одни народы мигрировали, другие оставались на месте и т. д.) этот праязык распадался на части, каждая из этих частей могла в свою очередь распадаться дальше, и этот процесс мог происходить многократно. А. Шлейхером была предложена и конкретная схема расчленения на нескольких этапах индоевропейского праязыка на группы, соответствующие нам известным. Сама конкретная схема быстро устарела, однако общий принцип сохранился в лингвистике до наших дней. В схематическом виде такая структура действительно напоминает родословное древо. Однако из генеалогии она еще в XVIII в. была перенесена в биологическую систематику, а дарвинизм дал возможность трактовать эту систематику как схему развития растительного и животного мира от древности до современности. Лингвистическая систематика, как и биологическая, одновременно является и способом рациональной классификации, и средством объяснения исторического развития.
Концепция родословного древа основана на том, что развитие языков, как и развитие животного и растительного мира, идет только одним способом: языки и языковые группы могут какое угодно число раз дробиться, отдельные ветви могут «отсыхать», но ни при каких условиях языки не могут скрещиваться между собой. Языки расходятся, но не сходятся. В конце XIX — начале XX в. концепция родословного древа неоднократно критиковалась многими учеными, которые говорили о слишком механическом ее характере, о неучете явлений «скрещения» и «смешения» языков. Попытка признать такие «скрещения» и «смешения» была одно время популярной; такой крупный лингвист, как И. А. Бодуэн де Куртенэ, назвал свою статью 1901 г. «О смешанном характере всех языков». Крайним проявлением таких тенденций была концепция Н. Я. Марра, прямо противоположная концепции родословного древа. Однако несмотря ни на что последняя концепция устояла. Некоторая ее прямолинейность у А. Шлейхера была скорректирована добавлением теории субстрата, о которой будет говориться ниже, но в целом процесс исторического развития языков (исключая, может быть, лишь пиджины и креольские языки) и сейчас понимается так же, как это делал А. Шлейхер. Сохранились и принципы построения генетической классификации языков, им сформулированные, хотя, конечно, сами эти классификации сильно отличаются от того, что было в 60-е гг. XIX в.
Если языки развиваются от одного праязыка к множеству языков, то лингвист идет в обратном направлении: от множества известных языков к реконструкции все меньшего количества неизвестных праязыков и, наконец, к реконструкции древнейшего праязыка. А. Шлейхер в книге «Немецкий язык» так определяет методику работы компаративиста: «Для определения родства языков, объединяемых в языковые роды… решающим является не их форма, а языковая материя, из которой строятся языки. Если два или несколько языков употребляют для выражения значения и отношения настолько близкие звуки, что мысль о случайном совпадении оказывается совершенно неправомерной, и если, далее, совпадения проходят через весь язык и обладают таким характером, что их нельзя объяснить заимствованием слов, то подобного рода тождественные языки, несомненно, происходят из общего языка — основы, они являются родственными. Верным критерием родства является прежде всего происходящее в каждом языке особым образом изменение общей с другими языками звуковой материи, посредством которой он отделяется как особый язык от других языков». Если отвлечься от несколько архаичной терминологии, сказанное имеет силу и в современной компаративистике.
Достаточно большое количество материала в отношении разных ветвей индоевропейской семьи, накопленное к тому времени, дало возможность А. Шлейхеру приступить к реконструкции индоевропейского языка. Как часто бывает с первопроходцами, первые удачные результаты привели его к «головокружению от успехов». В работе о теории Дарвина А. Шлейхер назвал индоевропейский праязык «нам совершенно известным», а в год его смерти в печати появилась знаменитая басня «Овца и кони», написанная им на этом праязыке. Данный опыт оказался, вероятно, единственной попыткой подобного рода. Компаративисты последующих поколений, начиная от младограмматиков, зная о индоевропейском праязыке больше, чем А. Шлейхер, никогда не пытались писать на нем тексты. Стали ясны границы нашего слишком большого незнания этого языка. Во-первых, у компаративистов не было надежной процедуры синхронизации реконструированных праформ и отдельных фонем; многое в басне А. Шлейхера могло относиться к разному времени. Во-вторых, праязык не был чем-то абсолютно однородным, в нем были свои диалекты и говоры и разные реконструированные элементы не всегда входили в единую систему. И, наконец, реконструировать можно лишь то, что сохранилось в каких-то известных нам языках-потомках; многое же пропало безвозвратно.
Развитие языков, согласно А. Шлейхеру, происходит по законам, не имеющим исключений. Понятие закона также было взято им из естественных наук. Хотя отдельные законы вроде закона Гримма формулировались еще его предшественниками, именно А. Шлейхер дал общую формулировку закона в языкознании. Однако попытка выявить на практике более конкретные законы создавала большие трудности: попытка втиснуть в рамки законов все изменения приводила к введению сложных правил с множеством исключений. Причину этого ученый пытался найти в искажающем влиянии письменных языков, предоставляющих лингвисту материал. А. Шлейхер, относивший письменные тексты к периоду «разложения» языков, считал, что в них нет «фонетических законов, действующих без исключений», но верил, что такие законы можно обнаружить в народных говорах, «выше стоящих по развитию языка». Однако до систематического изучения говоров он дойти не успел, кроме литовских.
Главными законами развития языков А. Шлейхер считал дарвиновские законы борьбы за существование и естественного отбора. Об этом он писал в работе «Теория Дарвина в применении к науке о языке», написанной в форме открытого письма к Э. Геккелю, наиболее видному пропагандисту дарвинизма в Германии. Здесь он проводил полный параллелизм между биологией и языкознанием. Он писал: «Разделения и подразделения в области языков в сущности того же рода, как и вообще в царстве естественных организмов»; различны лишь принятые системы терминов, вполне эквивалентные друг другу. Если и есть какие-то отличия (например, изменения в языках обычно происходят быстрее, чем в животном и растительном мире), то они лишь количественны, но не качественны. Как и животные или растительные организмы, языки конкурируют друг с другом и вытесняют друг друга; параллели между биологией и языкознанием здесь до А. Шлейхера находил и сам Ч. Дарвин. А. Шлейхер, полностью соглашаясь с ним, писал: «В области языков тем более неопровержимо происхождение видов путем постепенного разрознения и сохранения более развитых организмов в борьбе за существование». Баскский язык — единственный представитель не выдержавшей конкуренции семьи, а индоевропейские языки, лучше приспособленные к условиям естественного отбора, оказались победителями.
Тем самым давался определенный, хотя и слишком общий ответ на вопрос о причинах языковых изменений. Вплоть до эпохи А. Шлейхера в языкознании все еще господствовала религиозная концепция направленных изменений, в конечном итоге восходившая к Библии. Теперь на смену ей пришел тезис о естественном отборе. Чем лучше язык в ходе изменений приспосабливается к условиям среды, тем больше у него шансов выжить. Конечно, такой ответ не давал возможности ответить на вопрос, почему один звук перешел в другой, а не в третий. Но некоторое общее обоснование можно было дать.
Среди ученых, близких по взглядам к А. Шлейхеру, можно назвать Макса Мюллера, прожившего большую часть жизни в Англии. Это был яркий популяризатор лингвистического дарвинизма.
Идеи А. Шлейхера оказали влияние на компаративистов следующего поколения — младограмматиков. Они восприняли его концепцию развития языков, в том числе понятие языкового закона. Однако они полностью отказались от стадиальных концепций и от идей о «распаде» языков.
Многое в построениях А. Шлейхера было слишком прямолинейным, а метафорическое уподобления языка живому организму он понимал слишком буквально. Однако многое из того, что он сделал впервые, прочно вошло в арсенал лингвистики. Это и сформулированные им принципы сравнительно-исторического исследования, и концепция родословного древа, и многие рабочие приемы (например, выделение реально не засвидетельствованных форм под звездочкой), и некоторые термины (например, он одним из первых использовал термин «фонология», хотя, разумеется, еще не в современном его значении).
По-русски некоторые работы А. Шлейхера издавались еще при его жизни, однако в XX в. полностью не публиковались. Хорошо подобранные и вполне представительные отрывки из его работ представлены в хрестоматии В. А. Звегинцева, ч. 1.
Литература
Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, приложение «Очерк развития сравнительной грамматики». М., 1938.
Развитие гумбольдтовской традицииНесмотря на безусловное преобладание компаративной тематики в университетской науке о языке XIX в., существовали и ученые, в той или иной мере занимавшиеся и иной проблематикой, в том числе общетеоретической и типологической. Труды В. фон Гумбольдта породили достаточно влиятельную традицию в языкознании. Прежде всего это относилось к Германии, однако лингвисты, так или иначе ориентировавшиеся на гумбольдтовские идеи, работали и в других странах, в том числе в России. При этом надо иметь в виду, что общее изменение научной ситуации, проявившееся в идеях А. Шлейхера и других компаративистов, сказалось и на развитии гумбольдтовской традиции. Философия языка занимала все меньшее место, но сказывалось влияние биологических наук. Это влияние связывалось не только с дарвинизмом, но и со значительным развитием такой науки, как психология. С середины XIX в. эта наука из чисто умозрительной превратилась в экспериментальную, впервые была разработана методика психологического исследования. Прогресс психологии оказал влияние и на науку о языке.
Крупнейшим представителем гумбольдтовской традиции в Германии второй половины XIX в. был Хуго (Гуго) Штейнталь (1823–1899). Это был теоретик языка в чистом виде, занимавшийся обобщением фактов, собранных другими учеными. Он выдвинулся в 1855 г. публикацией книги «Грамматика, логика и психология, их принципы и взаимоотношения», позже появился другой его теоретический труд «Введение в психологию и языкознание». X. Штейнталь также занимался проблемой происхождения языка, развив звукоподражательную гипотезу. Он также известен как типолог. В изданной в 1860 г. книге «Характеристика важнейших типов строя языка» он развил стадиальную концепцию В. фон Гумбольдта; расширив количество учтенных языков и языковых типов, он предложил более сложную классификацию, сохранявшую однако традиционную идею о корреляции между степенью морфологической сложности языка и уровнем развития мышления соответствующего народа. В течение многих лет X. Штейнталь был профессором Берлинского университета.
В книге «Грамматика, логика и психология, их принципы и взаимоотношения» X. Штейнталь рассматривал общие вопросы языкознания. «Язык вообще» он определял как «выражение осознанных внутренних, психических и духовных движений, состояний и отношений посредством артикулированных звуков». Уже в этом определении мы видим психологический подход, почти не встречающийся у В. фон Гумбольдта.
X. Штейнталь рассматривал вопрос о том, «является ли языкознание познающей или оценивающей наукой». Как уже говорилось, все лингвистические традиции, включая европейскую, складывались в связи с понятием нормы, то есть были тесно связаны с оценкой; еще во времена «Грамматики Пор-Рояля» оценивающий подход не был строго отграничен от «познающего». Однако в XIX в. уже получило значительное развитие чисто теоретическое языкознание, не связанное с практикой и не допускающее никакой оценочности; прежде всего такой подход, безусловно, проявлялся в историческом и сравнительно-историческом исследовании. Поэтому в целом X. Штейнталь считает, что языкознание является познающей наукой: для него не существует таких проблем, как истинность или ложность высказывания, его красота или безобразие, нравственность или безнравственность его содержания и т. д. Даже проблема языковой правильности связана с языкознанием лишь косвенно.
Однако, по мнению X. Штейнталя, имеется одно исключение: «Языкознание принимает эстетический, оценивающий характер в дисциплине, которая является его очень существенной и неотъемлемой частью, а именно в систематизации или классификации языков. При этом оно не удовлетворяется объединением языков по найденным у них общим признакам в классы и семьи, но образует из этих классов шкалу, систему рангов. Следовательно, оно оценивает здесь значимость языков, достоинство их как продукт ума и в то же время как орудие умственного развития». Здесь X. Штейнталь прямо продолжал подход В. фон Гумбольдта. Однако ни одна из модификаций такого подхода не могла быть доказана. Любые стадиальные концепции были связаны с большим количеством натяжек, которые при усложнении концепции и попытках ее детализации, предпринятых X. Штейнталем, стали еще заметнее. Постепенно и типология стала рассматриваться исключительно как «познающая» дисциплина, не разграничивающая языки на более или менее развитые.
X. Штейнталь не принимал прямого уподобления языка организму и других упрощенно биологических ассоциаций. Для него язык был «индивидуальным духовным продуктом». В то же время, следуя В. фон Гумбольдту, он писал: «Основа этого единства и индивидуальности языков заложена в своеобразии народного духа». Понятие «духа народа» у X. Штейнталя еще оставалось, однако во многом оказывалось переосмысленным: вместо «человеческой духовной силы» и развивающейся абсолютной идеи у X. Штейнталя речь идет о коллективной психологии. Языкознание им понималось как «психология народов». Он также писал: «Языкознание служит наилучшим введением к психологии народов… Язык есть по своей сути продукт сообщества, народа. Когда мы называем язык инстинктивным самосознанием, инстинктивным мировоззрением и логикой, это означает, что язык является самосознанием, мировоззрением и логикой духа народа. Итак, данные языка наиболее ярко иллюстрируют все принципы психологии народов. Единство индивидов в народе отражается в общем для них языке; определенная индивидуальность духа народа нигде не выражается так ярко, как в своеобразной форме языка; его принцип, придающий ему своеобразную форму, является самым подлинным ядром духа народа; совместные действия индивидуума и его народа главным образом основываются на языке, на котором и с помощью которого он думает и который все же принадлежит его народу».
Наряду с «духом народа» X. Штейнталь сохранял и ряд других компонентов гумбольдтовской концепции, в том числе идеи о внутренней форме языка. Однако у него заметно по сравнению с В. фон Гумбольдтом как усиление психологизма, так и большее подчеркивание значения индивидуальной психики. Для В. фон Гумбольдта первичен был народ, дух которого проявляется в индивидуумах, для X. Штейнталя скорее первичен «индивидуальный продукт», который однако может существовать только в коллективе. Позже, в 20-е гг. XX в., в книге В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина «Марксизм и философия языка» идеи X. Штейнталя оценивались как «измельчание» гумбольдтовских. Общее развитие теоретической лингвистики XIX в. шло в сторону индивидуального психологизма, а то, что еще оставалось у X. Штейнталя от В. фон Гумбольдта: «дух народа», стадии, — к концу века совсем ушло из науки. К концу жизни X. Штейнталя волновавшая его проблематика: происхождение языка, стадиальная типология, — стала уже архаической.
Близкие по идеям ученые были и в России. Наиболее сходен с X. Штейнталем видный индолог и теоретик языка Иван Павлович Минаев (1840–1890), профессор Петербургского университета. Он провел несколько лет в экспедициях в Индии, занимался санскритом, первым в нашей стране изучал язык пали и бирманский язык, а также индийскую лингвистическую традицию, подготовил школу индологов. Наряду с этим И. П. Минаев в течение ряда лет читал в университете и общелингвистические курсы, один из которых сохранился в литографированном виде. Здесь наряду с индоевропейской проблематикой он занимался вопросами общей лингвистической теории и типологии, построил еще один вариант стадиальной классификации языков, сходный с вариантом X. Штейнталя, но обладающий рядом оригинальных черт. Сам И. П. Минаев разграничивал три способа классификации языков, выделяя генетические, морфологические и психологические классификации. Генетические устраняют «всякую субъективность», но их недостаточно. К морфологическим отнесены классификации А. Шлегеля, А. Шлейхера и др., где, по мнению И. П. Минаева, учитывается только языковая форма. Выше всего оцениваются «психологические» классификации В. фон Гумбольдта и X. Штейнталя, в которых учитывается «совершенство, с которым язык выражает мысль». Как и его предшественники, он исходит из эталона классических индоевропейских языков, считая, что чем язык по строю ближе к этим языкам, тем мысль выражается в нем совершеннее. Однако И. П. Минаев, как и В. фон Гумбольдт, вынужден был признать, что с этой точки зрения языки американских индейцев с достаточно сложной морфологией оказываются совершеннее китайского, хотя индейские языки бедны «общими понятиями», а уровень развития китайского языка виден уже из того, что на него перевели санскритские памятники. Тем самым принципы стадиальной типологии оказывались противоречивыми и бездоказательными. В то же время И. П. Минаев, владевший китайским материалом, одним из первых в мировой типологии отметил структурное сходство китайского языка с английским.
Вслед за В. фон Гумбольдтом И. П. Минаев считал, что «в каждом языке сказывается индивидуальность народа, создавшего язык, и в свою очередь развивающегося под его влиянием». Уже архаичные для 80-х гг. XIX в. и недоказуемые идеи о том, что, например, единобожие семитских народов обусловлено строем их языков, соседствуют с идеями, только начинавшими появляться в языкознании; см., например, выделение в качестве одного из законов языкового развития «стремления к облегчению от трудных звуков». Важно также его выделение наряду со сравнительно-историческим общего языкознания как дисциплины, изучающей принципы и методы науки о языке, необязательно исторические. Это было элементом новизны для того времени.
Другим, значительно более известным и влиятельным представителем гумбольдтовского направления в русской лингвистике был профессор Харьковского университета Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891). Он совмещал в себе философа, литературоведа, фольклориста и языковеда, среди его лингвистических работ есть исследования по сравнительно-историческому языкознанию, истории славянских языков, русской грамматике, а также по лингвистической теории. Свои общелингвистические взгляды он прежде всего выразил в ранней (1862) книге «Мысль и язык» и в многотомном исследовании «Из записок по русской грамматике», над которым автор работал долгое время. Сочинения А. А. Потебни неоднократно переиздавались и в XX в.
А. А. Потебня, особенно в книге «Мысль и язык», находился под значительным влиянием В. фон Гумбольдта, которого считал «гениальным провозвестником новой теории языка», правда, «не вполне освободившимся от оков старой». Вслед за В. фон Гумбольдтом он подчеркивал деятельностный характер языка: «Язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность». В то же время в отличие от X. Штейнталя и И. П. Минаева он отказывался от стадиальных концепций. А. А. Потебня прямо отвергал концепцию периодов в истории языка как в гумбольдтовском, так и в шлейхеровском варианте и не строил стадиальные схемы.
Переосмысление гумбольдтовских идей в книге «Мысль и язык» хорошо видно на примере понятия внутренней формы. Общее гумбольдтовское понятие внутренней формы языка суживается до более частного, но и более определенного понятия внутренней формы слова. А. А. Потебня пишет: «Слово, собственно, выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово стол значит только простланное». Внутренняя форма слова — то же, что его «ближайшее этимологическое значение», она может выводиться из его морфологической структуры, но может, как в случае стол — стлать, не быть связана с его (используя терминологию, которой еще нет у А. А. Потебни) морфемным членением в современном языке, однако у носителей языка ассоциативные связи еще как-то сохраняются. По мнению А. А. Потебни, «внутренняя форма слова… показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово, совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы разнородные». Здесь А. А. Потебня разграничивает то, что позднее получило название разграничения значения слова (денотата) и его смысла. Понятие внутренней формы в смысле А. А. Потебни получило широкое распространение в отечественной традиции.
В книге «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебня также во многом исходит из гумбольдтовской традиции: «Одного изолированного слова в действительности и не бывает. В ней есть только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, потому что их не имеет»; данное высказывание сопровождается ссылками на В. фон Гумбольдта и X. Штейнталя. В целом соглашался А. А. Потебня и с идеями о связи языка с «духом народа»: «Языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов».
В то же время если В. фон Гумбольдт подчеркивал неотделимость понятия от языка, то А. А. Потебня подходил к этому вопросу несколько иначе: «Слово не одним присутствием звуковой формы, но всем своим содержанием отлично от понятия и не может быть его эквивалентом или выражением уже потому, что в ходе развития мысли предшествует понятию». А. А. Потебня активно боролся с логическим подходом к языку: «Подчинение грамматики логике сказывается всегда в смешении и отождествлении таких явлений языка, которые окажутся различными, если приступить к наблюдению с одной предвзятой мыслью о том, что априорность в наблюдательных науках, каково языкознание, весьма опасна». «Языкознание, в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук». Одно из отличий языкознания от логики он видел в том, что первое — историческая наука, а логика лишь «оценивает результаты совершившегося процесса».
Как и другие ученые второй половины XIX в., А. А. Потебня в своей концепции подчеркнуто психологичен. Большое внимание в книге «Из записок по русской грамматике» уделяется вопросу об ассоциативных связях между звучанием и значением слова, в частности, на материале образования новых слов в связи с теми или иными ассоциациями в детской речи.
В этой же книге вводится важное разграничение «ближайшего» и «дальнейшего» значения слова. Само по себе значение слова неисчерпаемо, но эта неисчерпаемость относится к дальнейшему значению, связанному как с научной, энциклопедической информацией, так и с индивидуальными ассоциациями, разными у разных носителей языка. Ведению языкознания подлежит лишь ближайшее значение, которое «народно», то есть совпадает у разных носителей одного и того же языка; «только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова».
Все ближайшее значение слова формально в том смысле, что оно стандартно для всех. В то же время оно делится (не во всех языках) на вещественное (лексическое) и грамматическое, соответственно менее и более формальное. А. А. Потебня выделяет носители формального, грамматического значения: служебные слова и формальные части слов (аффиксы). В связи с этим дается определение грамматической формы; это «есть элемент значения слова», однородный с его вещественным значением. При этом для исходящего из последовательно психологической точки зрения ученого важно, что «слово формальных языков представляется сознанию одним целым», следовательно, «вещественное и формальное значение слова составляют… один акт мысли» (под формальными языками понимаются языки типа русского, имеющие словоизменение). Идущее от А. А. Потебни учение о грамматической форме занимало и продолжает занимать важное место в отечественной грамматической традиции. А. А. Потебня также занимался изучением исторического развития грамматических форм, стремился выявить его общие закономерности.
Подробно рассмотрена в книге проблема слова и корня. А. А. Потебня считал, что «только слово имеет в языке объективное бытие», корень же вычленяется из слова лингвистом в результате «выделения из слова всех остальных знаменательных сочетаний» и «устранения звуковых случайностей»; здесь его точка зрения несколько отличалась от точки зрения В. фон Гумбольдта, признававшего в определенных пределах «объективное бытие» корня. «Корень как отвлечение» необходимо отграничивать от «корня как настоящего слова» в тех случаях, когда границы слова и корня совпадают. Много занимался А. А. Потебня проблемами исторического развития слов, их превращения в корни.
А. А. Потебня писал в эпоху, когда в отечественной традиции еще до конца не сложилась лингвистическая терминология, поэтому его стиль может показаться современному читателю излишне затрудненным и недостаточно строгим. В то же время именно от него идут многие термины, затем прижившиеся в русскоязычной традиции («внутренняя форма слова», «вещественное значение» и т. д.). А. А. Потебня был первым по-настоящему значительным языковедом-теоретиком в нашей стране, и его концепция оказала заметное влияние на многих ученых, даже тех, которые, казалось бы, по идеям достаточно от него далеки. Однако в большей степени его влияние сказывалось в более конкретных областях русистики и теории грамматики, а общие гумбольдтианские идеи большого развития не получили.
Развитие гумбольдтовской традиции продолжалось и в конце XIX в. и начале XX в., когда в целом в мировой науке господствовала позитивистская, прежде всего младограмматическая лингвистика, о которой будет говориться в следующей главе. Основным направлением, стремившимся продолжать традиции В. фон Гумбольдта в этот период, была так называемая школа эстетического идеализма в Германии, основателем и крупнейшим представителем которой был Карл Фосслер (1872–1949), следует также упомянуть его ученика Лео Шпитцера (1887–1960). Представители школы в основном были специалистами по романскому языкознанию, их конкретные исследования в большинстве посвящены исторической стилистике и изучению языка писателей. Близкие к эстетическому идеализму идеи высказывал также популярный в свое время итальянский философ (в том числе философ языка) Бенедетто Кроче (1866–1952).
Работы К. Фосслера переводились на русский язык еще в дореволюционное время. В хрестоматию В. А. Звегинцева включены отрывки из его программного труда «Позитивизм и идеализм в языкознании», изданного в 1904 г.
Как и другие ученые того времени, К. Фосслер продолжал рассматривать языкознание как историческую науку. В то же время он причислял себя к идеализму в языкознании, противопоставленному преобладавшему позитивизму. Согласно его разграничению, позитивисты «определяют в качестве предварительной и ближайшей цели исследования точное описание наличных фактов, знание „материала“, тогда как идеалисты „озабочены установлением причинной связи“.» Разумеется, К. Фосслер признавал необходимость описания фактов, но считал, что ученый не может ограничиваться им. Крупные проблемы, которые ставили В. фон Гумбольдт и его современники, уже не интересовавшие ученых конца XIX в., не должны быть, по мнению основателя эстетического идеализма, исключены из языкознания. Однако и сам К. Фосслер уже отошел от многих проблем, отходивших к этому времени на дальнюю периферию языкознания: происхождения языка, стадий, языка и мышления и т. д. Среди общих проблем, ставившихся В. фон Гумбольдтом, его прежде всего интересовали проблемы причин языкового развития и творческого характера языка.
Противопоставление ergon — energeia К. Фосслер рассматривает с тех же позиций, что В. фон Гумбольдт, критикуя иной подход в позитивистской науке: «Язык изучают не в процессе его становления, а в его состоянии. Его рассматривают как нечто данное и завершенное, т. е. позитивистски. Над ним производят анатомическую операцию. Живая речь разлагается на предложения, члены предложения, слова, слоги и звуки». К. Фосслер не отрицал допустимость в известных пределах такого разложения, но при условии, что оно — лишь удобный рабочий прием, но не принципиальный подход лингвистики к своему объекту: «Подразделение грамматиков на звуки, слова, основы, суффиксы и т. д. мы должны признать не наиболее естественным, а наиболее удобным и поучительным». Такой подход он сопоставляет с анатомическим исследованием человека, которое дает полезную информацию, но не может познать душу и назначение человека.
По мнению К. Фосслера, нельзя считать, что звуки конструируют слоги, слоги — слова, и т. д., пока не получится речь; это «ложная причинная связь». «В действительности имеет место причинность обратного порядка: дух, живущий в речи, конструирует предложение, члены предложения, слова и звуки — все вместе». Такое понимание требует и иного по сравнению с традиционным порядка лингвистического исследования: «Необходимо… исходя из стилистики, через синтаксис, нисходить к морфологии и фонетике». Далее К. Фосслер пишет: «Все явления, относящиеся к дисциплинам низшего разряда — фонетике, морфологии, словообразованию и синтаксису, — будучи зафиксированы и описаны, должны находить свое конечное, единственное и истинное истолкование в высшей дисциплине — стилистике. Так называемая грамматика должна полностью раствориться в эстетическом рассмотрении языка».
К. Фосслер употребляет такие словосочетания, как «дух языка», «духовное своеобразие того или иного народа». Однако его концепция во многом отлична от гумбольдтовской. Если для В. фон Гумбольдта народ первичен по отношению к индивидууму, если для X. Штейнталя еще сохраняется единый «дух народа» как коллективная психология, то К. Фосслер последовательно исходил из первичности индивидуальности, сближаясь в этом отношении с современной ему позитивистской лингвистикой. Причина языкового развития, с его точки зрения, «человеческий дух с его неистощимой индивидуальной интуицией». Только у отдельного индивидуума происходят языковые изменения, которые затем могут быть приняты другими индивидуумами и стать стандартными. Поэтому в лингвистическом исследовании сначала должна идти стилистика, изучающая индивидуальное творчество, а затем синтаксис, рассматривающий ту часть творчества, которая стала правилом. Само синтаксическое правило становится правилом лишь в случае, если оно «соответствует духовным потребностям и тенденциям большинства говорящих индивидуумов». Только в'таком смысле можно говорить о «духе народа», который складывается из множества индивидуальных духов и в какой-то мере имеет статистический характер: К. Фосслер прямо связывает частотность того или иного явления с упомянутым выше соответствием духовным потребностям большинства носителей.
Стилистика в указанном выше смысле, согласно К. Фосслеру, первична: «По своей сущности любое языковое выражение является индивидуальным духовным творчеством. Для выражения внутренней интуиции всегда существует только одна-единственная форма. Сколько индивидуумов, столько стилей». Поэтому язык или диалект вообще — лишь условная абстракция, а «языковой общности диалектов и т. п. в действительности вообще не существует». «Если люди в состоянии посредством языка общаться друг с другом, то происходит это не в результате общности языковых установлений, или языкового материала, или строя языка, а благодаря общности языковой одаренности… Язык не может быть в буквальном смысле слова изучен, он может быть, как говорил Вильгельм фон Гумбрльдт, только „разбужен“. Воспроизводить чью-то речь — дело попугаев». Из этих слов буквально следует, что вообще лингвист может изучать только собственную речь, а потом по аналогии переносить результаты такого изучения на речь других; это однако противоречит другим высказываниям К. Фосслера о необходимости исследования индивидуальных стилей.
Изучение всех индивидуальных стилей — нереальная задача, поэтому среди них выделяются наиболее социально значимые, оказавшие наибольшее влияние на языковое развитие. Закономерно школа эстетического идеализма обращалась к языкам писателей, рассматривая проблемы, находящиеся на грани лингвистики и литературоведения, обычно не привлекавшие большого внимания лингвистов иных направлений. Это было одной из причин определенной популярности данной школы в первые десятилетия XX в.
На первый план К. Фосслер и его школа выдвигали творческий, эстетический характер языка. Развитие языка, отбор индивидуальных новшеств в значительной степени они связывали с эстетическими критериями. Творчество, которое всегда индивидуально, они отграничивали от языкового развития, имеющего коллективный характер и зависящего от «общей духовной предрасположенности» носителей того или иного языка. Поэтому в конечном итоге К. Фосслер несколько уточняет свой последовательно индивидуалистический подход и выделяет «два различных момента, в соответствии с которыми следует наблюдать язык, и, следовательно, определять его: 1. Момент абсолютного прогресса, или свободного индивидуального творчества. 2. Момент относительного прогресса, или так называемого закономерного развития и взаимообусловленного коллективного творчества». Изучение первого момента — чисто эстетическое и не предполагает исторического рассмотрения, изучение второго момента является эстетико-историческим. При этом он подчеркивает, что в его понимании эстетическое и историческое не противопоставляются друг другу, они соотносятся примерно так же, как описательная и историческая грамматики в позитивистской науке.
Школа К. Фосслера довольно долго сохраняла популярность и воспринималась рядом лингвистов как альтернатива традиционному сравнительно-историческому языкознанию. Она не перестала быть влиятельной даже после появления структурализма. Многим ее идеям, в частности, следовали авторы вышедшей в 1929 г. в Ленинграде книги «Марксизм и философия языка», о которой будет говориться ниже, В. Н. Волошинов и М. М. Бахтин. В целом однако с 30—40-х гг. XX в. идеи эстетического идеализма, во многом исходившего из априорных, недоказуемых постулатов, потеряли популярность, хотя сама школа просуществовала до середины века. Тем не менее гумбольдтовская традиция не исчезла из науки. Особенно сильна она была в Германии, где с 20—30-х гг. на смену эстетическому идеализму пришло новое направление — неогумбольдтианство (Й. Трир, Л. Вайсгербер). Однако по-настоящему активное возрождения ряда гумбольдтовских идей началось с 60-х гг. с возникновением генеративной лингвистики.
Литература
Булаховский Л. А. Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952.
Звегинцев В. А. Предисловие к разделу «Психологизм в языкознании» // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях, ч. 1. М., 1964.
Бахтин под маской. Маска третья // Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М., 1993, с. 55–57,102–104.
МладограмматизмС 70-х гг. XIX в. развитие мирового, прежде всего европейского языкознания вступает в новый этап. К этому времени период глобальных философских систем и стремлений к широким обобщениям окончательно ушел в прошлое. И в естественных, и в общественных науках преобладающей доктриной стал позитивизм. Учение позитивизма впервые было сформулировано французским ученым О. Контом в 20 — 30-е гг. XIX в., но его господство в европейской науке стало явным во второй половине века и в основном продолжалось до Первой мировой войны.
Позитивизм отказывался от рассмотрения «вечных вопросов» философии и науки, не подкрепленных фактическим материалом. Задача ученого сводилась к наблюдению, регистрации и первичному обобщению фактов, все остальное признавалось «метафизикой» и изгонялось из науки. Во многих науках наступила пора отказа от обобщений, но в то же время интенсивно накапливались факты, ставились эксперименты, развивалась исследовательская методика.
Это произошло и в языкознании. В позитивизме не было места ненаблюдаемым явлениям и не подтвержденным фактами концепциям. Широкие обобщения, свойственные В. фон Гумбольдту и его современникам и еще сохранявшиеся у А. Шлейхера и X. Штейнталя, не находили отзвука у следующего поколения ученых. Окончательно ушли в прошлое идеи «духа народа», отзвуки которых еще заметны у А. Шлейхера. Характерно и вытеснение из науки проблем происхождения языка и стадиальности как «метафизических». В это время Французская академия отказывается вообще принимать к рассмотрению работы, касающиеся происхождения языка и универсальных всемирных языков. Стадиальное развитие от «аморфных» языков к флективным плохо подтверждалось фактами, но вместо него вообще ничего не было предложено. После X. Штейнталя типология, ассоциировавшаяся со стадиальностью, на полвека перестает развиваться, возродит ее лишь Э. Сепир в 20-е гг. XX в. Всякая классификация языков, кроме генетической, считалась в эпоху позитивизма «ненаучной».
При отходе от обобщений новое поколение языковедов сохранило от прошлого представление о своей науке как исторической, по-прежнему сравнительно-исторический метод оставался преобладающим. Сравнение фактов родственных языков и реконструкция праформ продолжали считаться главной задачей лингвиста, хотя восстановление индоевропейского праязыка уже не было для нового поколения столь самодовлеющей задачей, как это было для А. Шлейхера, и никто уже не пытался сочинять на нем тексты. Ученые ограничивались задачей рассмотрения отдельных исторических фактов. В то же время возросла точность и четкость реконструкций, сравнительно-исторический метод, сформированный его основателями лишь в общих чертах, был доведен до логической завершенности.
Ученые конца XIX в. обычно не замыкались в рамках лингвистики, комплексность исследований скорее возросла. Именно тогда сложилось сотрудничество историков языка с историками и археологами. На науку о языке продолжала влиять психология, которая в это время интенсивно развивалась. Во второй половине XIX в. сложилась экспериментальная фонетика — дисциплина, находящаяся на стыке лингвистики, акустики и физиологии и в то время почти не связанная с основным направлением исторических исследований в языкознании. Но и экспериментальная фонетика хорошо укладывалась в рамки позитивизма: фонетисты ограничивались регистрацией фактов, а для их теоретического осмысления, которое будет сделано в фонологии, еще не пришло время.
Ведущим лингвистическим направлением тех лет, наиболее полно отразившим преобладавшие идеи своего времени, стала школа немецких ученых, получившая название младограмматиков; это название первоначально было придумано и пущено в ход их противниками, но затем закрепилось и его приняли сами представители школы. Ведущими младограмматиками были Август Лескин (1840–1916), Герман Ост-хоф (1847–1909), Карл Бругман (1849–1919), Герман Пауль (1846–1921), Бертольд Дельбрюк (1842–1922). Все они выдвинулись в 70-е гг.
XIX в., первоначальным центром младограмматизма был Лейпцигский университет, затем ученые этого направления разъехались по разным немецким университетам, создавая там собственные школы. Поначалу младограмматикам приходилось бороться с компаративистами более старой школы, но постепенно их идеи стали преобладающими в германской, а затем и в мировой науке о языке (весь XIX в. и начало XX в. языкознание во многом считалось «немецкой наукой»). Младограмматизм господствовал с 70—80-х гг. до 1910-х гг. включительно, хотя, как будет показано ниже, не все ученые разделяли его концепцию. Таким ученым часто просто бывало трудно работать, как это было с Ф. де Соссюром.
Впервые теоретические взгляды младограмматиков были четко сформулированы в книге Г. Остхофа и К. Бругмана «Морфологические исследования в области индоевропейских языков», вышедшей в Лейпциге в 1878 г., и особенно в предисловии к ней, получившем название «Манифеста младограмматизма»; предисловие в русском переводе включено в хрестоматию В. А. Звегинцева. К моменту его издания младограмматики были хоти и молодыми, но уже известными компаративистами, получившими ряд значительных конкретных результатов.
«Манифест» целиком полемичен по отношению как к прямым последователям Ф. Боппа, так и к уже покойному тогда А. Шлейхеру. У последнего его авторы не принимали как стадиальные идеи и не подкрепленный фактами тезис об «упадке» всех языков на поздних этапах развития, так и излишний уклон в «доисторию» и в реконструкцию индоевропейского праязыка. Они писали: «Реконструкция индоевропейского языка-основы была до сих пор главной целью и средоточием усилий всего сравнительного языкознания. Следствием этого явился тот факт, что во всех исследованиях внимание было постоянно направлено в сторону праязыка. Внутри отдельных языков, развитие которых известно нам по письменным памятникам… интересовались почти исключительно древнейшими, наиболее близкими к праязыку периодами… Более поздние периоды развития языков рассматривались с известным пренебрежением, как эпохи упадка, разрушения, старения, а их данные по возможности не принимались во внимание… Сравнительное языкознание получало общие представления о жизни языков, их развитии и преобразовании главным образом с помощью индоевропейских праформ. Но… разве достоверность, научная вероятность тех индоевропейских праформ, являющихся, конечно, чисто гипотетическими образованиями, зависит прежде всего не от того, согласуются ли они вообще с правильным представлением о дальнейшем развитии форм языка и были ли соблюдены при их реконструкции верные методические принципы?.. Мы должны намечать общую картину характера развития языковых форм не на материале гипотетических праязыковых образований и не на материале древнейших дошедших до нас индийских, иранских, греческих и т. д. форм, предыстория которых всегда выясняется только с помощью гипотез и реконструкций. Согласно принципу, по которому следует исходить из известного и от него уже переходить к неизвестному, эту задачу надо разрешать на материале таких фактов развития языков, история которых может быть прослежена с помощью памятников на большом отрезке времени и исходный пункт которых нам непосредственно известен».
Г. Остхоф и К. Бругман призывали не ограничиваться только анализом письменных памятников. Они писали о необходимости учета материала современных языков, особенно диалектов и говоров: «Во всех живых народных говорах свойственные диалекту звуковые формы проводятся через весь языковой материал и соблюдаются членами языкового коллектива в речи куда более последовательно, чем это можно ожидать от изучения древних, доступных только через посредство письменности языков; эта последовательность часто распространяется на тончайшие оттенки звуков».
Из всего сказанного авторы «Манифеста» делали вывод о том, что необходимо покинуть «душную, полную туманных гипотез атмосферу мастерской, где куются индоевропейские праформы», и выйти «на свежий воздух осязаемой действительности и современности». Резкая критика предшественников однако означала не разрыв с традицией, а уточнение и развитие ее. Сосредоточение на праязыке, видимо, необходимое на определенном этапе, они призывали заменить более равномерным распределением внимания между различными этапами языковой истории. В рамках младограмматизма и в конце XIX — начале XX вв., и позже выходили фундаментальные описания истории тех или иных языков, прослеживаемой на основе памятников разных эпох. Что же касается изучения живых языков и диалектов, то это вовсе не означало у младограмматиков интереса ни к ним самим по себе, ни к их общим структурным закономерностям. Их изучение лишь дополняло анализ письменных памятников, позволяя обнаружить те или иные реликты древних явлений, найти слова и формы, по каким-либо причинам не зафиксированные в памятниках, и довести компендиумы по истории языков до современности. Кстати, к изучению живых диалектов для этих целей прибегал и А. Шлейхер. «Мастерская, где куются индоевропейские праформы», продолжала работать, был лишь расширен применяемый материал. И в области индоевропейских реконструкций именно мдадограмматики в основном завершили начатую А. Шлейхером работу.
Еще меньше реальных последствий имело другое, само по себе вполне справедливое обвинение Г. Остхофа и К. Бругмана по адресу своих предшественников: «С исключительным рвением исследовали языки, но слишком мало — говорящего человека». Авторы «Манифеста» призывали изучать психофизический механизм человека. Однако и сами младограмматики, за исключением отчасти Г. Пауля, мало обращали внимания на эти проблемы. Заветы В. фон Гумбольдта, иногда принимавшиеся ими в теории, почти не оказывали влияния на их практику.
Главным теоретическим положением, в связи с которым «Манифест» Г. Остхофа и К. Бругмана получил широкую известность, стало сформулированное ими определение лингвистического закона. Данное понятие имелось и у А. Шлейхера, но младограмматики сформулировали его по-иному, очистив от стадиальности и слишком прямолинейного биологизма.
Первым из двух главных методических принципов младограмматизма Г. Остхоф и К. Бругман объявили следующий: «Каждое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, не знающим исключений, т. е. направление, в котором происходит изменение звука, всегда одно и то же у всех членов языкового сообщества, кроме случаев Диалектного дробления, и все без исключения слова, в которых подверженный фонетическому изменению звук находится в одинаковых условиях, участвуют в этом процессе». Далее говорится: «Только тот, кто строго учитывает действие звуковых законов, на понятии которых зиждется вся наша наука, находится на твердой почве в своих исследованиях. Напротив, тот, кто без всякой нужды, только для удовлетворения известных прихотей, допускает исключения из господствующих в каком-либо диалекте звуковых законов… — тот с необходимостью впадает в субъективизм и руководствуется произвольными соображениями… То обстоятельство, что „младограмматическое“ направление сегодня еще не в состоянии объяснить все „исключения“ из звуковых законов, естественно, не может служить основанием для возражения против его принципов».
Понятие языкового закона младограмматики относили к весьма узкому кругу явлений. Как и их предшественники, они понимали законы только как законы исторического развития языка, но если для А. Шлейхера задачей лингвиста было выявление общих закономерностей развития языков, изменения строя и т. д., то младограмматики все сводили к узкой, но в то же время четко определимой задаче — выявлению того, как проходили звуковые изменения, на материале письменных памятников и, там, где это возможно, современных диалектов. Иногда в рамках младограмматизма (в частности, в «Принципах истории языка» Г. Пауля) ставились и вопросы о закономерностях синтаксических и семантических изменений (в области семантики это расширение, сужение значений, метафорический, метонимический перенос и т. д.), однако в этих областях гораздо труднее было выделять «законы, не знающие исключений», и само понятие закона здесь многими избегалось. В самом «Манифесте» говорится только о звуковых законах.
Понятие звукового закона обобщало и вводило в четкие рамки уже существовавшую на практике методику сравнительно-исторического исследования. Само по себе сопоставление фонетики и морфологии тех или иных языков и даже установление регулярных соответствий еще не давало возможности определенно говорить о языковом родстве. Надо было выявленные регулярности объяснить в рамках некоторой гипотезы о историческом развитии от языка-предка к языку-потомку. Важнейшим компонентом такой гипотезы было представление о том, что некоторый звук (фактически фонема) языка-предка переходил в некоторый звук языка-потомка либо всегда вообще, либо всегда в определенной позиции (в начале или конце слова, в соседстве с тем или иным звуков); частный случай изменения — сохранение в прежнем виде. Компаративисты-дилетанты и компаративисты эпохи Ф. Боппа пренебрегали такими строгими закономерностями; не владевшему компаративной методикой Н. Я. Марру один из его критиков говорил: «У Вас все звуки переходят во все звуки». Понятие же звукового закона позволяло сделать компаративистику действительно точной наукой и проверять ее результаты.
В то же время понятие о не имеющем исключений законе, будучи в методологическом отношении большим шагом вперед, явно не согласовывалось с реальностью: у всех законов, найденных и до младограмматиков, и самими младограмматиками, оказывались те или иные исключения, нередко сугубо индивидуальные. Сами Г. Остхоф и К. Бругман это осознавали, и поэтому свой первый методический принцип они дополнили вторым: принципом аналогии. Речь шла о звуковых изменениях в отдельных словах или грамматических формах под влиянием других слов или форм (ср. понятие аналогии у античных ученых). Классический пример аналогии: начальный взрывной в русском девять и соответствующих числительных других славянских языков. В других индоевропейских языках (ср. известные западные языки) здесь носовой звук, и наличие взрывного можно объяснить лишь аналогией с десять. Столь важное значение, которое Г. Остхоф и К. Бругман придавали изменениям по аналогии, связано прежде всего с тем, что они пытались найти универсальный принцип, объясняющий очевидные исключения из «не знающих исключений законов».
Однако далеко не все исключения можно было объяснить аналогией. Сами Г. Остхоф и К. Бругман упоминали и еще один «возмущающий фактор»: «диссимиляции и перестановки звуков (метатезы)», являющиеся «физическим отражением чисто психического явления». Они считали, что такие явления «никоим образом не уничтожают понятия языкового закона», но «возмущающих факторов» оказывалось все больше. Как мы увидим дальше, именно слишком строгое понимание звукового закона стало главным объектом критики младограмматиков со стороны их так называемых «диссидентов».
Уже спустя несколько лет сами младограмматики вынуждены были пересмотреть свою слишком категоричную формулировку. Со значительными оговорками писали о звуковых законах и Г. Пауль в книге, о которой речь пойдет ниже, и в еще большей степени Б. Дельбрюк в книге «Введение в изучение индоевропейских языков», ставшей последней по времени крупной обобщающей работой младограмматиков. Здесь Б. Дельбрюк во многом соглашался с критикой «Манифеста» X. Шухардтом и прямо предостерегал против отождествления фонетических законов с законами в физике или химии. Итоговый взгляд младограмматиков на фонетические законы он формулировал так: «Отрицательный ответ должен быть дан на особенно привлекательный для дилетанта вопрос о том, доказано ли отсутствие исключений из фонетических законов на фактическом материале по отношению к какому-нибудь одному языку. Ничего другого нельзя ожидать по отношению к историческим законам. Их применимость ко всем случаям не может быть доказана опытом; следует ограничиться собиранием доказательств, оставляя не поддающийся объяснению материал для будущего исследования. Но на основании единичных необъясненных случаев нельзя делать вывод о недействительности всего закона в целом».
Иными словами, положение о законах, не имеющих исключений, — это некоторое априорное методическое правило, позволяющее лингвисту работать, вовсе не обязательно соответствующее действительности на сто процентов. Компаративист должен исходить из этого правила как из идеала и объяснять все звуковые переходы на его основе, насколько это возможно. И лишь абсолютно не поддающиеся никаким правилам исключения приходится объяснять особым образом. При этом и Б. Дельбрюк считал основным принципом, нарушающим действие законов, принцип аналогии. Такой подход, как бы его иногда ни критиковали с разных позиций, и поныне остается незыблемым методическим правилом компаративистики, нарушать которое могут лишь дилетанты.
В целом младограмматики редко выходили за пределы конкретного компаративного анализа, и при значительном количестве их публикаций они написали мало работ общетеоретического характера. Главной книгой, обобщившей общелингвистические идеи данной школы, стала книга Г. Пауля «Принципы истории языка», впервые вышедшая в 1880 г. и позже при переизданиях перерабатывавшаяся автором, последний раз в 1909 г. В 1960 г. труд Г. Пауля был издан в Москве на русском языке.
В книге четко выражены основные черты концепции младограмматиков: подчеркнутый историзм, индивидуальный психологизм, эмпиризм и индуктивизм, отказ от рассмотрения слишком широких и общих вопросов.
Книга начинается фразой: «Как и всякий продукт человеческой культуры, язык — предмет исторического исследования». Историзм как непременное условие любой гуманитарной науки для Г. Пауля — постулат, не требующий доказательств. В то же время он подчеркивает, что помимо истории конкретного языка должна существовать «особая наука, изучающая общие условия жизни исторически развивающегося объекта и исследующая сущность и действеннность факторов, равномерно представленных во всех изменениях». То есть речь идет об общем языкознании. Можно видеть, что в данной формулировке общее языкознание понимается не только как историческая, но и как эмпирическая и чисто индуктивная наука. Сам Г. Пауль уточняет свой подход: «Нет никаких оснований противопоставлять этот общий раздел языкознания историческому как эмпирическому. Один из них столь же эмпиричен, как и другой». Все общие положения выводятся только из наблюдаемых фактов (прямо из них или косвенно через реконструируемые факты).
Всю науку о языке Г. Пауль делил на описательную грамматику и историческую грамматику (термин «грамматика» здесь используется еще в его старом, античном значении, покрывая лингвистику вообще); сравнительная грамматика рассматривается как часть исторической. Указано, что «историческая грамматика произошла от старой, чисто описательной, грамматики и многое от нее унаследовала». «Описательная грамматика регистрирует все грамматические формы и правила, употребительные в данной языковой общности… Содержание такой грамматики составляют не факты, а лишь абстракции, извлеченные из наблюдаемых фактов. Для различных периодов в развитии данной общности эти абстракции окажутся различными. Сравнение их показывает, что в языке произошли перемены». Может показаться, что «описательная грамматика» — то же самое, что после Ф. де Соссюра получило название синхронной лингвистики. Это верно с точки зрения объекта, но не с точки зрения места в составе науки о языке. Г. Пауль признает, что историку языка, «конечно, не миновать описания состояний», но для него это лишь «прочная основа для исторических изысканий». Какой-либо собственной ценности описательная грамматика не имеет, сам термин показывает, что она лишь «регистрирует» то, что имеется в языке, ничего не объясняя. И не удивительно, что при таком подходе языковеды обычно уступали по крайней мере описания современных языков непрофессионалам.
Впрочем, и сам ученый в своей книге нередко обращается к вопросам, непосредственно не связанным с языковой историей, при этом не всегда ограничиваясь чистым описанием фактов. Особенно хорошо это видно в разделах, посвященных морфологии, где автор обращается к рассмотрению «вечных» вопросов грамматики. Целая глава «Классификация частей речи» вполне синхронна и посвящена рассмотрению традиционных (обычно восходящих к временам господства «описательной грамматики») классификаций частей речи, выработке критериев для их выделения и изучению свойств тех или иных разрядов слов в разных языках, прежде всего в латинском и немецком. В разделе же о словообразовании четко разграничивается синхронная деривация в современном немецком языке и деривация, происходившая в ходе его исторического развития.
Однако реальный отход от общего принципа историзма в некоторых разделах книги совмещается с очень последовательным его проведением в теории: «То, что понимают под историческим и все же научным рассмотрением языка, есть по сути дела также историческое, но не совершенное изучение языка — несовершенное отчасти по вине исследователя, отчасти же в силу особенностей изучаемого материала. Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории, хотя, может быть, он и не отдает себе ясного отчета в этом». Историзм необходим, по мнению Г. Пауля, даже в том случае, когда исследователь прямо не занимается историей, но выходит за рамки чистой регистрации фактов: скажем, изучение чередований или выявление внутренней формы слова требует объяснения того, как они получились.
Говоря об общих закономерностях развития языков, Г. Пауль, как и другие младограмматики, исходил из индивидуального психологизма. Психологические концепции языка, как отмечалось выше, начали складываться у ученых, находившихся в русле гумбольдтовской традиции, однако к концу XIX в. они уже господствовали в языкознании вообще. Отказавшись от «метафизических понятий» вроде «духа языка» и «духа народа», еще встречающихся у А. Шлейхера, младограмматики не могли найти никакой теоретической опоры, кроме как в психологизме.
Отказ от «духа народа» и прочих априорных объяснений коллективного характера языка привел Г. Пауля к абсолютизации индивидуального в языке: «Мы должны признать, собственно говоря, что на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов». Все остальное — лишь абстракция лингвиста: «Когда мы объединяем языки множества индивидов в одну группу и противопоставляем ей языки других индивидов… то при этом мы всегда отвлекаемся от одних различий и принимаем в расчет другие. Здесь есть где разгуляться произволу». При этом, впрочем, он признается: «Общение — вот единственно то, что порождает язык индивида».
Только язык индивида — реальность, и реальность эта психическая: «Говоря о языке отдельного индивида, мы до тех пор имеем дело не с конкретной сущностью, а с абстракцией, пока не разумеем под этим совокупность заключенных в душе групп представлений, относящихся к речевой деятельности, во всем многообразии их отношений».
Г. Пауль указывал: «Все языковые средства, используемые говорящими, и, можно сказать, даже кое-что сверх того, чем он пользуется в обычных условиях, хранятся в сфере бессознательного в виде сложнейшего психического образования, состоящего из разнообразных сцеплений групп представлений… Они (группы — В. А.) являются следствием всего того, что появлялось ранее в сознании при слушании других и в процессе собственного говорения и мышления с помощью форм языка. Они обусловливают возможность повторного появления в сознании, при наличии благоприятных условий, того, что некогда в нем уже было, а следовательно, также возможность понимания того, что ранее понималось или произносилось». Первостепенное значение Г. Пауль отводил принципу ассоциации: «Представления следующих друг за другом звуков ассоциируются с совершаемыми друг за другом движениями органов речи в целостный ряд. Звуковые ряды и ряды артикуляций ассоциируются между собой. С этими рядами в свою очередь ассоциируются представления, для которых они служат символами, — притом не только представления синтаксических отношений: не только отдельные слова, но и большие звуковые ряды, целые предложения непосредственно ассоциируются с заключенным в них мыслительным содержанием». Каждая языковая единица, каждое наблюдаемое языковое явление имеют свой психический коррелят, и все связывается друг с другом через ассоциации.
Как подчеркивает Г. Пауль, этот психический механизм не находится в статике и непрерывно изменяется: «Психический организм, образуемый всеми этими группами представлений, находится у каждого индивида в состоянии непрестанного изменения. Так, всякий элемент психического организма все более теряет в силе, не будучи поддержан новыми впечатлениями или повторным появлением в сознании. К тому же с каждым новым актом говорения, слушания и мысли к данному содержанию прибавляется нечто новое… Наконец, вследствие ослабления и усиления старых элементов, как и появления новых, в организме имеет место смещение отношений между ассоциациями». Тем самым рассмотрение языка индивида (а следовательно, и языка вообще) в статике — лишь абстракция, этот язык все время меняется, хотя какие-то изменения могут быть и незаметны. Эти изменения эволюционны и непрерывны, никаких дискретных скачков быть не может.
Само историческое развитие проходит лишь внутри психических организмов, изменение речи или языка — лишь метафора. Но меняется языковой узус. Языковые изменения в индивидуальной психике происходят не только по внутренним, но и по внешним причинам, та или иная инновация может происходить и в связи с тем, что она происходит у других людей. Изменение принятого в языковом коллективе узуса происходит в результате взаимодействия двух этих моментов. При этом значительнее всего узус меняется тогда, когда ребенок учится языку. «В результате накопления в отдельных организмах ряда подобных сдвигов, идущих в одном направлении, образуется в общем итоге сдвиг в узусе. То, что первоначально было лишь индивидуальным отклонением, составляет теперь новый узус, который при известных обстоятельствах вытесняет старый. Одновременно совершается множество сходных сдвигов в отдельных организмах, которые не находят подобного отражения в узусе в силу того, что они не подкрепляют друг друга». Итак, считая единственной реальностью индивидуальную психику, Г. Пауль затем переходит к коллективным процессам через введение строго не определяемого понятия узуса. Фактически предметом исследования историка языка оказывается не индивидуальное развитие психических организмов, а изменения в узусе. Тем самым он не мог преодолеть противоречие между индивидуальным и коллективным в языке, это противоречие оказалось возможным снять лишь введением разграничения языка и речи у Ф. де Соссюра.
Изменения, как в индивидуальной психике, так и в узусе, обычно происходят, согласно Г. Паулю, бессознательно. Он не отрицал возможности сознательного вмешательства в узус, отмечая установление грамматистами языковых норм, разработку терминологии и даже «прихоть монарха». Однако он указывал: «Роль такого произвольного установления бесконечно мала сравнительно с медленными, непроизвольными и бессознательными изменениями, которым непрестанно подвержен языковой узус». Еще более жестко об этом писал Б. Дельбрюк в упомянутой выше книге: «Изменения в значительно большей своей части зависят от известных производящих общее действие причин, над которыми отдельный человек не имеет никакой власти… Едва ли можно предполагать, что отдельному индивидууму удастся провести такие изменения, которые противоречат направлению развития, замечаемому у остальных звуковых изменений. Наверное, можно считать несомненным то, что все (или почти все) эти акты совершаются бессознательно». Такая точка зрения в еще более крайней форме была развита Ф. де Соссюром, ср. иной подход у И. А. Бодуэна де Куртенэ.
Говоря о методике лингвистического исследования, Г. Пауль наряду с обычными для компаративиста методами работы особо выделял роль интроспекции, игравшей неосознанно значительную роль с самого начала изучения языка в лингвистических традициях. Анализ текстов и живой речи дает лишь косвенные данные о психической стороне языка, интроспекция же может выявить то, как устроен «психический организм» самого лингвиста, одновременно являющегося и носителем языка, а затем по аналогии можно строить гипотезы и о других «психических организмах». Здесь совпали точки зрения Г. Пауля и К. Фосслера.
Труд Г. Пауля выделяется среди работ младограмматиков не только вниманием к общетеоретическим вопросам, но и стремлением охватить разные стороны развития языков, весьма неравномерно разрабатывавшиеся наукой того времени. Занимавший львиную долю времени и сил младограмматиков вопрос об изучении звуковых изменений обсуждается лишь в одной небольшой по объему главе. В то же время подробно обсуждаются вопросы исторических изменений в синтаксисе, словообразовании и особенно в семантике. Выявленные Г. Паулем закономерности изменений в лексических значениях слов представляют собой одно из наиболее детальных и обоснованных исследований такого рода и для нашего времени.
Нельзя не отметить и постановку им таких представляющих интерес и для современной лингвистики проблем, как устранение «излишеств», то есть избыточности в языке, экономия языковых средств, редкий для лингвистики того времени интерес к проблеме нормализации языка и формированию литературных языков. Влияние книги Г. Пауля на современную ему лингвистику было значительным. Ф. Ф. Фортунатов писал об этой книге: «Очень хорошее общее сочинение по истории языка в изложении, хотя и не популярном, однако ясном».
В рамках младограмматической концепции работали и многие ученые за пределами Германии. Среди них следует назвать выдающегося датского ученого В. Томсена (1842–1927), знаменитого своей дешифровкой древне-тюркской письменности, автора очерка истории лингвистики, переведенного на русский язык. Примыкали к младограмматизму и другой видный датский ученый К. Вернер (1846–1896), основатель концепции субстрата итальянский языковед Г. И. Асколи (1829–1907) и др. Влияла младограмматическая концепция и на Ф. де Соссюра и А. Мейе, однако они были согласны далеко не со всеми положениями младограмматиков.
В России двумя крупнейшими учеными, следовавшими младограмматической традиции, были академик Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) и его ученик академик Алексей Александрович Шахматов (1864–1920), автор выдающихся работ по истории славянских языков и русскому синтаксису. Повлияли младограмматические идеи, особенно концепция Г. Пауля, и на Н. В. Крушевского и И. А. Бодуэна де Куртенэ, однако оба они, особенно последний, выходили за рамки младограмматизма и требуют, как и Ф. де Соссюр и А. Мейе, отдельного рассмотрения.
Ф. Ф. Фортунатов стажировался в Германии у крупнейших компаративистов того времени, а затем с 1876 г. по 1902 г. занимал кафедру сравнительной грамматики индоевропейских языков в Московском университете (покинул ее в связи с избранием в академики, требовавшим тогда переезда в Петербург). Он, как и Ф. де Соссюр, мало публиковался и выражал свои научные взгляды прежде всего в лекционных курсах для студентов, которые лишь размножались (литографировались) для студенческих нужд. Уже в советское время часть этих курсов вошла в двухтомник избранных трудов Ф. Ф. Фортунатова, а многие из них до сих пор не изданы. В частности, до сих пор ждут публикации его лекции по типологии; он был одним из очень немногих ученых того времени, не отказавшихся от рассмотрения типологической проблематики. За четверть века Ф. Ф. Фортунатов читал самые разнообразные курсы как общего, так и конкретного характера от общего языкознания до литовского и готского языков. По основной профессии он, как и все младограмматики, был индоевропеистом, но в ряде курсов затрагивал и иные проблемы.
Вполне в традициях младограмматизма Ф. Ф. Фортунатов считал предметом науки о языке «человеческий язык в его истории». Проявляется у него и психологический подход к языку, однако, как и в отношении типологии, у него устойчиво сохранялся и интерес к реально забытой младограмматиками проблеме «язык и мышление».
Как и Г. Пауль, и, пожалуй, еще в большей степени, Ф. Ф. Фортунатов несколько вразрез с общими постулатами своего подхода занимался вопросами общих оснований грамматики вне какого-либо историзма. Грамматическая концепция Ф. Ф. Фортунатова оказала значительное влияние на русское и советское языкознание. В частности, большое значение имел подход Ф. Ф. Фортунатова к понятию формы слова: «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется… способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова». То есть форма — психологически значимая членимость слова на основу и окончание. Разные формы одного слова (падежные, временные и т. д.) противопоставлены друг другу и образуют систему. Такое понимание формы слова, полемичное по отношению к более семантическому подходу к этому понятию у А. А. Потебни, предвосхищало системный подход к морфологии в структурной лингвистике. Концепция формы слова Ф. Ф. Фортунатова давала основы для разработки морфемного анализа, хотя понятия морфемы у него еще нет. К Ф. Ф. Фортунатову в отечественном языкознании восходят также строго морфологический подход к выделению частей речи, разграничение синтаксических и несинтаксических грамматических категорий и многое другое в теории грамматики.
Ф. Ф. Фортунатов, хорошо знавший математику, отличался стремлением к строгости и точности исследования. Эту строгость и точность, свойственные в конце XIX в. лишь компаративистике, он стремился ввести и в другие разделы науки о языке, в частности, в теорию грамматики. Эта строгость передалась его ученикам. Школа, им созданная, получила впоследствии от своих противников название «формальной», отличаясь в первую очередь стремлением к научной строгости, непротиворечивости исследования, к проверяемости результатов. Все это было созвучно тем изменениям, которые произошли в лингвистике в начале XX в., и неудивительно, что представители школы внесли большой вклад в развитие структурализма.
Создание Московской школы лингвистов оказалось, вероятно, главным итогом деятельности ученого. Его непосредственными учениками стали его преемник по кафедре в Московском университете Виктор Карлович Поржезинский (1870–1929) и видные русисты H. Н. Дурново и Д. Н. Ушаков, о которых будет сказано в главе о советском языкознании. Еще более значительным был вклад в науку следующего поколения школы, учившегося у учеников Ф. Ф. Фортунатова. Ведущую роль в советском языкознании играли Н. Ф. Яковлев, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский и др., в зарубежном — Н. Трубецкой и Р. Якобсон, о каждом из них ниже будет говориться специально. Они в свою очередь подготовили учеников, и традиции Московской школы существуют до наших дней. А через Н. Трубецкого и Р. Якобсона ряд идей, восходящих к Ф. Ф. Фортунатову, вошел в мировую науку.
Конечно, Московская школа со временем далеко ушла от младограмматизма. Но традиции ее основателя сохранились. На большое значение Ф. Ф. Фортунатова для становления новых подходов к языку указывал Р. Якобсон, а П. С. Кузнецов даже считал Ф. Ф. Фортунатова третьим, наряду с И. А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром, основателем лингвистики XX в. И прямо никак не относившийся к Московской школе знаменитый датский структуралист Л. Ельмслев писал: «Русская школа подошла ближе всего к практической реализации этих (структуралистских — В. А.) идей. Несмотря на то, что теории Фортунатова и его учеников в некоторых особых пунктах вызывают критические замечания, им принадлежит заслуга в постановке проблемы существования чисто формальных категорий и в протесте против смешения грамматики с психологией и логикой. Они, наконец, строго различали синхронию и диахронию… Теории этих известных лингвистов, так же, как и их детальная и последовательная реализация в определенной области, заслуживают внимания всех тех, кто интересуется грамматикой». Но если говорить о самом Филиппе Федоровиче, то необходимо еще раз подчеркнуть, что новые подходы проявлялись у него больше в трактовке более частных вопросов, прежде всего в области грамматической теории, а к общим проблемам языкознания он подходил в основном по-младограмматически.
Возвращаясь к младограмматизму в целом, следует отметить, что его общетеоретический подход к языку безусловно устарел. Однако если, например, концепция А. Шлейхера уже целиком принадлежит истории, то младограмматическая традиция жива и сейчас. Автор предисловия к русскому изданию книги Г. Пауля С. Д. Кацнельсон писал: «В области внутренней истории языка, или, как ее еще называют, исторической грамматики, младограмматизм по-прежнему играет доминирующую роль, предопределяя отбор и систематизацию фактического материала… Вузовское преподавание истории языка и теперь еще может опираться только на учебники и учебные пособия, составленные младограмматиками и их единомышленниками». За прошедшие с 1960 г. годы ситуация мало изменилась. При этом современные компаративисты или историки языка вовсе могут не разделять теоретические постулаты младограмматизма в целом, они могут быть, например, структуралистами, обращаясь к иной проблематике. В отличие от младограмматической теории сравнительно-исторический метод, в основных чертах доведенный до совершенства именно младограмматиками, сохраняет значение и сейчас. Добавления к этому методу, введенные лингвистами XX в., дополнили его, но не изменили его главные принципы. Однако наука XX в. уже не столь абсолютизирует этот метод, четко понимая границы его применимости. Задачи науки о языке далеко не сводятся к исследованию истории конкретных языков и языковых семей, как это казалось во времена младограмматиков.
Литература
Томсен В. История языкознания до конца XIX века. М., 1938, с. 92—108.
Шпехт Ф. Индоевропейское языкознание от младограмматиков до первой мировой войны // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956.
Кацнельсон С. Д. Вступительная статья // Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
Петерсон М. Н. Академик Ф. Ф. Фортунатов // Русский язык в школе, 1939, № 3.
«Диссиденты индоевропеизма»Господствующее положение четкой и влиятельной младограмматической концепции в европейской науке конца XIX — начала XX в. признавалось далеко не всеми. Среди достаточно многочисленных критиков младограмматизма были ученые, стоявшие на разных позициях. В их числе были продолжатели гумбольдтовской традиции, прежде всего школа К. Фосслера, были и ученые, искавшие принципиально новые пути, о которых будет говориться в последующих главах. Но видное место среди них занимали и языковеды, которые, отмечая те или иные недостатки младограмматиков, сохраняли их основные постулаты, прежде всего идею исторического подхода к языку. Обычно они стремились не столько пересмотреть, сколько уточнить и детализировать младограмматическую концепцию, освободить ее от слишком явных недостатков. Иногда такая деятельность могла увести ученого и в область широких, но недоказанных гипотез, как это случилось с Н. Я. Марром. Ученых такого рода уже в то время называли «диссидентами индоевропеизма».
Самым известным из такого рода «диссидентов» был Хуго (Гуго) Шухардт (1842–1927), большую часть времени работавший в Вене. За долгую творческую жизнь он написал немало работ, прежде всего компаративного характера. В некоторых своих работах X. Шухардт выходил за пределы традиционной для ученых XIX в. проблематики, иногда привлекая даже материал неиндоевропейских языков. В частности, он одним из первых в мировой науке заинтересовался проблемами эргативности. Высказывался он и по общетеоретическим вопросам. На русском языке «Избранные статьи по языкознанию» X. Шухардта издавались в 1950 г.
X. Шухардт совмещал в себе блестящего эрудита и острого критика, хорошо подмечавшего слабые места современной ему науки. Слабее он был в творческом создании: трудно говорить о какой-либо последовательной его теории.
Как и его современники, X. Шухардт понимал языкознание как историческую науку, а основным научным методом считал индукцию, В последнем отношении он был более последователен, чем авторы младограмматического «манифеста»: он показывал, что выдвинутое там понятие фонетического закона по сути своей дедуктивно, индукция же, обобщение конкретных фактов не могут вывести законы, не знающие исключений. Но и дедуктивный подход, как показывает X. Шухардт, применяется младограмматиками нестрого: если за фонетическими законами признавать абсолютный характер, то понятие «исключение» утрачивает смысл, поскольку исключения оказываются результатом взаимодействия одних законов с другими.
Многократно критикуя понятие звукового закона, X. Шухардт приложил немало сил для того, чтобы показать множественность факторов, не позволяющих говорить о сколько-нибудь строгих законах. Безусловно, такие факторы многообразнее, чем аналогия, к которой младограмматики, особенно поначалу, пытались возводить все, что не могло быть подведено под законы. В частности, одним из первых X. Шухардт подробно изучил так называемое явление субстрата, не принимавшееся в расчет ранними компаративистами до А. Шлейхера и младограмматиков на начальном этапе. Явление субстрата связано с тем, что многие народы в ходе своей истории сменили язык, либо смешавшись с другим народом, либо переняв какой-либо язык, оказавшийся более престижным; при этом какие-то черты прежнего языка сохраняются. Субстратные элементы, часто отражающие следы тех языков, от которых не осталось более никаких других данных, весьма трудно интерпретировать компаративисту, а процесс перехода на другой язык нередко нарушал регулярность соответствий с другими языками. Подверг критике X. Шухардт и представление о праязыке как единой системе, указав, что он мог распадаться на диалекты, разграничение которых представляет большую трудность для компаративиста.
В то же время X. Шухардт, пытаясь вообще изгнать из лингвистики понятие языкового закона, настаивал на существовании «спорадических звуковых изменений», то есть изменений, не дающих регулярных соответствий и не поддающихся рациональному объяснению. Верно указывая на прямолинейность понятия языкового закона у А. Шлейхера и ранних младограмматиков (последние позже сами стали отходить от такой прямолинейности), ученый отказывался принимать эти законы даже как идеализированное представление, удобное в качестве рабочего приема. Отказ от понятия закона вообще без замены его чем-либо иным, как это получилось у X. Шухардта, лишал компаративиста сколько-нибудь строгой методикй.
Не принимал X. Шухардт и концепцию родословного древа А. Шлейхера, разделявшуюся младограмматиками. Указывая на многочисленные случаи языковых контактов, заимствований и смены языков с сохранением субстрата, он в противовес данной концепции выдвинул концепцию скрещения языков: «Не существует ни одного языка, свободного от скрещений и чужих элементов». Согласно X. Шухардту, во многих случаях говорить о принадлежности того или иного языка к той или иной семье или группе невозможно, поскольку у языка может быть несколько предков; таким образом, языки не только расходятся, но и скрещиваются. Эту концепцию воспринял и довел до абсурдной крайности Н. Я. Марр. Современное сравнительно-историческое языкознание однако не приняло концепцию скрещения ни в одном ее виде, строго отграничивая субстратные явления и заимствования от языкового родства и распределяя все языки по семьям и группам.
X. Шухардту было свойственно выступать против всякой схематизации и проведения более жестких, чем это позволяет материал, границ. Он вместе с другими «диссидентами индоевропеизма» указывал на отсутствие строгих границ между языками и диалектами, критиковал периодизации языковых процессов и попытки выделить то, что позднее получит название синхронных срезов, и т. д. Однако при этом исторический анализ языков полностью превращался в набор отдельных фактов, которые очень трудно оказывалось систематизировать.
Выход из трудностей в применении сравнительно-исторического метода X. Шухардт пытался найти в содружестве с историческими науками. Он стал основоположником направления в лингвистике, получившего название школы слов и вещей. X. Шухардт старался комплексно изучать историю слова и историю обозначаемой им вещи, учитывая многообразные изменения в обозначении и значении, в соотношениях между словами и вещами. Это позволило уточнить многие этимологии, развить методику исторической семантики. В то же время свойственная и младограмматикам атомизация исследований, тенденция к изолированному рассмотрению отдельных слов и звуков в их историческом развитии достигла у X. Шухардта крайности. Изучение регулярных соответствий и общих законов языковых изменений все же придавало работам младограмматиков некоторую системность, а в школе слов и вещей атомизация подхода дошла до крайнего предела.
В исследованиях X. Шухардта было немало интересных наблюдений и формулировок, он получил много ценных конкретных результатов, но какой-либо целостной концепции взамен критикуемой не предложил.
К «диссидентам индоевропеизма» могут быть также отнесены и французско-швейцарская школа «лингвистической географии» во главе с Ж. Жильероном (1854–1926), и сложившаяся несколько позже, уже в начале XX в., итальянская школа неолингвистики. Не отказавшись от исторического понимания языкознания, они в большей степени, чем сами младограмматики, занимались изучением современных диалектов и говоров. Именно в конце XIX — начале XX вв. диалектология стала активно развивавшейся областью лингвистики во многих странах. Школа «лингвистической географии» впервые в лингвистике стала активно использовать картографирование различных фонетических, грамматических и лексических явлений. В рамках этой школы в языкознание было введено понятие изоглоссы: ареала распространения того или иного явления языка, выделенного на карте. Исследования данной школы показали, что традиционные представления о языках и диалектах как четко разграниченных между собой системах не соответствуют действительности. Оказалось, что разные изоглоссы не совпадают между собой и диалектные и даже языковые границы могут проводиться на основании разных изоглосс по-разному; любые четкие границы оказываются в значительной части случаев условными. В частности, на основе чисто языковых данных нельзя однозначно провести границу между французскими и итальянскими диалектами (так же, как, например, между русскими и белорусскими): черты одного языка постепенно переходят в черты другого. Жесткие границы между такими языками, как французский и итальянский, задаются лишь существованием французского и итальянского литературных языков, которыми пользуются носители тех или иных диалектов; для бесписьменных же языков провести четкие границы часто бывает очень трудно. Выделенная данной школой пространственная языковая непрерывность, отмечавшаяся и X. Шухардтом, еще в большей степени корректировала традиционные построения языковедов.
Итальянская школа неолингвистики была создана профессором Туринского университета Маттео Бартоли (1873–1946), подготовившим немалое число учеников, среди которых был и известный теоретик марксизма, основатель Итальянской компартии Антонио Грамши. Наиболее четко идеи данной школы сформулировал один из поздних ее представителей Джулиано Бонфанте в статье, опубликованной уже в 1947 г. и включенной в хрестоматию В. А. Звегинцева; далее цитаты из этой статьи.
Для неолингвистов была характерна попытка соединить принципы исторической лингвистики XIX в. с идеями школы «лингвистической географии» и некоторыми идеями гумбольдтовской традиции, воспринятыми через влиятельного в Италии Б. Кроче.
Как и младограмматики, они считали единственной реальностью язык отдельного человека: «Только данный наш собеседник является конкретным и реальным — в конкретном и индивидуальном акте его речи. Английский язык, итальянский язык — это абстракции». Для них даже младограмматическая концепция языковых изменений, основанная на представлении об усреднении индивидуальных изменений через узус, была слишком «коллективистской»: «Всякое языковое изменение — индивидуального происхождения; в своем начале — это свободное творчество человека, которое имитируется и ассимилируется (но не копируется!) другим человеком, затем еще третьим, пока оно не распространится по более или менее значительной области. Это творчество может быть более или менее сильным, обладать большими или меньшими способностями к сохранению и распростркнению в соответствии с творческой силой индивидуума, его социальным влиянием, литературной репутацией и т. д. Новообразование короля обладает лучшими шансами, чем новообразование крестьянина». Такая точка зрения близка к К. Фосслеру.
Сходство с К. Фосслером видно и в понимании неолингвистами языка как «выражения эстетического творчества»: «Возникновение и распространение языковых новообразований подобно созданию и распространению женских мод, искусства, литературы: они основываются на эстетическом отборе». В связи с этим неолингвисты настаивали на тесной связи языкознания с историей, литературоведением, культуроведением. Для них была неприемлема тенденция к изучению языка в чисто лингвистических категориях, которая была свойственна и младограмматикам, но в еще большей степени — лингвистике 1-й половины XX в.
Как и X. Шухардт, неолингвисты выступали против проведения строгих границ как между языками и диалектами, так и между разными этапами развития языков. Вслед за школой Ж. Жильерона они указывали на условность границ между языками и диалектами. Вслед за X. Шухардтом они отвергали концепцию родословного древа и настаивали на смешанном характере едва ли не всех языков, доходя здесь до весьма крайней точки зрения: язык может переходить из одной семьи и группы в другую. Согласно Дж. Бонфанте, румынский язык первоначально входил в ту же группу, что и албанский, затем он стал романским, а потом «подвергался риску превратиться в славянский язык». Подобные идеи неолингвисты отстаивали и тогда, когда концепция смешения языков потеряла популярность и компаративисты окончательно вернулись к концепции родословного древа.
В полемике с младограмматиками неолингвисты доходили до отрицания главного постулата всего сравнительно-исторического языкознания: регулярности языковых изменений: «Неолингвисты отрицают… всякое различие между „регулярными“ и „нерегулярными“ явлениями: все в языке регулярно, как и в жизни, потому что существует. И в то же время все нерегулярно, потому что условия существования явления различны».
Неолингвисты критиковали младограмматиков по многим параметрам, и почти вся их критика сводилась к одному: младограмматики втискивали в прокрустово ложе относительно простых «законов» и методов описания такое крайне сложное, многообразное и выходящее за любые рамки явление, как язык. Среди конкретных претензий неолингвистов в отношении младограмматиков очень многие были совершенно справедливыми: младограмматики игнорировали процессы, связанные со становлением и развитием литературных языков, никак не учитывали кальки, весьма упрощенно понимали процесс вымирания языков: «Младограмматики часто говорят о том, что последний человек, говоривший на том или ином языке… умер тогда-то, в таком-то возрасте и в такой-то деревне… На каком перемешанном, искаженном и засоренном жаргоне говорил последний человек, владевший прусским, корнским и далматинским?» И безусловно правы были неолингвисты, упрекая младограмматиков в том, что для них «язык есть явление, отдельное от человека». Сами неолингвисты как продолжатели гумбольдтовской традиции подчеркивали, что «язык — находящаяся в вечном движении реальность, художественное творчество, часть (и притом какая!) духовной жизни человека, energeia».
Но, критикуя младограмматиков за упрощение и схематизацию, которые на определенном этапе развития науки всегда бывают неизбежны, за невнимание к «человеческому фактору», неолингвисты не могли взамен предложить ничего, кроме чисто индивидуального рассмотрения истории отдельных языковых явлений. Лингвистика, из которой неолингвисты пытались убрать всякие общие закономерности, превращалась во множество описаний истории отдельных слов (ср. проблематику школы «слов и вещей»). И неудивительно, что больше всего данная школа сделала в области этимологии. Одна из наиболее значительных неолингвистических работ, книга В. Пизани «Этимология», переведена на русский язык.
Многие обвинения, предъявляемые неолингвистами к младограмматизму: стремление отделить лингвистику от других наук, отрыв языка от человека, неучет индивидуального творчества, проведение дискретных границ в отношении непрерывных процессов и т. д., — с еще большими основаниями могли бы быть предъявлены к сложившейся в XX в. структурной лингвистике. Замеченные ими тенденции в младограмматизме проявлялись еще нестрого и непоследовательно, а после Ф. де Соссюра развитие лингвистики пошло как раз в сторону, противоположную тому, что отстаивала неолингвистика. И не случайно лидер американского структурализма Л. Блумфилд отнесен у Дж. Бонфанте к «новым младограмматикам». Неолингвисты приняли некоторые близкие их концепции идеи лингвистики XX в., например, теорию языковых союзов Н. Трубецкого, но в целом их концепция к середине XX в. уже выглядела архаичной. Это не значит, что поставленные ими проблемы несущественны для науки о языке, но время требовало прежде всего решения других проблем.
Наконец, говоря о «диссидентах индоевропеизма», следует сказать и о таком очень своеобразном ученом, как академик Николай Яковлевич Марр (1864–1934). Уроженец Кавказа, он был востоковедом по образованию и первоначальной специальности, а тогда в России востоковедное образование было резко отделено от лингвистического. Поэтому, обладая выдающимися способностями к языкам, он не получил серьезной языковедной подготовки. Работая поначалу в рамках сравнительно-исторического языкознания, Н. Я. Марр был далек от позитивизма и стремился к широким построениям относительно языковой истории, а затем и «доистории», не стараясь подкрепить их фактами. В ранний период своей деятельности он находился под влиянием идей X. Шухардта, в частности, концепции скрещения языков. Одной из задач Н. Я. Марра было доказательство особой исторической роли кавказских народов. Он выдвинул идею особой яфетической семьи языков, современными представителями которой являются грузинский и некоторые другие языки на Кавказе. К яфетическим языкам он отнес многие языки древнего Средиземноморья с неясными родственными связями, включая и те, от которых до нас ничего не дошло. Многие же языки с известными родственными связями Н. Я. Марр трактовал как скрещенные: французский — как «латинско-яфетический» (при этом неразвитость французского склонения и спряжения трактовалась как наследие «яфетического компонента»), а латинский в свою очередь — как результат скрещения индоевропейского «языка патрициев» с яфетическим «языком плебеев». Яфетические языки рассматривались как отдаленно родственные семитским. Постепенно круг яфетических языков все расширялся, в него включались баскский, берберские, готтентотский и т. д., а доказательств становилось все меньше.
До 1923 г. концепции Н. Я. Марра оставались в рамках компаративной проблематики и он сам относил себя к «диссидентам индоевропеизма». Однако в 1923 г. он выступил с «новым учением о языке», рвавшим со многими принципами лингвистической науки; развитием этого «учения» Н. Я. Марр занимался до конца жизни. «Новое учение» представляло собой причудливую смесь из идей В. фон Гумбольдта о стадиальности, X. Шухардта о скрещении языков, мыслителей XVII–XVIII вв. о происхождении языка и будущем мировом языке, ранних идей самого Н. Я. Марра (до конца он сохранял понятие яфетических языков, которые он теперь понимал как одну из стадий) и отражавших советское общественное сознание тех лет концепций революционных скачков в языке и отражения языком экономического базиса.
«Новое учение о языке» основывалось на двух постулатах: о движении языков от множества к единству и о стадиальности их развития. Согласно Н. Я. Марру, расщепления языков и, следовательно, языковых семей и языкового родства быть не может; в полную противоположность концепции родословного древа языки могут только скрещиваться. Развитие языков проходит от первоначального множества к единству. Независимо друг от друга в результате «звуковой революции» возникло очень много языков и диалектов, затем через скрещения их число уменьшалось и продолжает уменьшаться; итогом должен стать единый язык человечества, который Н. Я. Марр со второй половины 20-х гг. связывал с коммунистическим обществом. Н. Я. Марр со своими сотрудниками пытался создать основы такого языка, но ничего не получилось. Им был предложен лишь «мировой аналитический алфавит», оказавшийся крайне неудачным.
Другая идея была основана на том, что все языки хотя и развиваются независимо друг от друга, но подчиняются одним и тем же законам и проходят, хотя и с разной скоростью, одни и те же стадии. В ходе стадиального развития языки усложняются и совершенствуются начиная от стадии «диффузных выкриков» и кончая флективной стадией, которую Н. Я. Марр, как и лингвисты XIX в., считал высшей. Переход от одной стадии к другой происходит через революционный скачок, меняющий язык до неузнаваемости (в немецком языке Н. Я. Марр видел «преобразованный революционным взрывом» сванский язык на Кавказе); каждый такой скачок отражает революционные скачки в развитии общества. Областью специальных научных интересов Н. Я. Марра была «лингвистическая палеонтология» — выявление в языках реликтов прежних стадий, прежде всего яфетической.
Концепция Н. Я. Марра была реакцией на кризис младограмматического языкознания и, шире, всей лингвистической парадигмы XIX в. и позитивистской науки. Однако по существу Н. Я. Марр при внешней новизне его идей стремился повернуть лингвистику назад, в XVII–XVIII вв. и начало XIX в. Показательны его интерес к проблематике, отвергнутой или оставленной в стороне языкознанием его времени: происхождение языка, конструирование «мировых языков», стадии, — и возрождение давно опровергнутых идей: идея о «яфетическом компоненте» французского языка возрождала давно оставленные представления о его «галльском происхождении». Н. Я. Марр не сумел овладеть сложной и строгой методикой, разработанной компаративистами в течение XIX в., и просто ее отверг с начала и до конца. Однако вместо нее он предложил возврат к умозрительным, не подтвержденным фактами и часто недоказуемым теориям в духе прошлых веков. Многие его идеи были откровенно фантастическими. В критике младограмматизма Н. Я. Марр, как и X. Шухардт и неолингвисты, нередко бывал прав (см., например, такое его высказывание: «Существовали законы фонетики — звуковых явлений, но не было законов семантики»). Но путь, который он предложил, вел в тупик. При этом Н. Я. Марр полностью сохранил понимание языкознания как исторической науки.
Ранние идеи Н. Я. Марра оставались гипотезами, к которым со вниманием относились некоторые лингвисты его эпохи, в том числе И. А. Бодуэн де Куртенэ. Некоторые из его гипотез впоследствии подтвердились, например, о родстве урартского языка с дагестанскими. Однако ни одну из своих гипотез он не мог доказать. Позднее же «новое учение о языке» могло бы рассматриваться как лингвистический курьез, если бы не то значение, которое оно приобрело в советском языкознании 20—40-х гг. Это «учение» оказалось созвучным как общественно-политической ситуации в СССР, так и изменениям научных настроений: в это время многие отказывались от позитивизма и стремились к глобальным построениям. Первоначально, в 20-е гг., «новое учение о языке» воспринималось прежде всего как интересная и казавшаяся новаторской научная теория. Многие видные ученые, например Н. Ф. Яковлев, оказались под влиянием марровских идей. Позднее при активном участии самого Н. Я. Марра его «учение» начало распространяться и административным путем и было официально объявлено «единственно правильным». После смерти Н. Я. Марра его последователи при внешнем сохранении «нового учения» начали отходить от него в сторону научного языкознания; стадиальные исследования, в частности, превратилось в обычные типологические. Однако окончательный отказ от марровских идей в советском языкознании произошел лишь после выступления И. В. Сталина с критикой «нового учения о языке» в 1950 г.
Литература
Звегинцев В. А. Предисловие // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956.
Алпатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991, с. 32–78.
Н. В. Крушевский и И. А. Бодуэн де КуртенэСреди ученых, которые еще в конце XIX в. начали выходить за рамки основных научных парадигм века и предприняли достаточно успешный поиск новых путей, прежде всего следует упомянуть двух выдающихся русско-польских ученых: Н. В. Крушевского и И. А. Бодуэна де Куртенэ. Иногда их причисляют к так называемой казанской школе. Однако если Н. В. Крушевский всю недолгую научную жизнь провел в Казани, то для И. А. Бодуэна де Куртенэ Казань оказалась лишь эпизодом в продолжительной деятельности в разных городах и странах.
Если школа К. Фосслера в основном продолжала гумбольдтовскую традицию, если X. Шухардт, Н. Я. Марр и др., критикуя младограмматиков, не могли выйти за рамки представлений о языкознании как исключительно исторической науке, то Н. В. Крушевский и особенно И. А. Бодуэн де Куртенэ во многом предвосхитили идеи соссюрианской лингвистики, а в некоторых вопросах (например, о фонеме, о слове) И. А. Бодуэн де Куртенэ пошел дальше Ф. де Соссюра. При этом особенно примечательно, что концепции этих ученых, в конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в. постоянно общавшихся друг с другом, складывались в провинциальной русской Казани, бывшей однако в то время одним из крупнейших культурных центров России.
Николай Владиславович (Николай Хабданк) Крушевский (1851–1887) прожил очень короткую жизнь и смог в силу ряда обстоятельств заниматься лингвистикой всего семь лет. Он в 1875 г. окончил Варшавский университет, но в период активного обрусения после подавления польского восстания 1863 г. он (как и несколькими годами раньше И. А. Бодуэн де Куртенэ) не мог рассчитывать ни на научную, ни на какую-либо иную работу в Польше и с трудом получил место учителя гимназии в глухом городе Троицке (ныне Челябинская область) на границе с Казахстаном. Установив связи с уже работавшим в Казани И. А. Бодуэном де Куртенэ, он сумел в 1878 г. переехать в Казань и начать работать в университете. За короткое время он защитил две диссертации, в 34 года стал профессором, но уже через несколько месяцев после утверждения в профессорском звании он был вынужден уйти в отставку из-за психического заболевания, от которого вскоре умер. Подписав вынужденную просьбу об уходе из университета, Н. К. Крушевский сказал: «Ах! Как быстро я прошел через сцену».
Не получив систематического лингвистического образования в Варшаве, Н. В. Крушевский сумел активным самообразованием и беседами с И. А. Бодуэном де Куртенэ восполнить этот недостаток и вскоре показал себя интересным ученым-теоретиком, стремившимся не столько к скрупулезному анализу фактов (что тогда считалось главным достоинством лингвиста), сколько к построению теории. Уже в его первой, магистерской диссертации (примерно соответствует теперешней кандидатской), индоевропеистической по тематике, была предложена общая система чередований в языке, не потерявшая значения и сейчас. Для докторской диссертации, защищенной в 1883 г., Н. В. Крушевский выбрал весьма необычную для своего времени тему «Очерк науки о языке», то есть речь в ней шла о теории языкознания в целом. Реально, правда, диссертация была по теме несколько уже своего названия: вопросы синтаксиса и семантики в ней почти не рассматривались. Однако и то, что сделано, представляет несомненный интерес.
Работа Н. В. Крушевского писалась под значительным влиянием «Принципов истории языка» Г. Пауля, появившихся незадолго до нее. Однако если Г. Пауль последовательно исходил из представления о языкознании как об исторической науке, Н. В. Крушевский подошел к вопросу о задачах науки о языке по-иному. Не отрицая, разумеется, важности реконструкций древнейших языковых состояний, ученый возражал против того, чтобы считать эти реконструкции высшей или тем более единственной задачей лингвистики. Он указывал, что современная ему наука о языке заимствовала и свой метод, и свои «научные идеалы» у историко-филологических наук, отсюда и устремленность этой науки в прошлое, в доисторию. У самого Н. В. Крушевского приоритеты другие: «Ближайшая задача фонетики не восстановление звуковых систем праязыков, а прежде всего изучение характера звуков данного языка, условий и законов их изменения и исчезновения и условий появления новых звуков. То же самое, mutatis mutandis, относится вообще к науке о языке: ближайшая ее задача — исследовать всевозможные явления языка, а равно и законы и условия их изменений». Здесь еще нет строгого разграничения синхронии и диахронии, но к числу основных задач науки о языке отнесены не только «законы и условия изменений», чем занимались и младограмматики, но и «изучение характера звуков данного языка» и «всевозможные явления языка», что, согласно младограмматическому канону, если и относилось к науке, то лишь к ее низшему, «описательному» уровню.
В связи с этим Н. В. Крушевский отстаивал необходимость изучения современных языков: «Что бы сказали о зоологе, который бы начал изучение своего предмета с животных ископаемых, с палеонтологии? Только изучение новых языков может способствовать открытию разнообразных законов языка, теперь неизвестных потому, что в языках мертвых их или совсем нельзя открыть, или гораздо труднее открыть, нежели в языках новых». Нельзя сказать, чтобы историческое языкознание XIX в. совсем игнорировало новые языки: А. Шлейхер изучал современный литовский язык, а младограмматики поначалу даже требовали заниматься живыми языками. Но важна цель такого изучения. И для А. Шлейхера, и для младограмматиков современные языки были интересны лишь постольку, поскольку они сохраняли те или иные архаизмы, расширяли материал для реконструкции. И совсем иную цель ставил Н. В. Крушевский, для которого эти языки сами по себе, без экскурсов в историю дают основу для выведения языковых законов. Тем самым обязательное требование историзма при любом научном исследовании языка снималось.
Н. В. Крушевский также выступал и против понимания науки о языке как «сравнительной грамматики», поскольку «сравнение не только не единственный, но даже не главный метод науки о языке, весьма важные результаты дает исследование слов и форм, не выходящее из границ одного какого-нибудь языка». Это замечание сейчас может показаться тривиальным, но оно также шло вразрез с господствующими в языкознании XIX в. представлениями.
Восприняв от младограмматиков понятие языкового закона, Н. В. Крушевский пытался выявить разнообразные законы, действующие в языке (И. А. Бодуэн де Куртенэ упрекал его за злоупотребление понятием закона; по его выражению, Н. В. Крушевский «как из рукава сыплет „законами“) — Но важно, что помимо исторических законов, о которых писали младограмматики, Н. В. Крушевский стремился выявить и, используя тогда еще не существовавший термин, синхронные законы языка. Такие законы он связывал с психологическими процессами, прежде всего с процессами ассоциации. Он писал: „Если вследствие закона ассоциации по сходству слова должны укладываться в нашем уме в системы или гнезда, то благодаря закону ассоциации по смежности те же слова должны строиться в ряды“. Здесь мы видим четкое разграничение того, что позже получило название парадигматических и синтагматических отношений в языке. Нельзя не отметить и высказанную более чем за четверть века до „Курса общей лингвистики“ Ф. де Соссюра формулировку: „Язык есть не что иное, как система знаков“.
Ученый, обладавший, по выражению И. А. Бодуэна де Куртенэ, „склонным к систематизации и обобщению“ умом, выдвинул немало интересных и нередко опережавших свое время теоретических положений. Многие идеи он не успел изложить на бумаге, кое-что дошло до нас благодаря И. А. Бодуэну де Куртенэ. Например, по его свидетельству, именно Н. В. Крушевский предложил использовать термин „фонема“ в значении, близком к современному. Ранняя смерть помешала этому теоретику языкознания раскрыть свой потенциал дб конца.
Подробный очерк биографии и научной деятельности Н. В. Крушевского дал И. А. Бодуэн де Куртенэ в некрологе своего коллеги, включенном в двухтомник „Избранных трудов по общему языкознанию“. Труды самого Н. В. Крушевского более столетия не переиздавались, за исключением отрывков, включенных в хрестоматии В. А. Звегинцева и Ф. М. Березина. Сейчас подготовлен том, включающий все основные работы ученого, который должен быть вскоре издан.
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) прожил долгую и разнообразную жизнь. Он происходил из старинного французского рода, прославившегося во время крестовых походов, однако его предки переселились в Польшу и сам он безусловно был поляком, при этом ему пришлось в разные периоды своей деятельности (а иногда и параллельно) писать на трех языках: русском, польском и немецком. Он получил высшее образование в Варшаве, а затем несколько лет стажировался за рубежом — в Праге, Вене, Берлине, Лейпциге, слушал лекции А. Шлейхера. Он сам впоследствии считал себя „автодидактом“, то есть ученым, не вышедшим из какой-либо научной школы, пришедшим к своим теоретическим идеям самостоятельно. Находясь за границей, он изучал резьянские говоры словенского языка (на территории, ныне принадлежащей Италии); вернувшись в Россию, он в возрасте 29 лет защитил описание их фонетики в качестве докторской диссертации в Петербургском университете. Первые работы И. А. Бодуэна де Куртенэ были посвящены славистике, однако уже в этот период он занимался общим языкознанием. Эта проблематика заняла еще большее место в Казани, где он начал работать в 1874 г. в качестве доцента, затем профессора, и читал разнообразные курсы. Там он создал Казанскую школу, к которой, помимо Н. В. Крушевского, относился видный русист и тюрколог, один из первых в России фонетистов-экспериментаторов, член-корреспондент АН СССР Василий Алексеевич Богородицкий (1857–1941), проживший всю жизнь в Казани. В 1883–1893 гг. И. А. Бодуэн де Куртенэ работал в Юрьеве (ныне Тарту), именно там окончательно сложились его концепции фонемы и морфемы. Потом он преподавал в Кракове, тогда входившем в состав Австро-Венгрии, а с 1900 г. стал профессором Петербургского университета. С 1897 г. он был членом-корреспондентом Российской Академии наук. В Петербурге ученый также создал научную школу, его учениками стали Л. В. Щерба и Е. Д. Поливанов, об идеях которых будет рассказано в главе о советской лингвистике. И. А. Бодуэн де Куртенэ активно выступал в защиту прав малых народов России и их языков, за что в 1914 г. на несколько месяцев попал в тюрьму. После воссоздания Польши как независимого государства он в 1918 г. уехал на родину, где провел последние годы жизни.
У И. А. Бодуэна де Куртенэ почти не было больших по объему сочинений. В его наследии преобладают сравнительно короткие, но отличающиеся четкостью поставленных задач и проблемностью статьи. Большинство наиболее важных и интересных из них вошло в изданный в Москве в 1963 г. двухтомник „Избранные труды по общему языкознанию“.
Большинство сочинений И. А. Бодуэна де Куртенэ посвящено общему языкознанию и славистике. Среди них немало исторических и компаративистических, однако в целом его лингвистическая концепция была резко полемической по отношению к господствующей научной парадигме языкознания XIX в., прежде всего в ее младограмматическом варианте. В то же время он отвергал и концепцию В. фон Гумбольдта, которую называл „метафизической“. Выход из наметившегося к концу XIX в. идейного кризиса в языкознании И. А. Бодуэн де Куртенэ видел, с одной стороны, в связи лингвистики с психологией и социологией, с другой стороны, в последовательно синхронном подходе к языку, в отказе от обязательного историзма.
Такая точка зрения видна уже в ранней его работе „Некоторые общие замечания о языковедении и языке“, написанной еще в 1870 г. Там, правда, еще сохраняется традиционная формулировка об „истинно научном историческом, генетическом направлении“ в языкознании, противопоставленном „описательному направлению“, 'лишь регистрирующему факты, и резко отрицательно характеризуемому „резонирующему, ребяческому“ направлению эпигонов рациональных грамматик в духе Пор-Рояля. Однако говоря далее о задачах научного языкознания, И. А. Бодуэн де Куртенэ включает сюда многие задачи, не имеющие прямого отношения к истории. В качестве одного из двух разделов „чистого языковедения“ выделяется „всесторонний разбор положительно данных, уже сложившихся языков“, среди которых, по мнению автора, главное место занимают „живые языки народов во всем их разнообразии“. Далее И. А. Бодуэн де Куртенэ рассматривает структуру фонетики и грамматики; в частности, в области фонетики наряду с исторической фонетикой выделяются две вполне синхронные дисциплины: одна из них рассматривает звуки с чисто физиологической точки зрения, другая — с „морфологической, словообразовательной“, то есть смыслоразличительной; здесь уже можно видеть начало будущего разграничения антропофоники и психофонетики. Отметим в данной работе и постоянную апелляции к „языковому чутью“, к неосознанным психолингвистическим представлениям, которые языковед должен уметь описать и разъяснить.
В данной работе дается такое определение языка: „Язык есть комплекс членораздельных и знаменательных звуков и созвучий, соединенных в одно целое чутьем известного народа (как комплекса (собрания) чувствующих и бессознательно обобщающих единиц) и подходящих под ту же категорию, под то же видовое понятие на основании общего им всем языка“. Тут уже вполне четко сформулирован психологический подход к языку, свойственный ученому на протяжении всей его деятельности.
Позднее взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ уточнялись и развивались, однако всегда он резко полемизировал с рядом традиционных представлений о языке, которые он считал ненаучными. Среди них были логический подход к языку (он крайне низко оценивал лингвистику до XIX в.» считая ее испорченной «логицизмом»), представление о языке как организме и младограмматическая концепция языковых законов. Многократно в его работах повторяется тезис: «Нет никаких „звуковых законов“» (здесь был, пожалуй, главный пункт его расхождений с идеями его друга Н. В. Крушевского; расходился он здесь и с Ф. де Соссюром).
Отрицание языковых законов однако не означало, что И. А. Бодуэн де Куртенэ был вообще против выявления закономерностей в языке. Для него прежде всего было неприемлемым перенесение в лингвистику идей и методов естественных наук. В своей автобиографии, тезисно излагая основу своих взглядов, ученый писал в 1897 г.: «Причислять язык к „организмам“, языковедение же к естественным наукам есть пустая фраза, без фактической подкладки… Сущность человеческого языка исключительно психическая. Существование и развитие языка обусловлено чисто психическими законами. Нет и не может быть в речи человеческой или в языке ни одного явления, которое не было бы вместе с тем психическим… Так как язык возможен только в человеческом обществе, то кроме психической стороны мы должны отмечать в нем всегда сторону социальную. Основанием языковедения должна служить не только индивидуальная психология, но и социология».
Если социология — общественная наука по определению, то психология времен И. А. Бодуэна де Куртенэ была, как мы уже упоминали, почти исключительно индивидуальной психологией. Это накладывало отпечаток на его психологизм, как и на психологизм младограмматиков. Споря с младограмматическими концепциями по ряду других вопросов, И. А. Бодуэн де Куртенэ сходился с ними в отношении того, что единственная реальность — язык индивидуума; такой язык — не абстракция, поскольку происходящие в мозгу каждого человека процессы вполне реальны. Однако польский или русский язык — это действительно абстракция, «среднее случайное соединение языков индивидуумов».
Признавая важность учета языкового чутья, И. А. Бодуэн де Куртенэ в то же время стремился к объективному подходу к языку. Говоря о принципиальном отличии языкознания от естественных наук, он в то же время считал, что оно, как и другие науки о человеке (термина «гуманитарные науки» он решительно не признавал), должно стать точной, математизированной наукой. Говоря о перспективах лингвистики XX в., И. А. Бодуэн де Куртенэ предсказывал, что она будет все более математизироваться, причем наряду с развитием количественного анализа (который он ни в коем случае не ограничивал статистикой) также «будет совершенствоваться метод качественного анализа». На грани XIX и XX вв. такие идеи были еще редки в языкознании. Развитие науки о языке XX в. во многом подтвердило прогнозы И. А. Бодуэна де Куртенэ, хотя оно показало и принципиальную ограниченность математизации языкознания. Стремясь к объективности, ученый призывал и к «искоренению предрассудка, называемого антропоцентризмом».
В связи с этим И. А. Бодуэн де Куртенэ в более поздних работах (с 1900-х гг.) отказался от свойственного языкознанию начиная с античности словоцентризма (безусловно основанного на «языковом чутье»): «Разве только слова произносятся? Слова являются обыкновенно частями фактически произносимого». В ряде поздних работ он исходил из высказываний как первичных единиц анализа, эти единицы могут подвергаться двоякому членению: «с точки зрения фонетической» и «с точки зрения морфологической». Первое членение предполагает выделение «фонетических фраз», «фонетических слов», слогов и фонем; второе — выделение «сложных синтаксических единиц», «простых синтаксических единиц» («семасиологически-морфологических слов») и морфем. Таким образом, традиционно нерасчлененное понятие слова, имеющее прежде всего психолингвистическое значение, И. А. Бодуэн де Куртенэ разделил на два независимых понятия двух разных по своим свойствам единиц языка. Более того, как фонетическое, так и семасиологически-морфологическое слово вовсе не обязательно совпадает со словом в традиционном понимании. В частности, в качестве семасиологически-морфологических слов (членов предложения) выступают в приводимом И. А. Бодуэном де Куртенэ примере На то щука в море, чтоб карась не дремал последовательности на то, в море, чтоб… не дремал (наряду с щука, карась); эти последовательности далее делятся прямо на морфемы. Тем самым единице, вполне эквивалентной традиционному слову, вообще не находится места в концепции ученого. Итак, И. А. Бодуэн де Куртенэ впервые подошел к проблеме слова с последовательно лингвистических, отвлеченных от антропоцентризма позиций, несмотря на весь психологизм своих идей.
Одной из главных заслуг И. А. Бодуэна де Куртенэ в лингвистике стали введенные им еще в казанский период понятия фонемы и морфемы, всегда занимавшие важнейшее место в его концепции. Определения двух данных единиц со временем несколько менялись, однако всегда сохранялась психологическая трактовка этих единиц, которая в значительной степени отвергалась применительно к слову.
Упоминавшееся выше разграничение фонетических дисциплин по существу сохранилось у И. А. Бодуэна де Куртенэ до самого конца, хотя терминология менялась. Всю «науку о звуках» он называл фонетикой, или фонологией (эти два термина он обычно употреблял как синонимы). В ее составе выделяются антропофоника и психофонетика, а также историческая фонетика. «Антропофоника занимается научным изучением способа возникновения преходящих фонационных явлений, или физиолого-акустических явлений языка, а также взаимных связей между этими явлениями». Антропофоника создает базу для психофонетики, но «только опосредствованно принадлежит к собственно языкознанию, основанному целиком на психологии». Психофонетика же — собственно лингвистическая дисциплина, изучающая «фонационные представления» в человеческой психике, а также их связи с другими представлениями: морфологическими и семасиологическими (семантическими). Впоследствии в структурной лингвистике антропофонику стали называть фонетикой, а область языкознания, изучающую явления, относимые И. А. Бодуэном де Куртенэ к психофонетике, — фонологией; смена терминов была прежде всего связана с отказом от психологизма у большинства фонологов, работавших после И. А. Бодуэна де Куртенэ, хотя были и ученые, сохранявшие психологический подход к фонеме и даже сам термин «психофонетика», как ученик основателя фонологии Е. Д. Поливанов.
Фонема понимается у И. А. Бодуэна де Куртенэ как минимальная единица психофонетики: «Фонема… есть однородное, неделимое в языковом отношении антропофоническое представление, возникающее в душе путем психического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука». Или другое, но эквивалентное определение фонемы, относящееся к тому же году (1899): «Фонемы — это единые, непреходящие представления звуков языка». Таким образом, фонема — психическая единица, существующая вполне объективно (хотя у разных людей звуковые представления могут и не быть одинаковыми). Соответствующие антропофонические единицы не являются минимальными: их можно членить и дальше. Однако «фонемы… неделимы психически, т. е. по производимому впечатлению и сохраняемому представлению или психической картине». Впрочем, такая точка зрения (приведенная цитата относится к 1890 г.) была впоследствии, пересмотрена и в публикациях 1910—1920-х гг. И. А. Бодуэн де Куртенэ уже писал: «Требования научного анализа, который обязан учитывать психические реальности, не позволяют нам останавливаться на фонемах»; предлагалось делить фонемы на составляющие произносительные элементы (кинемы) и на составляющие слуховые элементы (акусмы). Понятия кинемы и акусмы не привились в лингвистике, но предвосхищали появившуюся много позже концепцию дифференциальных признаков фонем.
Теория фонемы И. А. Бодуэна де Куртенэ позволила внести должную строгость в материал, полученный экспериментальной фонетикой, которая развилась во второй половине XIX в. Давно отмечено, что еще составители древних алфавитов были «стихийными фонологами»: среди фонетических различий, как правило, принимались в расчет лишь те, которые имели психологическую значимость для носителей языка. Фонетика в лингвистических традициях, конечно, не имела четких процедур для разграничения фонем и вариантов фонем, однако опять-таки стихийно, не всегда последовательно она работала в основном с фонемами уже хотя бы потому, что не имеющие фонологической значимости фонетические различия в большинстве просто не замечались. Однако как только фонетика начала изучаться с помощью приборов, даже самых несовершенных, выяснилось, что приборы обладают слишком большой различительной силой по сравнению с нуждами лингвистики: выявились фонетические различия, которые ни носители языка, ни языковеды просто не замечали. Стало ясно, что для лингвистических потребностей нужны критерии, отличные от чисто физических (акустических или артикуляторных). Самым естественным путем для объяснения был путь психологический, вполне справедливо отражающий «языковое чутье» носителей языка. Такова и была концепция основателя фонологии как особой дисциплины И. А. Бодуэна де Куртенэ и его ученика Е. Д. Поливанова. Однако невозможность строго объективного описания психологии (по крайней мере, в то время) и субъективность психологических критериев привели к тому, что большинство лингвистов, работавших после И. А. Бодуэна де Куртенэ, переняв от него идею о разграничении звука и фонемы, старались очистить понятие фонемы от психологизма, выработать строго объективные критерии ддя выделения фонем.
Морфема также понималась И. А. Бодуэном де Куртенэ психологически, см. сравнительно раннее его определение 1895 г.: «Морфема — любая часть слова, обладающая самостоятельной психической жизнью и далее неделимая с этой точки зрения (то есть с точки зрения самостоятельной психической жизни). Это понятие охватывает, следовательно, корень… все возможные аффиксы, как суффиксы, префиксы, окончания… и так далее». Здесь было важно уже то, что в предшествующей лингвистике были уже понятия корня и аффикса (с последующими подразделениями), но не было общего родового понятия. Позднее И. А. Бодуэн де Куртенэ, как уже отмечалось выше, перестал рассматривать морфему как минимальную часть слова и стал выделять морфемы независимо от слов. Лишь в самых ранних работах 1870-х гг. он исходил из традиционных представлений: «Окончания не существуют; существуют только произносимые слова… Окончания мы выделяем из слов для научных целей» (ср. похожие высказывания А. А. Потебни о корне). Однако позже И. А. Бодуэн де Куртенэ подчеркивал психологическую реальность морфемы: «На все морфологические элементы языкового мышления — морфемы, синтагмы… — следует смотреть не как на научные фикции или измышления, а только как на живые психические единицы». Доказательством «реально-психического существования» морфем он считал обмолвки типа брыками ногает, вертом хвостит. Вообще И. А. Бодуэн де Куртенэ подчеркивал, что «для объективного наблюдателя и исследователя не должно быть ни в языковом мышлении, ни в языковом общении ничего ложного, ничего ошибочного». В речевых ошибках и обмолвках (а также в народных этимологиях, которые очень интересовали ученого) тоже проявляются закономерности языка. Такой подход впоследствии развил ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ Л. В. Щерба. Признавал психологическую реальность И. А. Бодуэн де Куртенэ и за частями речи: он соглашался с В. А. Богородицким, называвшим их «действительными категориями нашего ума».
Активно восстанавливая в правах синхронное языкознание, И. А. Бодуэн де Куртенэ много занимался и вопросами исторического развития языков. Здесь он в отличие от большинства младограмматиков стремился не ограничиться анализом конкретных фактов, а выявлять общие закономерности. В то же время он, как и большинство других языковедов конца XIX — начала XX в., решительно отверг идеи стадиальности как научно не обоснованные (в связи с этим он не принимал и традиционное деление языков на флективные, агглютинативные и т. д., считая его слишком упрощающим реальную ситуацию: скажем, в русском языке есть и флексия, и агглютинация, и инкорпорация). Достаточно скептически относился он и к идее реконструкции праязыков, видя в ней проявление «археологического характера» языкознания XIX в.
Рассматривая историю языков, И. А. Бодуэн де Куртенэ в наибольшей степени старался выявить причины языковых изменений и общие тенденции таких изменений в тех или иных конкретных языках. Говоря о причинах изменений, он отчасти развивал идеи Г. Пауля, но рассматривал данный вопрос значительно более подробно. Уже в ранней работе «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» он выделял пять факторов, вызывающих развитие языка. Это привычка (бессознательная память), стремление к удобству, бессознательное забвение и непонимание, бессознательное обобщение, бессознательное стремление к дифференциации. Позднее из этих факторов И. А. Бодуэн де Куртенэ особо выделял стремление к удобству, к разного рода экономии работы: работы мускулов, работы нервных разветвлений, работы центрального мозга. В результате такой экономии упрощаются сложные звуки и сочетания звуков, увеличивается регулярность морфологической системы и т. д. Идея об экономии работы как причине изменений, сформулированная И. А. Бодуэном де Куртенэ, получила развитие в лингвистике XX в., здесь можно выделить прямую линию: Е. Д. Поливанов, Р. Якобсон, А. Мартине.
Экономии и упрощению однако, согласно И. А. Бодуэну де Куртенэ, противостоит консерватизм носителей языков, стремление сохранить язык в неизменном виде. Не раз ученый указывал, что наиболее радикальные изменения происходят в речи детей, всегда как-то упрощающих то, что они слышат от взрослых; однако в дальнейшем это «новаторство» в большей или меньшей степени сглаживается. Особенно заметно принцип экономии работает, если целый коллектив меняет язык (ситуация субстрата): ряд сложных характеристик перенимаемого языка не воспринимается. При конкуренции языков при прочих равных условиях побеждает более простой.
Языковые изменения И. А. Бодуэн де Куртенэ понимал кгк системные, связанные с проявлением той или иной общей тенденции. Этим его подход отличался от подхода Ф. де Соссюра, отрицавшего системность диахронии. И. А. Бодуэн де Куртенэ, в частности, старался выявить общее направление развития конкретных языков. Скажем, в польском языке он отмечал сглаживание количественных противопоставлений в фонологии и их усиление в морфологии. Под эту общую формулировку он подводил внешне мечал сглаживание количественных противопоставлений в фонологии и их усиление в морфологии. Под эту общую формулировку он подводил внешне разнородные явления: исчезновение противопоставления кратких и долгих гласных, утрата силовым ударением смыслоразличительной роли, появление особого склонения числительных, усиление различий между глаголами однократного и многократного действия и т. д. Для русского языка он отмечал общую тенденцию к ослаблению противопоставлений гласных и, наоборот, к усилению противопоставления согласных. Такого рода тенденции не только выявлялись в прошлом, но и проецировались в будущее.
И. А. Бодуэн де Куртенэ одним из первых в мировой науке ставил вопрос о лингвистическом прогнозировании. Отметим, что спустя почти столетие гипотезу ученого о развитии русской системы гласных и согласных проверил М. В. Панов и пришел к выводу, что она действовала и на протяжении XX в.
Рассмотрение конкретных тенденций истории конкретных языков не означало, что И. А. Бодуэн де Куртенэ отказывался от выявления более общих закономерностей. Наоборот, он подчеркивал, что существуют универсальные лингвистические закономерности, что они в принципе одинаковы для фонетики, морфологии и синтаксиса. Однако, отказавшись от стадий, он не мог предложить вместо них ничего, кроме самых общих положений об экономии работы. Для выдвижения гипотез в области диахронической типологии тогда еще слишком мало было накоплено фактов.
Говоря о языковых изменениях, И. А. Бодуэн де Куртенэ, как и большинство лингвистов его времени, подчеркивал их эволюционный характер. В то же время им отмечалась и дискретность изменений: «Жизнь языка не представляет собой непрерывной продолжительности. Только у индивидуумов имеет место развитие в точном понимании этого слова. Языку же племени свойственно прерывающееся развитие». Здесь уже начинают появляться идеи, которые потом стали преобладающими в диахронической лингвистике у структуралистов. Подчеркивая бессознательный характер обычных изменений, И. А. Бодуэн де Куртенэ в отличие от Ф. де Соссюра вполне допускал и сознательное вмешательство человека в язык. Он писал, что «язык не есть ни замкнутый в себе организм, ни неприкосновенный идол, он представляет собой орудие и деятельность. И человек не только имеет право, но это его социальный долг — улучшать свои орудия в соответствии с целью их применения и даже заменить уже существующие орудия другими, лучшими. Так как язык неотделим от человека и постоянно сопровождает его, человек должен владеть им еще более полно и сделать его еще более зависимым от своего сознательного вмешательства, чем это мы видим в других областях психической жизни». В связи с этим И. А. Бодуэна де Куртенэ очень интересовали случаи такого вмешательства самого разнообразного рода: нормирование литературных языков, формирование разного рода тайных языков и арго и, наконец, создание так называемых искусственных языков типа эсперанто. Со второй половины XIX в. эти языки начали получать распространение, но их авторы были любителями в лингвистике, а профессиональные ученые обычно полностью игнорировали такие языки. И. А. Бодуэн де Куртенэ здесь был исключением. Он указывал, что коль скоро язык эсперанто имеет своих носителей, нет принципиальной разницы между ним и другими языками, а разница между эсперанто и «естественными языками» с точки зрения их сознательного конструирования лишь количественная.
Если языковеды XIX в., обычно погруженные в историю, не обращали внимания на практические применения науки о языке, то И. А. Бодуэн де Куртенэ всегда придавал вопросу о связи языкознания с практикой большое значение, хотя при этом он отмечал, что в его время такие связи были довольно невелики. Он писал по вопросам обучения языку, участвовал в разработке проекта реформы русской орфографии, подготовленного еще за несколько лет до революции, но осуществленного лишь в 1917–1918 гг. Среди прочих практических применений языкознания он выделял и политическое: «его данные служат одним из средств объективного определения и теоретического установления национального или государственного единства». В ряде работ, написанных начиная с 1905 г., И. А. Бодуэн де Куртенэ пытался дать такого рода рекомендации для языковой политики в России. Свою точку зрения он выражал так: «Не тот или иной язык мне дорог, а мне дорого право говорить и учить на этом языке. Мне дорого право человека оставаться при своем языке, выбирать его себе, право не подвергаться отчуждению от всесторонней употребляемости собственного языка, право людей свободно самоопределяться и группироваться, тоже на основании языка». Он выступал против принудительно навязываемого гражданам государственного языка и отстаивал права национальных меньшинств на обучение на родном языке и обращение в административные учреждения на нем. Тогда эти идеи не были приняты и даже повлекли за собой преследования ученого, но после революции близкая концепция была положена в основу работы по языковому строительству, в которой активно участвовали и ученики И. А. Бодуэна де Куртенэ.
Трудно перечислить все идеи И. А. Бодуэна де Куртенэ, которые получили то или иное развитие в лингвистике XX в. Наряду с тем, о чем говорилось выше, можно упомянуть, что он предвосхитил концепцию языковых союзов Н. Трубецкого, впервые обратил внимание на важность для лингвистики изучения языковых расстройств (афазий), что нашло развитие у Р. Якобсона и др.
Некоторые лингвисты, в том числе Л В. Щерба и особенно Е. Д. Поливанов, даже считали, что концепция Ф. де Соссюра не содержала ничего принципиально нового по сравнению с тем, о чем И. А. Бодуэн де Куртенэ писал намного раньше. В целом однако непосредственное влияние идей И. А. Бодуэна де Куртенэ и тем более Н. В. Крушевского уступало влиянию «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. В наибольшей степени их концепции воздействовали на отечественных и восточноевропейских ученых, в том числе на членов Пражского лингвистического кружка, хотя они были известны и таким ученым, как А. Мейе и Л. Ельмслев. Наибольший резонанс поучили выдвинутые И. А. Бодуэном де Куртенэ идеи, связанные с понятиями фонемы и морфемы. Сами эти термины вошли в мировую науку благодаря ему. Следует однако иметь в виду, что некоторые идеи и подходы, предложенные И. А. Бодуэном де Куртенэ и Н. В. Крушевским, стали достоянием мировой лингвистики через посредство таких ученых, как Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Е. Курилович.
Литература
Бодуэн де Куртенэ И. А. Николай Крушевский, его жизнь и научные труды / / Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию, т. 1. М., 1963, с. 146–202.
Щерба Л. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке (1845–1929) // Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 85–96.
И. А. Бодуэн де Куртенэ. К 30-летию со дня смерти. М., 1960.
Шарадзенидзе Т. С. Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ и ее место в языкознании XIX–XX веков. М., 1980.
Фердинанд де СоссюрК началу XX в. недовольство не только младограмматизмом, но, шире, всей сравнительно-исторической парадигмой стало широко распространенным. Главная задача языкознания XIX в. — построение сравнительной фонетики и сравнительной грамматики индоевропейских языков — была в основном решена младограмматиками (сделанные в начале XX в. открытия, прежде всего установление чешским ученым Б. Грозным принадлежности хеттского языка к индоевропейским, частично меняли конкретные построения, но не влияли на метод и теорию). Для столь же детальных реконструкций других языковых семей еще не пришло время, поскольку там не был закончен процесс сбора первичного материала. Но все более ясным становилось, что задачи лингвистики не исчерпываются реконструкцией праязыков и построением сравнительных фонетик и грамматик. В частности, в течение XIX в. значительно увеличился имевшийся в распоряжении ученых фактический материал. В упоминавшемся выше компендиуме начала XIX в. «Митридат» упоминалось около 500 языков, многие из которых были известны лишь по названиям, а в подготовленной в 20-х гг. XX в. А. Мейе и его учеником М. Коэном энциклопедии «Языки мира» фиксировалось уже около двух тысяч языков. Однако для описания большинства из них не существовало разработанного научного метода уже хотя бы потому, что история их была неизвестна. Третировавшаяся компаративистами «описательная» лингвистика по своей методологии не ушла далеко по сравнению с временами Пор-Рояля. В начале XX в. появляются и жалобы на то, что языкознание «оторвано от жизни», «погружено в старину». Безусловно, методы компаративистики, отшлифованные младограмматиками, достигли совершенства, но имели ограниченную применимость, в том числе не могли ничем помочь в решении прикладных задач. Наконец, как уже упоминалось, компаративистику постоянно критиковали за неумение объяснить причины языковых изменений.
Если в Германии младограмматизм продолжал безраздельно господствовать всю первую четверть XX в., а его «диссиденты» не отвергали главные его методологические принципы, прежде всего принцип историзма, то на периферии тогдашнего лингвистического мира с конца XIX в. все более проявлялись стремления подвергнуть сомнению сами методологические основы преобладающей лингвистической парадигмы XX в. К числу таких ученых относились У. Д. Уитни и Ф. Боас в США, Г. Суит в Англии и, безусловно, рассмотренные выше Н. В. Крушевский и И. А. Бодуэн де Куртенэ в России. Особенно сильной оппозиция компаративизму как всеобъемлющей методологии всегда была во Франции и, шире, в обладавших культурным единством франкоязычных странах, в число которых входили также франкоязычная часть Швейцарии и Бельгии. Здесь никогда не исчезали традиции грамматики Пор-Рояля, сохранялся интерес к изучению общих свойств языка, к универсальным теориям. Именно здесь и появился «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, ставший началом нового этапа в развитии мировой науки о языке.
Фердинанд де Соссюр (1857–1913) прожил внешне небогатую событиями, но полную внутреннего драматизма жизнь. Ему так и не довелось узнать о мировом резонансе его идей, которые он при жизни не собирался публиковать и даже не успел последовательно изложить на бумаге.
Ф. де Соссюр родился и вырос в Женеве, основном культурном центре Французской Швейцарии, в семье, давшей миру нескольких видных ученых. С юности он интересовался общей теорией языка, однако в соответствии с традициями его эпохи специализацией молодого ученого стала индоевропеистика. В 1876–1878 гг. он учился в Лейпцигском университете, тогда ведущем центре незадолго до этого сформировавшегося младограмматизма; там в это время работали К. Бругман, Г. Остхоф, А. Лескин. Затем, в 1878–1880 гг., Ф. де Соссюр стажировался в Берлине. Главный труд, написанный им в период пребывания в Германии, — книга «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках», законченная автором в возрасте 21 года. Это была единственная книга Ф. де Соссюра, изданная при его жизни.
Как пишет о «Мемуаре» академик А. А. Зализняк, это — «книга исключительной судьбы. Написанная двадцати летним юношей, она столь сильно опередила свое время, что оказалась в значительной мере отвергнутой современниками и лишь 50 лет спустя как бы обрела вторую жизнь… Эта книга справедливо рассматривается как образец и даже своего рода символ научного предвидения в лингвистике, предвидения, основанного не на догадке, а представляющего собой естественный продукт систематического анализа совокупности имеющихся фактов». Темой книги было установление первоначальной системы индоевропейских гласных и сонантов в связи с теорией индоевропейского корня. Многое здесь уже было установлено предшественниками Ф. де Соссюра — младограмматиками. Однако им был сделан принципиально новый вывод, который, как пишет А. А. Зализняк, «состоял в том, что за видимым беспорядочным разнообразием индоевропейских корней и их вариантов скрывается вполне строгая и единообразная структура корня, а выбор вариантов одного и того же корня подчинен единым, сравнительно простым правилам». В связи с этим Ф. де Соссюр выдвинул гипотезу о существовании в праиндоевропейском языке так называемых ларингалов — особого типа сонантов, не сохранившихся в известных по текстам языках, вводившихся исключительно из соображений системности. Фактически речь шла об особых фонемах, хотя этого термина в современном смысле тогда еще не было. Идея системности языка, впоследствии ставшая для Ф. де Соссюра основополагающей, проявилась уже в этой ранней работе. Эта идея резко отличалась от методологических принципов младограмматиков, работавших с изолированными историческими фактами. Лишь после изданной в 1927 г. работы Е. Куриловича, подтвердившего реальность одного из ларингалов данными вновь открытого хеттского языка, гипотеза Ф. де Соссюра получила развитие в индоевропеистике.
«Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» опубликован на русском языке в наиболее полном издании работ ученого: Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 302–561.
Пребывание Ф. де Соссюра в Германии оказалось омраченным его конфликтом с К. Бругманом и Г. Остхофом, не признававшими его новаторские идеи. В 1880 г., защитив диссертацию, Ф. де Соссюр переехал в Париж, где работал вместе со своим учеником А. Мейе и познакомился с И. А. Бодуэном де Куртенэ. В 1891 г. он вернулся в Женеву, где до конца жизни был профессором университета. Почти вся деятельность ученого в Женевском университете была связана с чтением санскрита и курсов по индоевропеистике, и лишь в конце жизни, в 1907–1911 гг., он прочел три курса по общему языкознанию. Все эти годы внешне выглядели как жизнь неудачника, не сумевшего в условиях непризнания остаться на уровне своей юношеской книги. Он опубликовал лишь несколько статей (не считая мелких рецензий и заметок), а дошедшие до нас его рукописи в основном состоят из черновых и неоконченных набросков. Часть опубликованного и рукописного наследия Ф. де Соссюра вошла в упомянутый том «Труды по языкознанию». Основу его знаменитой книги составили его устные импровизации перед студентами, которые профессор и не думал не только издавать, но и записывать. Он говорил одному из учеников по поводу своих общетеоретических идей: «Что же касается книги на эту тему, то об этом нельзя и помышлять. Здесь необходимо, чтобы мысль автора приняла завершенные формы». К концу жизни ученый жил очень замкнуто. В 1913 г. он умер после тяжелой болезни, забытый современниками.
Посмертная судьба Ф. де Соссюра оказалась значительно более счастливой благодаря его младшим коллегам Ш. Балли и А. Сеше, о взглядах которых будет говориться ниже. На основе сделанных студентами записей лекций Ф. де Соссюра они подготовили «Курс общей лингвистики», изданный впервые в 1916 г. Курс не был простым воспроизведением какого-либо из студенческих конспектов. По сути заново, на основе значительной перекомпоновки фрагментов из разных записей разных курсов (три курса Ф. де Соссюра довольно значительно отличались друг от друга), с дописыванием значительных фрагментов, Ш. Балли и А. Сеше подготовили знаменитую книгу. Например, широко известная фраза, которой кончается курс: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя», — не зафиксирована ни в одном из конспектов и, по-видимому, дописана публикаторами. По сути «Курс общей лингвистики» представляет собой сочинение трех авторов, однако Ш. Балли и А. Сеше скромно отошли в тень в память о покойном старшем коллеге. Но вопрос о разграничении авторства нельзя считать главным: книга в том виде, в каком она вышла, является цельным произведением и именно оно получило мировую известность.
Книга «Курс общей лингвистики» быстро стала очень популярной. И в наши дни некоторые историки науки сравнивают ее значение со значением теории Н. Коперника. С конца 20-х гг. она начала переводиться на иностранные языки, причем первым таким языком стал в 1928 г. японский. В русском переводе А. М. Сухотина она издавалась в СССР дважды: в 1933 г. отдельной книгой и в 1977 г. в составе «Трудов по языкознанию» (с. 31—273).
Ф. де Соссюр, крайне неудовлетворенный состоянием современной ему лингвистической теории, строил свой курс на принципиально новых основах. Курс открывается определением объекта науки о языке. В связи с этим вводятся три важнейших для концепции книги понятия: речевая деятельность, язык и речь (по-французски соответственно langage, langue, parole; в литературе на русском, английском и других языках эти термины нередко встречаются без перевода).
Понятие речевой деятельности исходно, и ему не дается четкого определения. К ней относятся любые явления, традиционно рассматриваемые лингвистикой: акустические, понятийные, индивидуальные, социальные и т. д. Эти явления многообразны и неоднородны. Цель лингвиста — выделить из них главные: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием для всех прочих проявлений речевой деятельности… Язык — только определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой деятельности. Он является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка». «Язык представляет собою целостность сам по себе».
Языку противопоставляется речь. По сути это все, что имеется в речевой деятельности, минус язык. Противопоставленность речи языку проводится по ряду параметров. Прежде всего язык социален, это общее достояние всех говорящих на нем, тогда как речь индивидуальна. Далее, речь связана с физическими параметрами, вся акустическая сторона речевой деятельности относится к речи; язык же независим от способов физической реализации: устная, письменная и пр. речь отражает один и тот же язык. Психическая часть речевого акта также включается Ф. де Соссюром в речь; здесь, впрочем, как мы увидим дальше, такую точку зрения ему не удается последовательно провести. Язык включает в себя только существенное, а все случайное и побочное относится к речи. И, наконец, подчеркивается: «Язык не деятельность говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим». Нетрудно видеть, что такая точка зрения прямо противоположна концепции В. фон Гумбольдта. Согласно Ф. де Соссюру, язык — именно ergon, а никак не energeia.
Указывается, что язык — «социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду» и что «язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению». Тем самым впервые последовательно формулировался подход к языку как явлению, внешнему по отношению к исследователю и изучаемому с позиции извне. Такой подход, вполне соответствовавший господствовавшей общенаучной парадигме той эпохи, отходил от привычной традиции антропоцентризма, эксплицирования опоры на интуицию языковеда, разграничивал позиции носителя языка и исследователя. Недаром Ф. де Соссюр приводит такой пример: «Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их механизмом», хотя традиционный подход к так называемым мертвым языкам вроде латыни или санскрита был совершенно иным: грамматист «вживался» в эти языки, ставя себя в позицию говорящего или хотя бы пишущего на них.
Такой подход однако проводился Ф. де Соссюром не до конца. Он исходил из объективности существования языка, указывая: «Языковые знаки хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они — не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, локализующиеся в мозгу». Тем самым из лингвистики языка устраняется все физическое, но не все психическое, а антропоцентрический подход к языку устраняется у Ф. де Соссюра в отличие от ряда его последователей не полностью. Однако, как мы увидим дальше, эта точка зрения у самого Ф. де Соссюра не свободна от противоречий.
Нельзя сказать, что язык в соссюровском смысле ранее не изучался. Уже выделение парадигм греческого склонения или спряжения у александрийцев — типичный пример чисто языкового подхода: выделяется фрагмент общей для всех носителей языка системы. Новизна была не в самом по себе обращении внимания на языковые факты (неосознанно им уделялось значительное внимание и раньше), а в последовательном их отграничении от речевых. Именно такое строгое разграничение дало вскоре возможность провести четкую грань между фонологией и фонетикой.
Разграничение языка и речи (в отличие от разграничения синхронии и диахронии сразу принятое большинством лингвистов) не столько расширило, сколько сузило объект лингвистики, но в то же время сделало его более четким и обозримым. В «Курсе общей лингвистики» одна из глав посвящена отделению «внутренней лингвистики», лингвистики языка, от «внешней лингвистики», изучающей все то, «что чуждо его организму, его системе». Сюда отнесены «все связи, которые могут существовать между историей языка и историей расы или цивилизации», «отношения, существующие между языком и политической историей», история литературных языков и «все то, что имеет касательство к географическому распространению языков и к их дроблению на диалекты». Нетрудно видеть, что такой подход был прямо противоположен таким направлениям современной Ф. де Соссюру науки, как школа «слов и вещей» или «лингвистическая география», которые пытались преодолеть методологический кризис уходом во внешнелингвистическую проблематику. Ф. де Соссюр прямо отмечает, что к внешней лингвистике относится и такая многократно изучавшаяся проблема, как заимствования: коль скоро слово вошло в систему языка, уже не имеет значения с точки зрения этой системы, как слово в ней появилось.
Ф. де Соссюр подчеркивал, что внешняя лингвистика не менее важна и нужна, чем внутренняя, но само это разграничение давало возможность сосредоточиться на внутренней лингвистике, игнорируя внешнюю. Хотя среди лингвистов послесоссюровской эпохи были ученые, активно занимавшиеся помимо внутреннелингвистических проблем и внешнелингвистическими (часть пражцев, Е. Д. Поливанов), однако в целом лингвистика первой половины XX в. могла сосредоточиться на круге внутреннелингвистических вопросов. Сам же Ф. де Соссюр дважды в программу своего курса включал заключительную лекцию на тему «Лингвистика речи» и оба раза не прочитал ее.
Из чего же строится язык, согласно Ф. де Соссюру? Он пишет: «Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнить с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем». В связи с этим лингвистика языка рассматривается как главная часть еще не созданной науки, изучающей знаки вообще, эту науку Ф. де Соссюр назвал семиологией. Аналогичные идеи развивал в этот период не только он. Еще раньше его об этом писал американский ученый Ч. С. Пирс (1839–1914), идеи которого однако остались Ф. де Соссюру неизвестными. Пирс предложил для данной науки другой термин — «семиотика», который в конечном итоге и закрепился. Если другие науки связанны с лингвистикой лишь косвенно, через речь, то семиология (семиотика) должна описывать основные свойства знаков, в том числе и языковых.
Знак, согласно Ф. де Соссюру, двусторонняя единица. Ф. де Соссюр отверг традиционную точку зрения, восходившую еще к Аристотелю, согласно которой языковая единица, прежде всего слово, непосредственно связана с тем или иным элементом действительности («слово называет предмет»). Он писал: «Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является… психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств». Позже в тексте курса однако имеющие явно психические ассоциации термины «понятие» и «акустический образ» заменяются на более нейтральные: соответственно на «означаемое» и «означающее». Две стороны знака неотделимы друг от друга так же, как две стороны листа бумаги.
Среди свойств знака выделяются два основных: произвольность и линейность. Многовековой спор платоновской и аристотелевской традиций Ф. де Соссюр как бы прекратил естественным для эпохи позитивизма принятием аристотелевской точки зрения в самой последовательной ее форме: означаемое с означаемым не имеют никакой естественной связи; звукоподражания и подобная им лексика, если и имеет иногда какую-то связь такого рода, «занимают в языке второстепенное место». Линейность характеризует лишь одну сторону знака — означаемое — и подразумевает его протяженность, имеющую одно измерение.
Следующий вопрос — противоречие между неизменностью и изменчивостью знака. С одной стороны, знак навязывается по отношению к пользующемуся им коллективу. По словам Ф. де Соссюра, «языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом; общество принимает язык таким, какой он есть». Из этого положения, в частности, следует тезис о невозможности какой-либо сознательной языковой политики, подвергавшийся в дальнейшем критике, особенно в советской лингвистике, тем более что в связи с этим Ф. де Соссюр прямо пишет про «невозможность революции в языке». Подчеркивается, что «язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени». «Сопротивление коллективной косности любым языковым инновациям» — реальный факт, тонко подмеченный Ф. де Соссюром, но в то же время он не мог не признавать, что инновации все же существуют и всякий функционирующий в обществе язык меняется. Любопытно, что Ф. де Соссюр делает в связи с этим прогноз о будущем ставшего популярным незадолго до создания его курса языка эсперанто: если он получит распространение, то начнет изменяться. Прогноз подтвердился.
Выход между неизменчивостью и изменчивостью Ф. де Соссюр находит во введении диалектического принципа антиномии (влияние диалектики Г. Гегеля на «Курс» не раз отмечалось). Языковой знак может использоваться, только оставаясь неизменным, и в то же время он не может не меняться. При изменении знака происходит сдвиг отношения между означаемым и означающим.
Данное диалектическое противоречие тесно связано со вторым знаменитым противопоставлением курса: противопоставлением синхронии и диахронии. Введение последнего дало возможность коренным образом изменить всю направленность лингвистики XX века по сравнению с тем, что было принято в предыдущем веке.
Ф. де Соссюр выделил две оси: ось одновременности, где располагаются сосуществующие во времени явления и где исключено вмешательство времени, и ось последовательности, где каждое отдельное явление располагается в историческом развитии со всеми изменениями. Важность выделения осей он считал основополагающей для всех наук, пользующихся понятием значимости (см. ниже). По его мнению, в связи с двумя осями необходимо различать две лингвистики, которые никак не должны совмещаться с друг другом. Эти две лингвистики названы синхронической (связана с осью одновременности) и диахронической (связана с осью последовательности), а состояние языка и фаза эволюции — соответственно синхронией и диахронией.
Безусловно, соответствующее различие неявно учитывалось и до Ф. де Соссюра. Он сам вполне справедливо упоминает о строго синхронном характере грамматики Пор-Рояля; как мы выше отмечали, до XVIII в. вся лингвистика была в своей основе синхронной. Понимание различий между двумя видами лингвистического описания наблюдалось и в науке XIX в., особенно четко — у Г. Пауля, который писал, что прежде чем изучать историю языка, надо как-то описать отдельные его состояния. Описательная лингвистика у Г. Пауля и раннего И. А. Бодуэна де Куртенэ — это прежде всего синхронная лингвистика. Однако разграничение Ф. де Соссюра, проведенное с предельной последовательностью, имело методологическое значение в двух отношениях.
Во-первых, дососсюровская лингвистика нередко смешивала синхронию и диахронию. Типичный пример — традиционное описание словообразования, где постоянно смешивались продуктивные, действующие в данный момент времени, модели и «окаменевшие» остатки моделей прошлого, на равных правах изучались реальные корни и аффиксы и упрощенные элементы былых эпох. Другой пример — упомянутое выше изучение заимствований. Во-вторых, что еще важнее, менялась система приоритетов. Описательная лингвистика если и учитывалась, то лишь как «нижний этаж» языкознания, как более практическая, чем научная дисциплина. Как мы уже отмечали, она считалась занятием, достойным автора гимназического учебника или чиновника колониальной администрации, а не университетского профессора. К тому же описательной лингвистике полагалось лишь регистрировать факты, объяснение которых могло быть, по мнению науки XIX в., лишь историческим (в странах франкоязычной культуры, правда, последняя точка зрения не проводилась столь последовательно, как в Германии). «Уравнивание» синхронической лингвистики с диахронической реабилитировало первую.
Реально Ф. де Соссюр пошел еще дальше. Хотя в отличие от внешней лингвистики в «Курсе» имеется большой раздел, посвященный диахронической лингвистике (и сам Ф. де Соссюр почти всю свою научную деятельность посвятил ей), выдвинутое им представление о системности синхронии и нееистемности диахронии как бы ставило первую выше второй. Кроме того, в «Курсе» прямо говорится: «Лингвистика уделяла слишком большое место истории, теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики (грамматики типа Пор-Рояля — В. А.), но уже понятой в новом духе, обогащенной новыми приемами и обновленной историческим методом, который, таким образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния языка». Итак, речь идет не просто об уравнении двух лингвистик, а о новом витке спирали, о переходе на новом уровне к преимущественно синхронной лингвистике. Как разграничение языка и речи давало возможность временно отвлечься от существования лингвистики речи, так и разграничение синхронии и диахронии открывало путь к сосредоточению на синхронической лингвистике, к началу XX в. по теоретическому и особенно методологическому уровню значительно отстававшей от диахронической.
Такой подход казался слишком нетрадиционным даже для многих языковедов, стремившихся выйти за рамки младограмматизма. Видная советская лингвистка 20—30-х гг. Р. О. Шор, по инициативе и под редакцией которой «Курс» впервые был издан по-русски, писала, что данный компонент соссюровской концепции отражает «стремление обосновать научность неисторичного описательного подхода к языку». Не принял именно это положение и А. Мейе, в целом высоко ценивший своего учителя. Идея об историзме как обязательном свойстве гуманитарного исследования и о превосходстве исторической лингвистики над описательной многим казалась незыблемой. Однако именно отказ от нее дал возможность науке о языке выйти из теократического и методологического кризиса, в котором она оказалась в начале XX в. С другой стороны, многие ученые не согласились с тезисом Ф. де Соссюра о несистемности диахронии, случайном характере языковых изменений; см. его слова: «Изменения никогда не происходят во всей системе в целом, а лишь в том или другом из ее элементов, они могут изучаться только вне ее». Как мы будем еще говорить, очень скоро в структурной лингвистике появился системный подход к диахронии.
Отметим и то, что концепция Ф. де Соссюра не только не разрешила вызывавший столько споров вопрос о причинах языковых изменений, но просто сняла его с повестки дня. Ф. де Соссюр подчеркивал «случайный характер всякого состояния». При произвольной связи означаемого с означающим языковое изменение в принципе может быть каким угодно, лишь бы оно было принято языковым коллективом. Безусловно, и такая точка зрения удовлетворяла не всех, иной была, например, концепция Е. Д. Поливанова.
Понятие синхронии у Ф. де Соссюра было в определенной степени двойственным. С одной стороны, она понималась как одновременное существование тех или иных явлений, как некоторое состояние языка, или, как позже стали писать, «языковой срез». Однако в один и тот же момент времени в языке могут сосуществовать разносистемные явления, а также явления с диахронической окраской: архаизмы, неологизмы и пр. С другой стороны, подчеркивалась системность синхронии, полное отсутствие в ней фактора времени. Двойственное понимание синхронии давало возможность выбора одной из более последовательных точек зрения: либо синхронию можно было понимать как состояние языка, либо как систему языка. Первый подход был позже свойствен пражцам, второй глоссематикам, хотя те и другие шли от концепции Ф. де Соссюра.
В связи с противопоставлением синхронии и диахронии в «Курсе» рассматривается вопрос о законах в лингвистике, вызывавший столько споров в предшествующий период. Ф. де Соссюр подчеркивает, что единого понятия такого рода не существует, законы в синхронии и диахронии принципиально различны. Закон в диахронии понимается у Ф. де Соссюра в целом так же, как и у младограмматиков: он императивен, «навязан языку», но не является всеобщим и имеет лишь частный характер. Прямо противоположный характер имеют законы в синхронии, не признававшиеся наукой XIX в. — они общи, но не императивны. Синхронический закон «только констатирует некое состояние». В целом же Ф. де Соссюр, как и его непосредственные предшественники — поздние младограмматики, относился к понятию закона достаточно осторожно и подчеркивал, что точнее следует говорить просто о синхронических и диахронических фактах, которые не являются законами в полном смысле слова.
Переходя к основным принципам синхронической лингвистики, Ф. де Соссюр подчеркивает, что «составляющие язык знаки представляют собой не абстракции, а реальные объекты», находящиеся в мозгу говорящих. Однако он указывает, что единицы языка нам непосредственно не даны, что нельзя считать таковыми, например, слова или предложения. В этом пункте «Курс общей лингвистики» решительно порывает с предшествующей традицией, считавшей языковые единицы, прежде всего слова, заранее заданными (что не исключало возможности выработки критериев членения на слова в отдельных неясных случаях). Если дососсюровская лингвистика шла от понятия языковой единицы, то Ф. де Соссюр шел преясде всего от нового для языкознания понятия значимости.
Для уяснения этого понятия Ф. де Соссюр проводит аналогию языка с более простой семиотической системой — игрой в шахматы: «Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемого им поля на доске и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан… Любой предмет, не имеющий с ним никакого сходства, может быть отождествлен с конем, если только ему будет придана та же значимость». То же и в языке: несущественно, имеет ли языковая единица звуковую или какую-либо иную природу, важна ее противопоставленность другим единицам.
Понятию значимости Ф. де Соссюр придавал исключительную важность: «Понятие значимости в конечном счете покрывает и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и понятие языковой реальности». Согласно Ф. де Соссюру, язык — «система чистых значимостей»; «Язык есть система, все элементы которой образуют целое, а значимость одного элемента проистекает только из одновременного наличия прочих». И далее: «В языке нет ничего, кроме различий». Такое понимание языка не согласуется с идеями более ранних разделов «Курса» о языке как хранящейся в мозгу системе и об означающем как «акустическом образе». И еще одно существенное противоречие: то знак имеет собственные свойства, то в нем нет ничего, кроме отношения к другим знакам.
Другое важнейшее для Ф. де Соссюра понятие, наряду со значимостью, — понятие формы, противопоставленной субстанции. И мыслительная, и звуковая субстанции сами по себе аморфны и неопределенны, но язык служит посредствующим звеном между мыслью и звуком, накладывая на них некоторую сетку отношений, то есть форму. Согласно Ф. де Соссюру, «язык — это форма, а не субстанция». В этом месте «Курса» совершенно очевидно влияние В. фон Гумбольдта, проявляющееся и в терминологии. Расходясь с В. фон Гумбольдтом по проблеме energeia — ergon, Ф. де Соссюр сошелся с ним в данном пункте.
Ф. де Соссюр не отрицал важности проблемы языковых единиц, в частности, слова; он замечал: «Слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка». Безусловно, здесь признается психолингвистическая важность слова. Это замечание также не согласуется с идеей о том, что в языке нет ничего, кроме различий. Однако в первую очередь для Ф. де Соссюра важна система различий, система значимостей, то есть языковая структура (самого термина «структура» в «Курсе» нет, но лингвистика, следовавшая его идеям, очень скоро стала называться структурной). Единицы при таком подходе — лишь нечто производное: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу». Общее признание значимостного подхода в структурной лингвистике не означало единства точек зрения. Как и в случае с синхронией и диахронией, можно было приходить к разным точкам зрения, отталкиваясь от разных высказываний Ф. де Соссюра, приходить к разным выводам, либо считая язык системой чистых отношений (глоссематика), либо признавая за единицами собственные свойства (пражцы, Московская школа).
Среди отношений между членами языковой системы выделяются два основных типа. Во-первых, это отношения, основанные на линейном характере языка, отношения элементов, которые «выстраиваются один за другим в потоке речи». Такие отношения Ф. де Соссюр назвал синтагматическими. Другой тип отношений связан с тем, что языковые единицы ассоциируются с другими единицами в памяти (например, связываются между собой однокоренные слова, слова со сходством значения и т. д.). Такие отношения Ф. де Соссюр назвал ассоциативными. Позднее, в связи с полным отказом от психологизма в структурной лингвистике, вместо ассоциативных отношений стали говорить о парадигматических, при этом такие отношения обычно понимали более узко, чем ассоциативные отношения у Ф. де Соссюра: лишь как отношения, имеющие некоторое формальное выражение. Отметим, что выдвигая в общей теории принцип «от отношений к единицам», Ф. де Соссюр при любой конкретизации своей теории, в том числе при выделении типов отношений, возвращался к более привычному пути «от единиц к отношениям». Остается неясным, как можно было бы определить два типа отношений при последовательном проведении принципа «в языке нет ничего, кроме различий». Но само выделение двух типов отношений выявляло два основных класса явлений, которые описывались в традиционных грамматиках начиная с александрийцев. В связи с этим, не отрицая традиционного разделения грамматики на морфологию и синтаксис, Ф. де Соссюр предлагает другое членение: на теорию синтагм и теорию ассоциаций; в пределах морфологии, синтаксиса и лексикологии содержится проблематика, относящаяся как к первой, так и ко второй теории.
Наименее интересны в «Курсе общей лингвистики» разделы, посвященные диахронической лингвистике, а также фонологии. Здесь Ф. де Соссюр был менее оригинален. В общетеоретической части говорится о том, что «фонемы — это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности», однако фонологический раздел книги гораздо более традиционен, основное внимание здесь уделено тем признакам, которые Ф. де Соссюр однозначно относил к речевым (вплоть до строения гортани). Хотя в диахронической части «Курса» говорится и о лингвистической географии, и о лингвистической палеонтологии, и о других сюжетах, традиционно включавшихся в подобные издания, но вопреки этому диахроническая часть (и книга вообще) завершается уже упоминавшейся знаменитой фразой: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя».
Концепция Ф. де Соссюра содержала в себе немало противоречий. Некоторые из них определялись историей подготовки к печати «Курса», составленного из разнородных и читавшихся в разное время лекций. Но многое было связано и с тем, что швейцарский ученый не успел проработать свою концепцию до конца (из-за чего его лекции и не предназначались к печати). Но и публикация «Курса» в том виде, в котором он стал известен мировой науке, значила очень много. Ряд идей там оказывался совершенно новым: достаточно назвать попытку рассмотрения языка как системы отношений или принципы семиологии (уже, правда, разрабатывавшиеся Ч, Пирсом, концепция которого, однако, вовремя не получила известности). Многие вопросы были впервые четко поставлены в «Курсе». Многие проблемы, над которыми бились поколения языковедов, были Ф. де Соссюром либо более или менее убедительно разрешены, как проблема социального и индивидуального в языке, либо просто «закрыты» (по крайней мере, для нескольких поколений лингвистов), как проблемы естественной связи звучания и значения, причин изменений в языке.
Но, пожалуй, главным результатом появления «Курса общей лингвистики» стало выделение круга первоочередных задач науки о языке. Разграничения языка и речи, синхронии и диахронии дали возможность выделить сравнительно узкую дисциплину с определенными границами — внутреннюю синхронную лингвистику. Ее проблематика ограничивалась одним из трех кардинальных вопросов языкознания, а именно вопросом «Как устроен язык?». Проблемами «Как развивается язык?» и «Как функционирует язык?», конечно, занимались тоже, но они отошли на второй план. Ограничение тематики давало возможность в этих узких рамках поднять теорию и методологию лингвистики на более высокий уровень.
Конечно, в резком изменении характера науки о языке (как сейчас принято говорить, в смене научной парадигмы) сыграл роль не только Ф. де Соссюр. Как обычно бывает в таких случаях, подобные идеи «носились в воздухе» и проявлялись одновременно у разных ученых. Выше уже говорилось об этом в связи с Ф. Ф. Фортунатовым и особенно с И. А. Бодуэном де Куртенэ. Однако именно в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра (а точнее, Ф. де Соссюра, Ш. Балли и А. Сеше) новые подходы были сформулированы наиболее четко, и влияние именно этой книги оказалось наиболее значительным.
Литература
Холодович А. А. О «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра. // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 9—29.
Зализняк А. А. О «Мемуаре» Ф. де Соссюра // Там же, с. 289–301.
Холодович А. А. Фердинанд де Соссюр. Жизнь и труды // Там же, с. 600–671.
Слюсарева Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М., 1975.
Антуан Мейе и Жозеф ВандриесК началу XX в. Германия начинает терять позиции центра мировой науки о языке, а страны, ранее находившиеся на периферии ее развития, начинают выдвигать крупных ученых. В это время одной из ведущих лингвистических стран становится Франция, где долгое время определяющее значение для развития лингвистики имела деятельность А. Мейе и Ж. Вандриеса. Эти ученые прямо принадлежали к школе Ф. де Соссюра: А. Мейе непосредственно учился у него и посвятил учителю свою самую известную книгу, а Ж. Вандриес был учеником А. Мейе. Тем не менее они, восприняв ряд соссюровских идей, оставались учеными более традиционного склада, компаративистами по преимуществу.
Антуан Мейе (1866–1936) был признанным главой французской лингвистики первой трети XX века, долгое время он оставался непременным секретарем, то есть фактическим руководителем Парижского лингвистического общества. Библиография его трудов включает 24 книги и 540 статей. В большинстве они посвящены разным аспектам индоевропеистики. А. Мейе был компаративистом широкого профиля, автором исследований почти по всем группам индоевропейских языков. Совместно со своим учеником М. Коэном он был главным редактором фундаментального коллективного издания «Языки мира», содержащего очерки большого количества известных науке того времени языков; в предисловии к изданию А. Мейе изложил принципы классификации языков. В книге «Языки современной Европы» он затрагивал проблемы социолингвистики. Есть у него и публикации общетеоретического и методологического характера. Еще при жизни А. Мейе стал как бы эталоном видного и авторитетного в мировой науке языковеда, а для ниспровергателей традиций вроде Н. Я. Марра — образцовым представителем «старой» науки. Показательно и то, что на русском языке изданы четыре книги А. Мейе, вероятно, больше, чем какого-либо другого западного лингвиста, а самый знаменитый его труд, «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков», выдержал с 1911 по 1938 г. три русских издания (во Франции при жизни автора книга выходила семь раз).
А. Мейе не был чужд научного новаторства, но в целом его деятельность во многом была завершением и подведением итогов лингвистики XIX в., в основе которой лежал сравнительно-исторический метод. Деятельность Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. Шлейхера, младограмматиков и других ученых, создававших и совершенствовавших этот метод, была в основном завершена и обобщена А. Мейе. Его «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков», впервые изданное в 1903 г. и перерабатывавшееся при переизданиях, в четкой и доступной форме излагало результаты, полученные индоевропеистикой XIX в. Даже сейчас, когда в его фактической стороне кое-что устарело, она не потеряла значения, оставаясь хорошим введением в индоевропеистическую проблематику. В книге также подробно обсуждаются проблемы метода компаративного исследования.
В целом А. Мейе сохранял как общую направленность компаративных исследований, выработанную его предшественниками, так и совокупность рабочих приемов компаративистики, накопленную за столетие. В большинстве случаев А. Мейе следует за младограмматиками как в общем понимании истории языков, так и в конкретных вопросах. Однако ряд младограмматических идей он довел до большей последовательности, а по некоторым вопросам отошел от младограмматической точки зрения.
Он в полной мере сохранял общее для всей компаративистики XIX в. понимание языкового родства и сформулированное А. Шлейхером понятие индоевропейского праязыка (индоевропейского языка, как его называет А. Мейе): «Чтобы установить принадлежность данного языка к числу индоевропейских, необходимо и достаточно, во-первых, обнаружить в нем некоторое количество особенностей, свойственных индоевропейскому, таких особенностей, которые были бы необъяснимы, если бы данный язык не был формой индоевропейского языка, и, во-вторых, объяснить, каким образом в основном, если не в деталях, строй рассматриваемого языка соотносится с тем строем, который был у индоевропейского языка». То есть здесь индоевропейский язык понимается как реально существовавший язык. Однако несколькими страницами ниже автор завершает первую, общетеоретическую главу книги фразой, где «индоевропейским языком» называется нечто принципиально иное: «Здесь мы будем рассматривать только одно: соответствия между различными индоевропейскими языками, отражающие древние общие формы; совокупность этих соответствий составляет то, что называется индоевропейским языком». То есть индоевропейский язык — не реальный язык, а конструкт, создаваемый компаративистами, неизбежно отличающийся от когда-то существовавшего языка.
От прямолинейных представлений А. Шлейхера, искренне считавшего праязык «нам совершенно известным» и написавшего на нем басню, отошли уже младограмматики. Но они еще не решались прямо сформулировать противоположную точку зрения. Это сделал лишь А. Мейе. Реальный праязык существовал, и в то же время мы ничего о нем сказать не можем, а работают компаративисты лишь с системами соответствий. Тем самым представление о действительном праязыке оказывается и не очень нужным, сохраняемым как бы по традиции. Здесь, безусловно, позитивизм науки конца XIX — начала XX вв. был доведен до крайности.
Сходным образом видоизменяется у А. Мейе и понятие языкового закона. Если у младограмматиков, особенно в их раннем «Манифесте», оно имело принципиальное значение и сохраняло связь с понятием закона в естественных науках, то у А. Мейе оно вступает в полное согласие с принципами позитивизма: «Что обычно называется фонетическим законом, это, следовательно, только формула регулярного соответствия либо между двумя последовательными формами, либо между двумя диалектами одного и того же языка» (впрочем, к подобному пониманию закона под конец пришли и младограмматики). Опять-таки предлагалась формулировка, в большей степени учитывавшая реальную сложность объекта, но и знаменующая отказ от каких-либо широких и всеобъемлющих построений. Само понятие закона, как и понятие реального праязыка, как бы оказывалось сохраняемым лишь по традиции. А. Мейе, как и все его предшественники, безусловно считал, что деятельность компаративиста связана с реконструкцией того, что происходило на самом деле (представление о науке, в частности, о лингвистике как о чистой игре появилось лишь в X в.), но вопрос о связи с реальностью все более отходил на задний план, сменяясь вопросами, связанными со строгостью и тщательностью процедур.
А. Мейе во многом учел критику младограмматизма со стороны «диссидентов индоевропеизма». Реально существовавший праязык понимался им не как нечто цельное, а как совокупность существовавших с самого начала диалектов, поэтому реконструкции его могут оказаться и не составляющими единой системы: где-то реконструируются черты одного диалекта, где-то — другого. «Возмущающие факторы», ограничивающие действие звуковых законов, у него не сводятся к одной только аналогии, как это в основном получалось у младограмматиков. Он учитывал и наличие «слов, имеющих особое произношение», вроде детских слов, формул вежливости, которые «отчасти не подчиняются действию фонетических соответствий». Еще важнее наличие заимствований из близкородственных языков и диалектов, которые трудно отличить от исконных слов, но которые нарушают регулярность соответствий. Наконец, большое значение А. Мейе придавал проблеме субстрата и выделял особо среди типов изменений языка ситуацию, «когда население меняет язык», что также усложняло выработанную младограмматиками схему.
Но в наибольшей степени А. Мейе расходился с младограмматиками во вопросу о соотношении индивидуального и социального в языке, здесь его точка зрения близка к точке зрения Ф. де Соссюра (отметим, что данная книга А. Мейе появилась раньше «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, однако обе книги могли отражать общие беседы и обсуждения проблем двумя их авторами, к тому же у них был общий источник идей — популярная в те годы во Франции социологическая теория Э. Дюркгейма). Если для младограмматиков единственной реальностью была индивидуальная психика, а язык как общественное достояние — абстракция, конструируемая лингвистами, то А. Мейе, как и Ф. де Соссюр, подчеркивал социальный характер языка. По взглядам А. Мейе, языковая система «составляет принадлежность каждого человека и не встречается в совершенно тождественном виде у прочих людей, но она имеет свою ценность лишь в той мере, в какой другие члены той социальной группы, к которой принадлежит данное лицо, располагают примерно схожими системами; в противном случае это лицо не было бы понято и не могло бы понять другого… Язык, будучи, с одной стороны, принадлежностью отдельных лиц, с другой стороны — навязывается им; благодаря этому он является реальностью не только физиологической и психической, но и прежде всего социальной. Язык существует лишь постольку, поскольку есть общество, и человеческие общества не могли бы существовать без языка».
Младограмматики (Г. Пауль) не могли последовательно удержаться на чисто индивидуалистической точке зрения там, где речь шла о языковых изменениях, и поэтому прибегали к особому понятию узуса, который в отличие от языка коллективен. Точка зрения А. Мейе давала возможность более простым и непротиворечивым образом объяснить процесс изменений в языке. Фактически в неявном виде здесь А. Мейе подходит к противопоставлению языка и речи; недаром, когда Ф. де Соссюр его сформулировал, А. Мейе вполне его принял.
Говоря о процессе изменений в языке, автор «Введения в сравнительное изучение индоевропейских языков» вполне в соответствии со взглядами младограмматиков подчеркивал эволюционность, непрерывность развития языка, соответствующий раздел так и называется «Лингвистическая непрерывность». Однако подчеркивается, что так происходит лишь при нормальном, спонтанном развитии языка, когда сохраняется «естественная преемственность поколений». Однако непрерывность нарушается в особых ситуациях, которые уже упоминались выше, когда население меняет язык, перенимая «язык победителей, иноземных колонистов или язык более цивилизованных людей, пользующийся особым престижем». Такая смена не только нарушает регулярность звуковых изменений, но и представляет собой случай дискретных изменений в языке.
В ряде случаев концепция А. Мейе обнаруживает близость к концепции Ф. де Соссюра. Близко у них соотношение между неизменностью и изменчивостью в языке, фактически говорит А. Мейе и о произвольности знака. Однако одно принципиальное положение соссюровской концепции А. Мейе никогда не принимал: он не мог согласиться с разделением синхронии и диахронии и тем более с жестким разграничением синхронной и диахронной лингвистики. Понимание языкознания как исторической науки у него сохранялось, хотя он иногда, как в упомянутой книге о языках Европы, писал и о современных языках. Отметим и значительный интерес А. Мейе к социальным условиям функционирования языка, а в связи с этим и к тому, что Ф. де Соссюр называл «внешней лингвистикой». Идея сосредоточения усилий лингвистов на внутренней синхронной лингвистике, объективно следовавшая из Концепции Ф. де Соссюра, не могла быть близкой А. Мейе.
Ученик А. Мейе Жозеф Вандриес (1875–1960), близкий к нему по взглядам, стал как бы его преемником в качестве признанного лидера французского языкознания. По главной специальности он также был индоевропеистом, однако более всего он известен как автор книги «Язык», впервые опубликованной в 1921 г. По жанру книга близка к учебнику введения в языкознание, она популярна и доходчива, но в то же время на хорошем научном уровне разъясняет читателю основные положения науки о языке. В 1937 г. появился ее русский перевод по инициативе и под редакцией Р. О. Шор с содержательными комментариями П. С. Кузнецова. Как и упомянутая выше книга А. Мейе, книга Ж. Вандриеса, написанная уже довольно давно, не потеряла своего значения.
Книга «Язык» содержит очерк сравнительно-исторического языкознания, описывает основные принципы фонетики, грамматики и семантики, однако наибольший интерес представляют разделы книги, посвященные социальному функционированию языка и социальным причинам лингвистических изменений. Здесь Ж. Вандриес выступает как один из предшественников тогда еще не выделившейся в особую дисциплину социолингвистики. Книга писалась уже после появления «Курса» Ф. де Соссюра и содержит в себе ряд соссюровских формулировок вроде того, что язык — система знаков. Однако, как и у А. Мейе, у Ж. Вандриеса нет ни строгого разграничения синхронии и диахронии, ни жесткого противопоставления внутренней и внешней лингвистики. Как раз в области внешней лингвистики автор наиболее оригинален. В то же время Ж. Вандриес уже не понимает лингвистику как чисто историческую науку и синхронные проблемы занимают в ней немалое место.
Как и А. Мейе, Ж. Вандриес понимал язык как общественное явление: «В любой общественной группе вне зависимости от ее свойств и величины язык играет важнейшую роль. Он — самая крепкая связь, соединяющая членов группы, и в то же время он — символ и защита группового единства». В связи с этим Ж. Вандриес оценивает и столь немодную в его время проблему происхождения языка: «Язык образовался в обществе. Он возник в тот день, когда люди испытали потребность общения между собой. Язык возникает от соприкосновения нескольких существ, владеющих органами чувств и пользующихся для своего общения средствами, которые им дает природа». Тем самым ученый продолжал концепцию происхождения языка от «общественного договора», идущую от Ж. Ж. Руссо (он сам это признавал). Однако, разумеется, Ж. Вандриес не пытался предлагать какие-то конкретные схемы происхождения и доисторического развития языков. Ж. Вандриес был одним из последних ученых (не считая, конечно, пытавшегося повернуть языкознание вспять Н. Я. Марра), еще уделявших внимание проблеме происхождения языка, затем она полностью выпала из поля зрения лингвистов и лишь в самые последние годы стал наблюдаться некоторый интерес к ней.
В связи с интересом к социальному функционированию языка Ж. Вандриес рассматривал и еще две немодные для того времени проблемы: языковой нормы и прогресса в языке. Впрочем, следует учитывать, что для Франции, где традиции времен «Грамматики Пор-Рояля» сохранялись больше, чем в других странах, такого рода интерес не был неожиданным.
Проблема нормы, имевшая первостепенную важность для лингвистических традиций и сохранявшая значение для А. Арно и К. Лансло, ушла на периферию науки о языке с формированием сравнительно-исторического метода. В XIX в. научная лингвистика по самому своему предмету была жестко отграничена от нормативной, а формирование структурной парадигмы не привело к какому-нибудь появлению интереса к нормативным проблемам (исключение, как будет дальше показано, составляла советская лингвистика, где такой интерес стимулировался практической работой по языковому строительству, и во многом Пражский кружок). Более того, если на ранних стадиях компаративизма еще сохранялось противопоставление более престижных языков культуры и письменности и более «примитивных» языков, то младограмматики окончательно покончили с таким делением, а сосредоточение послесоссюровской науки на внутренней лингвистике привело к идее о принципиальном равенстве всех языковых систем: литературных, диалектных, просторечных индивидуальных и т. д. Тем самым позиция лингвиста резко разошлась с позицией носителя языка (как писал один современный западный социолингвист, «языки равны только перед Богом и лингвистом»).
Ж. Вандриес в связи с социальным, групповым характером языков обращается к вопросу о норме. Он писал: «У каждого члена группы есть ощущение, что он говорит на определенном языке, который не является языком какой-либо из соседних групп. Таким образом, язык приобретает реальное существование в ощущении, общем у всех говорящих на нем. Это определение, на первый взгляд совершенно субъективное, опирается на тот факт, что к ощущению общности языка присоединяется у говорящих стремление к известному языковому идеалу, который каждый из говорящих старается осуществить в своей речи. Между членами одной и той же группы как бы существует установившееся молчаливое соглашение поддерживать язык таким, как это предписывается нормой». Важно и такое указание Ж. Вандриеса: «Каждый член данной языковой общины… всегда инстинктивно и бессознательно сопротивляется произволу в употреблении языка. Всякое нарушение обычного употребления языка со стороны отдельного говорящего сейчас же исправляется; смех наказывает виновника и отнимает у него желание повторить ошибку». Понятие нормы понимается Ж. Вандриесом шире, чем это принято в традиции: он подчеркивает, что норма существует не только в стандартных языках, но в любом диалекте и говоре. Более того, при отсутствии фиксации на бумаге она тем строже: если литературные языки допускают вариативность, то «говорящие на говорах почти никогда не колеблются».
В то же время любая норма не абсолютна, а относительна. Ж. Вандриес приходил к такому выводу: «Правильный язык — идеал, к которому стремятся, но которого не достигают; это — сила в действии, определяемая целью, к которой она движется; это — действительность в возможности, не завершающаяся актом; это — становление, которое никогда не завершается».
С проблемой нормы тесно связана и проблема прогресса в языке, также к началу XX в. исключенная из активного рассмотрения в языкознании. Отказ от стадиальных концепций, ни одну из которых не удалось доказать, в сочетании с позитивистским взглядом на мир привел ученых к этому времени к представлению о том, что вообще невозможно установить какие-либо общие закономерности в развитии строя языков. А. Мейе, как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, не признавал каких-либо классификаций языков, кроме генетической. С ростом знаний о так называемых «примитивных» языках, в частности индейских, стало окончательно ясно, что они ни по фонетике, ни по грамматике, ни даже по лексике принципиально не отличаются от языков «передовых» народов. Все это привело к представлениям о том, что вопрос о прогрессе или регрессе в языке, о степени развития того или иного языка вообще выходит за рамки науки. Здесь, как и по вопросу о норме, позиция лингвистов стала явно расходиться со «здравым смыслом» носителей языка.
Ж. Вандриес, обсуждая данный вопрос, занимает по нему чуждую крайностей и в целом разумную позицию. С одной стороны, он решительно отверг всякую стадиальность и всякие попытки связать прогресс или регресс в языке с языковым строем. Также он выступает против смешения языковых и внеязыковых критериев: «Эстетическая и утилитарная ценность языка не должны приниматься во внимание при оценке прогресса языка». Подвергает он сомнению и попытки вводить оценки на основании степени трудности того или иного языка для произношения и прочих квазиточных критериев, указывая на то, что такие критерии на деле достаточно субъективны. В целом не согласен Ж. Вандриес и с делением языков на «развитые» и «примитивные», хотя некоторые различия подобного рода он все же признает: «В этих языках (языках дикарей — В. А.) представлено лингвистическое состояние, на котором не отразилось почти совсем или в очень небольшой степени то, что мы называем культурой. Они изобилуют конкретными и частными категориями и этим отличаются от языков культурных народов, в которых все меньше частных категорий и все больше категорий общих и абстрактных». Последующие более объективные исследования семантики «языков дикарей» не подтвердили такого рода точку зрения.
Но с другой стороны, Ж. Вандриес против того, чтобы полностью отказаться от идеи прогресса в языке вообще. Он пишет: «Об абсолютном прогрессе, очевидно, не может быть речи… Некоторый относительный прогресс в истории языков все же можно отметить. Различные языки в различной степени приспособлены к различным состояниям культуры. Прогресс языка сводится к тому, что данный язык по возможности лучше приспособляется к потребности говорящих на нем». Говорить что-либо более конкретное по этому поводу ученый не берется.
Отметим еще одно место в книге Ж. Вандриеса, где некоторые идеи, идущие от А. Шлейхера, включаются в контекст антиномий соссюровского типа. В качестве «закона всякого развития языка» выделяется борьба двух противоположных тенденций к дифференциации и унификации языков. Дифференциация языков понимается вполне традиционно в соответствии с концепцией родословного древа. Однако Ж. Вандриес указывает на естественный предел такой дифференциации: «Уменьшая все сильнее объем групп, общению которых язык служит, эта дифференциация лишила бы язык права на существование; язык должен был бы уничтожиться, став непригодным для общения между людьми. Поэтому против стремления к дифференциации беспрерывно действует тенденция к унификации, восстанавливающая нарушенные отношения». Эту тенденцию не надо понимать в смысле образования смешанных языков в духе И. А. Бодуэна де Куртенэ или тем более Н. Я. Марра. Речь идет о вытеснении многих получающихся систем (говоров, диалектов, целых языков) теми или иными более престижными системами. Данная формулировка показывает, что Ж. Вандриес в большей степени, чем его учитель А. Мейе, имел склонность к формулированию общих законов языкового развития.
Книга Ж. Вандриеса «Язык» затрагивала широкий круг проблем. Ее автор стремился рассмотреть в ней все три главных вопроса языкознания: «Как устроен язык?», «Как функционирует язык?» и «Как развивается язык?». Но появилась книга уже тогда, когда после издания «Курса» Ф. де Соссюра лингвистика временно сосредотачивалась на рассмотрении только первой из данных проблем. Многое из проблематики книги надолго ушло на периферию науки о языке, что, конечно, не означает того, что сами проблемы от этого перестали существовать.
Литература
Сергиевский М. В. Антуан Мейе и его «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» // Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.
Кузнецов П. С. Комментарии // Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
Развитие концепции Ф. де Соссюра
В. Брёндаль., А. Гардинер., К. БюлерПосле Первой мировой войны европейская и американская лингвистика развивается прежде всего в рамках структурализма и под знаком обсуждения проблем, затронутых в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра. В разных странах складывается несколько школ, в той или иной мере развивавших новую лингвистическую парадигму. Помимо этого работали ученые, не создавшие школы, но также выступавшие как продолжатели того направления, которое впервые проявилось в книге Ф. де Соссюра. Именно о них и пойдет речь в этой главе.
Наше рассмотрение уместно начать, несколько нарушив хронологические рамки, со статьи датского ученого Вигго Брёндаля (1887–1942) «Структуральная лингвистика», появившейся в 1939 г. Ее автор, специалист по общему и романскому языкознанию, опубликовал несколько книг, в частности, изданную посмертно монографию по общей теории предлогов, но более всего он известен как автор рассматриваемой здесь статьи, по-русски изданной в составе хрестоматии В. А. Звегинцева. К 1939 г. структурализм уже занял прочные позиции в мировой науке о языке и стали достаточно ясны его основные черты, противостоящие языкознанию предшествующей эпохи, в первую очередь младограмматическому. Статья В. Брёндаля интересна четким и ясным суммированием основных черт, разграничивающих два направления в науке о языке, а также попыткой связать изменения в методологии лингвистики с изменениями в общенаучных представлениях и подходах, наметившихся в то же время..
Если несколько по-иному сгруппировать положения статьи В. Брёндаля, то можно выделить по крайней мере пять основных параметров, по которым он противопоставляет два указанных направления.
Во-первых, наука XIX в. «прежде всего исторична. Она изучает преимущественно происхождение и жизнь слов и языков, и ее внимание сосредоточено главным образом на этимологии и генеалогии». В лингвистике же XX в. «понятия синхронии языка… и структуры обнаружили свою необычайную важность». При этом В. Брёндаль обращает внимание на определенную противоречивость соссюровского понятия синхронии, которое может пониматься двояко. Он склонен считать, что «время… проявляется и внутри синхронии, где нужно различать статический и динамический момент». Однако возможно и другое понимание синхронии, для которого В. Брёндаль предлагает иные термины: «Может возникнуть и другой вопрос: нельзя ли предложить наряду с синхронией и диахронией панхронию или ахронию, т. е. факторы общечеловеческие, стойко действующие на протяжении истории и дающие о себе знать в строе любого языка».
Во-вторых, наука XIX в. (фактически, о чем В. Брёндаль не упоминает, лишь второй его половины) была «чисто позитивистской. Она интересуется почти исключительно явлениями, доступными непосредственному наблюдению, и, в частности, звуками речи… Всюду исходят из конкретного и чаще всего этим ограничиваются». Господствовал интерес «к мельчайшим фактам, к точному и скрупулезному наблюдению». В XX в. появилась «новая точка зрения, известная уже под названием структурализма, — название, которое подчеркивает понятие целостности». «Она удачно избегает трудностей, свойственных узкому позитивизму», центральное место в ней занимает понятие структуры. В. Брёндаль указывает, что не только в лингвистике, но «почти везде приходят к убеждению, что реальное должно обладать в своем целом тесной связью, особенной структурой»; приводятся примеры из физики, биологии, психологии.
В-третьих, наука XIX в. стала «наукой законополагающей». Центральное место в ней занимает понятие закона. «Этим законам приписывается абсолютный характер: с одной стороны, полагают, что они не имеют исключений… а с другой — в них видят истинные законы лингвистической природы, непосредственное отображение действительности». В лингвистике XX в. стараются не приписывать такую значимость отдельным изолированным законам: «Изолированный закон имеет только относительную и предварительную ценность. Закон, даже общий, не что иное как средство для понимания, для объяснения изучаемого предмета; законы, которые нужно рассматривать только как наши формулировки, часто несовершенные, всегда вторичны по отношению к необходимым связям, к внутренней когерентности объективной действительности». Иными словами, речь идет не столько о законах, сколько о моделях, которые как-то отражают действительность, но не столь непосредственно, как это предполагали в отношении законов А. Шлейхер и младограмматики.
В-четвертых, позитивистская лингвистика считала, что «единственно ценным методом является метод индукции, т. е. переход от частного к общему, и что за этими голыми фактами и непосредственными явлениями ничего не скрывается». Однако представление о том, что индуктивные обобщения основаны целиком на наблюдаемых фактах, иллюзорно: «Опыт и экспериментирование покоятся на гипотезах, на начатках анализа, абстракции и обобщения; следовательно, индукция есть не что иное, как замаскированная Дедукция». Лингвистика XX в. это открыто признала и основывается на дедукции.
В-пятых, во многом под влиянием общенаучной парадигмы своего времени лингвистика XIX в. считала, что «всякий язык постоянно изменяется, эволюционирует», а изменения в языке рассматривались как непрерывные. Но «нужно, наконец, признать очевидную прерывность всякого существенного изменения». Лингвистика XX в. учитывает «прерывистые изменения» и «резкие скачки из одного состояния в другое». Такие изменения в представлениях В. Брёндаль также связывает с общенаучным контекстом, указывая на понятие кванта в современной физике, понятие мутации в современной генетике.
Сопоставляя две научные парадигмы в языкознании, датский ученый отдает безусловное преимущество новой, позволяющей более правильно и адекватно понимать природу языка.
Другим ученым, рассматривавшим новую, структуралистскую проблематику, был английский языковед Алан Гардинер (1879–1963). По основной специальности египтолог, он также является автором двух общетеоретических книг «Теория речи и языка» и «Теория имен собственных». В первой из них, а также в статьях он рассматривал одну из важнейших проблем, поставленных Ф. де Соссюром, связанную с разграничением языка и речи.
А. Гардинер уточняет и делает более последовательной точку зрения Ф. де Соссюра. Он не склонен был рассматривать язык как систему чистых отношений. Также не считал он основополагающим для разграничения языка и речи противопоставление коллективного и индивидуального, поскольку язык может быть тем и другим: «Существует английский язык Шекспира, Оксфорда, Америки и английский без всяких уточнений». Ближе А. Гардинеру также содержащееся у Ф. де Соссюра понимание языка как объективной реальности, хранящейся в мозгу людей. А. Гардинер считает языком «собрание лингвистических привычек»; это «основной капитал лингвистического материала, которым владеет каждый, когда осуществляет деятельность „речи“.»
В то же время противопоставленная языку речь «в своем конкретном смысле означает то, что филологи называют „текстом“». «Речь… есть кратковременная, исторически неповторимая деятельность, использующая слова». Язык, согласно А. Гардинеру, содержится в речи и может быть вычленен из нее; однако после такого вычленения остается некоторый остаток, который является чисто речевым.
Эта концепция поясняется на примере предложения. А. Гардинер считал предложения сами по себе относящимися к речи. К языку же относятся, во-первых, слова, из которых строятся предложения, во-вторых, «общие схемы, лингвистические модели». Впрочем, А. Гардинер признает и принадлежность языку таких комбинаций слов, «которые язык так тесно сплотил вместе, что невозможны никакие варианты их», — то есть фразеологизмов. Но, как уже говорилось выше, в связи с психологическими основами лингвистических традиций, как раз слова, устойчивые сочетания слов и модели предложений и хранятся в мозгу человека, тогда как конкретные предложения каждый раз создаются заново. Тем самым концепция А. Гардинера глубинно психологична даже в большей степени, чем об этом прямо пишет автор.
Идеи А. Гардинера оказали определенное влияние на ряд лингвистов, в том числе на К. Бюлера, В. Брёндаля, а также на советского языковеда А. И, Смирницкого, см. его брошюру «Объективность существования языка», М., 1954. В целом однако вопрос о том, насколько реально существование языка в соссюровском смысле, оказался с 30-х гг. на периферии интересов структурализма: для многих ученых важнее было выявить внутренние свойства языковой системы и выработать собственно лингвистические методы в отвлечении от какого-либо психологизма.
Еще одним видным ученым, стоявшим вне основных школ структурализма, был немецкий психолог и лингвист Карл Бюлер (1879–1963). Помимо Германии, где он начинал свою деятельность, К. Бюлер с 1921 г. работал в Вене; именно там он написал труд, о котором дальше будут идти речь. После фашистской оккупации Австрии К. Бюлер эмигрировал в США, где жил до конца жизни; там он не создал ничего значительного. По основной специальности К. Бюлер был психологом, и соответствующим вопросам посвящено большинство его публикаций. Но в 30-е гг. логика научного исследования привела его к трудам в области языкознания; с 1932 по 1938 г. он публикует ряд содержательных лингвистических работ, из которых самой крупной и известной является книга «Теория языка», изданная в 1934 г. В 1993 г. книга впервые появилась в русском переводе (ранее по-русски издавались и некоторые из психологических трудов ученого).
В книге К. Бюлер пытался рассмотреть очень широкий круг вопросов. Трудно однако говорить о какой-либо последовательной лингвистической теории, им созданной, скорее это совокупность размышлений ученого по многим проблемам, часто в виде спора с предшественниками; такие размышления не всегда складываются в целостную картину. Наряду с общими принципами науки о языке, которым посвящена первая глава книги, он рассматривает и ряд более конкретных проблем, в частности, вопросы указательных слов и дейксиса, артиклей, метафоры и т. д.
Что касается принципов науки о языке, то также нельзя говорить о построении теории, охватывающей всю общелингвистическую проблематику. К. Бюлер высказал лишь некоторые, но важные компоненты такой теории, представляющие несомненный интерес. Отвлекаясь от конкретных особенностей языков, ученый стремился «выявить исследовательские установки языковеда-практика, способствующие его успешной работе, и точно — насколько это возможно — фиксировать их в теоретических терминах». Испытав несомненное влияние Ф. де Соссюра, К. Бюлер стремился уточнить и сделать более последовательными его идеи.
В основу своих построений К. Бюлер положил аксиоматический метод. В его время значительное влияние имела теория аксиоматического построения математики, разработанная Д. Гильбертом; по ее образцу предпринимались попытки аналогичной разработки основ и других наук. Такая теория предполагает, что выделяется ограниченное количество исходных аксиом, а все остальное может затем выводиться из них по определенным правилам. Сам по себе аксиоматический метод существовал в математике издавна, но попытки построения на его основе всех оснований математики и тем более его применение к другим наукам составили специфику первой половины XX в. Вслед за Д. Гильбертом К. Бюлер считал, что такая «закладка фундамента», продвигающаяся вглубь по мере развития соответствующих исследований, возможна и необходима во всех науках, в том числе, разумеется, и в науке о языке.
К. Бюлер ограничился формулировкой аксиом, которых, по его мнению, четыре, не пытаясь как-то выводить из них те или иные положения языкознания. Из его четырех аксиом две: вторая и четвертая, — в основном повторяют положения, существовавшие до К. Бюлера. Вторая аксиома вслед за Ф. де Соссюром говорит о знаковой природе языка. Четвертая аксиома в соответствии с общепринятыми со времен становления европейской традиции представлениями выделяет две основные единицы языка, не совпадающие по свойствам: слово и предложение, — и соответственно два типа языковых структур. В формулировке двух других аксиом автор книги, оставаясь в круге затронутых Ф. де Соссюром проблем, весьма оригинален.
Первая аксиома предлагает «модель языка как органона» (органон — философский термин со значением «собрание правил или принципов научного исследования»). Сам термин и формулировка аксиомы, как указывает сам К. Бюлер, восходят к Платону, говорившему, что «язык есть organum, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи». К. Бюлер понимает язык как нечто находящееся в центре условного пространства, а с трех сторон от него находятся: 1) предметы и ситуации; 2) отправитель; 3) получатель. В связи с этим имеется три смысловых отношения. Это соответственно репрезентация, экспрессия и апелляция. Сложный языковой знак обладает тремя семантическими функциями: «Это символ в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и сигнал в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет». К. Бюлер подчеркивает, что репрезентация, экспрессия и апелляция — семантические понятия.
Разные знаки в разной степени нацелены на разные функции: в научных текстах — преимущественно на репрезентацию, в командах — преимущественно на апелляцию и т. д. Тем не менее обычно в каждом знаке можно выделить, хотя и не в равной степени, все три функции.
Данное разграничение функций и типов знаков стало, пожалуй, наиболее известным пунктом концепции К. Бюлера; ранее лингвисты в основном обращали внимание лишь на ту функцию, которую он назвал репрезентацией, и говорили в первую очередь о связях между языком и внешним миром. Выделение двух других функций в качестве равноправных повлияло на изучение так называемых модальных элементов языка (так или иначе связанных с функцией экспрессии, по К. Бюлеру), форм обращения к собеседнику и т. д.
Наконец, третья аксиома связана с кругом вопросов, касающихся выделения языка и речи. Концепцию Ф. де Соссюра, противопоставлявшего язык и речь, К. Бюлер считал недостаточной, предлагая выделять не два понятия, а четыре: речевое действие, языковое произведение, речевой акт и языковую структуру (в хрестоматии В. А. Звегинцева термин «языковое произведение» неточно переведен как «языковые средства», мы исходим из переводов, принятых в издании 1993 г.). Четыре понятия противопоставлены по двум признакам: речевое действие и речевой акт соотнесены с субъектом, языковое произведение и языковая структура отвлечены от него (межличностны); другой параметр связан со степенью формализации: речевое действие и языковое произведение находятся на низшей ступени формализации, речевой акт и языковая структура — на высшей.
Не все в объяснении этих понятий в книге достаточно ясно. Можно однако сказать, что языковая структура в наибольшей степени соответствует языку в соссюровском смысле. С другой стороны, конкретные, связанные с определенными условиями произнесения явления, то есть то, что прежде всего имеют в виду, говоря о речи, относятся к речевым действиям. Однако те же речевые действия, взятые в отвлечении от условий произнесения и личности говорящего, относятся к языковым произведениям. Например, конкретное предложение, произнесенное тем-то, там-то и тогда-то — речевое действие; это же предложение, например, используемое в различных условиях разными людьми (как языковой пример, изречение и т. д.) — языковое произведение; его же структурная схема — языковая структура. Наименее ясно, что такое речевой акт (понятие, тесно связанное с философской концепцией Э. Гуссерля, старшего современника К. Бюлера). По-видимому, имеется в виду уточнение значения той или иной языковой единицы в результате его соотнесения с действительностью (ср. ниже об актуализации у Ш. Балли); обобщенное значение знака, не зависящее от контекста, относится к языковой структуре, конкретное, актуализованное, контекстное его значение — к речевому акту.
Книга К. Бюлера, находившаяся на пересечении проблематики нескольких наук: лингвистики, семиотики, психологии, философии, — оказала влияние как на философов и методологов, так и на некоторых лингвистов. Ее концепция отражена в «Основах фонологии» Н. Трубецкого, а Р. Якобсон в 1970 г. писал, что «книга Карла Бюлера… все еще остается, быть может, самым ценным вкладом психологии в лингвистику». Однако в целом ее проблематика долгое время привлекала мало внимания в структурной лингвистике. Играла роль сложность терминологии книги, ее излишне философская манера изложения. Но недостаточная популярность книги была связана и с другим. В 30-е гг. и некоторое время позже продолжал идти процесс сосредоточения лингвистов на «языке, рассматриваемом в самом себе и для себя», а такому ограничению был чужд К. Бюлер, которого волновали широкие проблемы, выходящие за пределы чистой лингвистики. Сейчас книга оказывается в чем-то актуальнее, чем во время ее написания.
Литература
Булыгина Т. В., Леонтьев А А Карл Бюлер: жизнь и творчество // Бюлер К. Теория языка. М., 1993.
Женевская школаВ первой половине XX в. одним из наиболее влиятельных направлений структурализма была Женевская школа, лидерами которой являлись ближайшие коллеги Ф. де Соссюра по Женевскому университету, издатели и фактические соавторы его книги Шарль Балли и Альбер Сеше. Включив в посмертное издание труда Ф. де Соссюра ряд своих мыслей, они скромно ушли в тень, не претендуя на роль членов авторского коллектива знаменитой книги. Однако и их собственные работы, подписанные их именами, представляли собой значительный вклад в науку. Развивая идеи Ф. де Соссюра, они вовсе не были лишь их интерпретаторами; по многим вопросам они предложили новые, оригинальные концепции.
Наиболее известным из ученых Женевской школы был Шарль Балли (1865–1947), в 20—30-е гг. он имел популярность, сравнимую с популярностью Ф. де Соссюра. Основная его деятельность связана о Женевским университетом, где он долго работал вместе с Ф. де Соссюром и где к нему после смерти последнего перешло чтение курса общего языкознания. К моменту издания «Курса общей лингвистики» (1916) Ш. Балли уже был известным ученым, автором значительного труда «Французская стилистика» (1909). Позднее, в 1932 г., он выпустил самую известную свою книгу «Общая лингвистика и вопросы французского языка»; незадолго до смерти, в 1944 г., почти восьмидесятилетний ученый переиздал эту книгу, причем новое издание было значительно переработано по сравнению с первым. Оба наиболее важных труда Ш. Балли имеются в русском переводе: «Общая лингвистика и вопросы французского языка» (в переработанном варианте 1944 г.) опубликована в 1955 г., «Французская стилистика» в 1961 г. Теоретическое введение к первой из книг включено в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Книга «Общая лингвистика и вопросы французского языка» стала результатом многолетней работы ее автора по преподаванию французского языка немцам и немецкого языка французам (задача крайне актуальная для многоязычной Швейцарии). Труд Ш. Балли совмещает в себе исследование по общей лингвистике с работой, в которой выявляются специфические особенности французского языка (в том числе на основе его сопоставления с немецким).
Изложенная в книге теоретическая концепция, безусловно, тесно связана с концепцией Ф. де Соссюра, основные идеи которого Ш. Балли принимает. В то же время он развивает и уточняет ряд положений своего старшего коллеги.
В теоретическом введении к книге Ш. Балли подчеркивает необходимость системного синхронного подхода к языку: «В системе все взаимосвязано: в отношении языковой системы это правильно в такой же мере, как и в отношении всех других систем. Принцип этот, провозглашенный Ф. Соссюром, сохраняет для нас все свое значение; единственная цель настоящей книги — подтвердить его». Однако неверно представление о языке как о «симметричной и гармонической конструкции». Едва ли не любой язык «раздирается несколькими, отчасти противоречивыми, тенденциями»; эти тенденции Ш. Балли старается выявить в книге на французском и отчасти немецком материале. Кроме того, присутствует «постоянное разногласие между формой знака и его значением, между означающими и означаемыми».
Причины такой негармоничности языка Ш. Балли объясняет вполне в соответствии с идеями «Курса» Ф. де Соссюра: «Языки непрестанно изменяются, но функционировать они могут только не меняясь. В любой момент своего существования они представляют собой продукт временного равновесия. Следовательно, это равновесие является равнодействующей двух противоположных сил: с одной стороны, традиции, задерживающей изменение, которое несовместимо с нормальным употреблением языка, а с другой — активных тенденций, толкающих этот язык в определенном направлении… Сила традиции сама по себе пропорциональна единству языка». В частности, «французскому языку, строго соблюдающему традиции, приходится поневоле эволюционировать, чтобы отвечать неустанно меняющимся потребностям мышления и жизни; однако он ревниво хранит реликвии почти всех периодов своего развития».
Однако все сказанное не означает отсутствия системы в языке: «И все же постоянное употребление языка показывает, что наша мысль фактически неустанно ассимилирует, ассоциирует, сравнивает и противопоставляет элементы языкового материала и что, как бы ни были эти элементы различны между собой, они не просто сопоставляются в памяти, а взаимодействуют друг с другом, взаимно притягиваются и отталкиваются и никогда не остаются изолированными; такая непрерывная игра действия и противодействия приводит в конце концов к созданию своего рода единства, всегда временного, всегда обратимого, но реального».
Более, чем кто-либо из структуралистов, Ш. Балли следовал Ф. де Соссюру в понимании синхронии и диахронии. Он писал, что определение системы «заставляет нас рассматривать язык в каком-нибудь данном состоянии, в какую-нибудь данную эпоху, каковой для нашего говорящего субъекта является наша эпоха. Идея состояния — это абстракция, но абстракция необходимая и естественная, так как говорящие на языке не сознают его революции. Связывать современный французский язык с его различными предшествующими стадиями и пытаться истолковывать каждое языковое явление фактом или фактами, которые привели к тому, что оно представляет собой в настоящее время, — наиболее верный способ исказить перспективу и дать вместо картины нынешнего состояния языка его карикатуру». Сохранял Ш. Балли и идею Ф. де Соссюра о несистемности диахронии, изучаемой, по его выражению, «изолирующим методом»; здесь Ш. Балли разошелся с большинством структуралистов. Его книга представляет собой попытку последовательно синхронного подхода к исследованию французского языка, не исключая и выявления упомянутых выше тенденций. Однако тенденции развития, «толкающие язык в определенном направлении», сами по себе — диахронное явление. Даже если можно до какой-то степени выявлять эти тенденции в рамках чисто синхронного анализа, то все равно их объяснение выводит исследование за пределы «нынешнего состояния». Поэтому подход Ш. Балли все же не может быть вопреки его же формулировкам назван чисто синхронным. Данное противоречие по существу следует из не вполне строгого подхода к синхронии и диахронии у Ф. де Соссюра.
Сохраняется и ряд других соссюровских противоречий. С одной стороны, Ш. Балли не раз говорит о психической реальности языковой системы, см. приведенную выше цитату о неустанной деятельности мысли в связи с языковым материалом и взаимодействии в памяти элементов языковой системы, а также слова об обнаружении языковых реальностей в «потенциальных ассоциациях, хранимых в памяти». С другой стороны, он принимает и содержащееся у Ф. де Соссюра понимание языка как системы чистых отношений. С одной стороны, Ш. Балли считает единственно разумным метод, заключенный в знаменитой фразе: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» (как отмечалось в главе о Ф. де Соссюре, эта фраза скорее всего принадлежит как раз Ш. Балли и А. Сеше). С другой стороны, он много занимается в своей книге вопросами речи и соотношения речи с языком.
Полностью принимая соссюровское разграничение языка и речи, Ш. Балли в отличие от Ф. де Соссюра не ограничивал свое исследование рамками внутренней лингвистики. Его интересовали вопросы, связанные с речевой деятельностью, в которой происходит «высказывание мысли с помощью языка». Среди разных «форм сообщения мысли» прежде всего выделяется «наиболее простая» — предложение. То есть предложение не есть единица языка (ср. такую же точку зрения у А. Гардинера), хотя оно образуется с помощью языка.
Предложение, согласно Ш. Балли, состоит из двух частей: диктума и дополняющего его модуса. Диктум соответствует «представлению», которое воспринято «чувствами, памятью или воображением», с помощью диктума «выражается суждение о факте». Модус выражает «различные оттенки чувства или воли». Большинство членов предложения обычно относится к диктуму, модус сосредоточен прежде всего в модальном глаголе. Модальные значения могут выражаться как в лексическом значении слов, в частности, глаголов («бояться», «думать», «предполагать» и т. д.), так и в грамматических показателях, например, наклонения. При разграничении диктума и модуса Ш. Балли в психологических терминах выделяет два типа языковых значений: связанных с обозначением действительности (в том числе воображаемой) и связанных с обозначением отношения к ней говорящего. Ср. с функциями сообщения и выражения у К. Бюлера (третья функция — обращения — у Ш. Балли не имеет прямых соответствий).
Важнейшую роль в концепции Ш. Балли играет введенное им в научный оборот понятие актуализации. Языковая система и ее единицы, в частности, слова, существуют лишь потенциально. Для того чтобы слово, обозначающее понятие, как и другая единица языка, вошло в речь, оно должно быть актуализировано; без актуализации слово не может стать членом предложения. «Актуализировать понятие значит отождествить его с реальным представлением говорящего субъекта». Потенциальное слово обозначает некоторый класс вещей, а актуализированное слово в речи — конкретную вещь или множество вещей. «Актуализация понятий заключается, таким образом, в претворении их в действительность… эта действительность может быть не только объективной, но и мысленной, воображаемой». Итак, «функция актуализации заключается в переводе языка в речь».
«В механизме актуализации языку свойственны актуализаторы, т. е. различные приемы, употребляемые для превращения языка в речь… Актуализаторы — это грамматические связи». Понятие актуализатора у Ш. Балли максимально широко. К ним могут относиться и грамматические элементы вроде показателей времени или наклонения, и артикли, и указательные местоимения, и зависимые слова, например, прилагательные по отношению к существительным, й даже внеязыковые средства — жесты, мимика и т. д. Характер актуализаторов тесно связан со строем языка. В аналитических языках типа французского актуализаторы слова обычно являются внешними по отношению к нему, в синтетических языках типа латинского и в меньшей степени немецкого сама форма слова уже содержит в себе актуализаторы.
В связи с этим интересен анализ понятия слова у Ш. Балли. Общее для многих ученых первой половины XX в. стремление выяснить содержание этого интуитивно очень важного, но трудноопределимого понятия нашло отражение в его концепции, согласно которой слово следует рассматривать как объединение двух разных единиц языка: семантемы и синтаксической молекулы.
Ш. Балли пишет: «Понятие слова обычно считается ясным; на деле же это одно из наиболее двусмысленных понятий, которые встречаются в языкознании. Источником недоразумения служит то, что при определении слова становятся на точку зрения либо лексики, либо грамматики». Лексическое слово, или семантема, — это «знак, выражающий чисто лексическое простое или сложное понятие независимо от его формы». В аналитических языках типа французского семантема нередко совпадает со словом в обычном смысле, поскольку слово здесь лишено словоизменения. Однако если во французском loup «волк» семантема совпадает со словом, то уже в том же языке слово march-ons ‘идем!’ — не семантема; таковой является лишь основа march-; тем более не совпадают с семантемой слова в синтетических языках вроде латинского (lupus «волк», где — us — падежное окончание). С другой стороны, не только основы сложных и производных слов, но и целые фразеологические словосочетания типа французского faim de loup ‘волчий голод’ — семантемы, так как это целые знаки. Семантическая молекула — это «всякий актуализированный комплекс, состоящий из семантемы и одного или нескольких грамматических знаков, актуализаторов или связей, необходимых и достаточных для того, чтобы она могла функционировать в предложении»; компоненты молекулы не могут употребляться в речи самостоятельно. Сочетание слова с артиклем или указательным местоимением — молекула, но и слово флективного языка с грамматическими аффиксами — тоже молекула, а не семантема. Языки типа латинского и древнегреческого, по выражению Ш. Балли, «путают лексику с грамматикой и топят семантему в молекуле».
Понятия семантемы и синтаксической молекулы не стали распространенными; тем не менее концепция слова Ш. Балли показала внутреннюю неоднородность традиционного понятия слова, во многом основанного на психолингвистическом механизме носителя языка.
При выявлении особенностей строя французского языка и тенденций его развития Ш. Балли помимо исследования языкового материала, соответствующего норме, обращал внимание на ненормативные явления живого языка, которые «косвенным путем освещают его природу и функционирование, а также направление изменений, которые он претерпевает». В частности, «гипертрофия нормального функционирования», названная Ш. Балли «языковой патологией», указывает на стремление говорящих, обычно бессознательное, восполнить «пустые места» в системе или развить существующие в языке тенденции. Такого рода первоначально ненормативные и часто эпизодические явления могут в дальнейшем закрепиться; см. изменения по аналогии. Изучение языковых аномалий в 30-е гг. XX в. редко привлекало к себе внимание лингвистов. При общем синхронном подходе в книге Ш. Балли затрагивал и вопрос о причинах языковых изменений. По его мнению, «язык служит потребностям общения в том случае, если он позволяет передавать мысль с максимумом точности и минимумом усилий для говорящего и слушающего… Язык приближается к этому идеалу посредством регулирования и упрощения, которые имеют целью автоматизацию максимального числа лингвистических операций и перевод их в область подсознательного». Такой подход несколько упрощает ситуацию, поскольку нужно учитывать и потребности слушающего, нуждающегося в дифференциации; ср. более разработанный подход И. А. Бодуэна де Куртенэ и его школы. Исследование языковых аномалий, в частности, «языковой патологии», безусловно, может выявить ход языковых изменений в том или ином направлении, выводя, как уже говорилось, исследователя за пределы чистой синхронии.
Рассматривая многочисленные и весьма тонко проанализированные факты французского языка, Ш. Балли выделяет тенденции его развития, зачастую противоположные друг другу. Тенденция к аналитизму проявляется в исчезновении большинства унаследованных от латыни окончаний; однако в результате противоположной тенденции их место занимают другие грамматические показатели: артикли, предлоги, вспомогательные глаголы и др. Однако эти показатели уже находятся не после семантемы, а перед ней; тем самым проявляется еще одна тенденция развития данного языка — тенденция к прогрессивной последовательности, то есть к порядку «определяемое-определяющее». Такую тенденцию французского языка Ш. Балли пытается выявить на самых разных уровнях от структуры слова до предложения. Немецкий язык он считает склонным к противоположному порядку, что проявляется и в большем сохранении в нем окончаний. Еще одна особенность французского языка — тенденция к «сжатию», к обозначению с помощью простых, немотивированных знаков, тогда как для немецкого языка характерно использование сложных знаков с прозрачной структурой; ср. значительно большую роль сложных слов в немецком языке по сравнению с французским. Одни из выделенных Ш. Балли тенденций достаточно очевидны, другие спорны, однако такого рода попытка системного подхода к языку была для того времени весьма оригинальной и сохраняет свое значение и поныне.
Книга Ш. Балли получила широкую известность, многие введенные им идеи и понятия (диктум и модус, актуализация и др.) прочно вошли в науку о языке. Сохраняет значение и проведенный им анализ многочисленных фактов французского и немецкого языков.
Широко известна и его книга «Французская стилистика», где он одним из первых в мировой науке определил цели и задачи стилистики как особой отрасли языкознания. Его концепция была полемична по отношению к эстетической стилистике К. Фосслера, сводившей данную дисциплину к изучению индивидуальных стилей. Стилистика понималась Ш. Балли с точки зрения изучения общих для всех носителей того или иного языка явлений, прежде всего связанных с выражением «аффективных категорий», эмоциональной стороны языка. В той же книге представлен один из первых в мировом языкознании опытов изучения фразеологии как особой лингвистической дисциплины, произведена не потерявшая своего значения классификация фразеологизмов.
Альбер Сеше (1870–1946) также работал в Женевском университете. В отличие от Ш. Балли он был непосредственным учеником Ф. де Соссюра. У него есть работы по синтаксису, по вопросам связи лингвистики с логикой и психологией и др. Работы А. Сеше в целом менее известны, чем работы Ш. Балли, и лишь одна его статья «Три соссюровские лингвистики» (1940) переведена на русский язык в составе хрестоматии В. А. Звегинцева. Эта статья однако представляет значительный интерес. В ней А. Сеше развивает и во многом видоизменяет положения концепции своего учителя. В целом он значительно более независим от идей Ф. де Соссюра, чем Ш. Балли.
А. Сеше ставит в своей статье вопрос о том, насколько «Курс общей лингвистики» (написанный, как уже говорилось, при участии самого А. Сеше) сохраняет свое значение спустя четверть века после выхода в свет. Признавая «бесспорной истиной» различение языка и речи, разграничение значимости и значения, выделение ассоциативных и синтагматических отношений и т. д., он тем не менее указывает: «Нужно идти не по предполагавшемуся Соссюром пути», отмечая недоработанность, «предварительность» многих соссюровских идей.
Исходя из двух соссюровских разграничений: языка и речи и синхронии и диахронии, — А. Сеше выделяет три лингвистические дисциплины: синхронную (статическую) лингвистику, диахронную (эволюционную) лингвистику и «лингвистику организованной речи». Выделение последней представляет собой наиболее оригинальную часть его концепции (Ф. де Соссюр, как известно, так и не сказал ничего конкретного о лингвистике речи и ее структуре).
По мнению А. Сеше, объектом лингвистики организованной речи «служат явления промежуточные между синхроническим и диахроническим факторами». Эта весьма оригинальная и специфическая точка зрения обосновывается следующим образом: «Всякий раз, когда человек говорит, чтобы сообщить нечто, или пытается понять сказанное, всегда есть возможность хотя бы для минимальных инноваций. Говорящий может больше или меньше отступать от принятых норм, а слушающий может интуитивно воспринять обновленное средство выражения. Именно сумма случаев минимальных изменений в речи по мере их накопления и приводит к малозаметным, но подчас глубоким изменениям в строении языка. Следовательно, речь имеет отношение одновременно и к синхронии, так как она базируется на определенном языковом состоянии, и к диахронии, так как речь уже содержит в зародыше все возможные изменения». Три указанные дисциплины, согласно А. Сеше, исчерпывают всю лингвистическую проблематику.
Споря с идеями Ф. де Соссюра о взаимообусловленности языка и речи, А. Сеше считал, что «речь логически, а зачастую также и практически предшествует языку в соссюровском смысле этого термина… Если язык порождается речью, то речь ни в какой момент не может быть полностью порождена языком», хотя при этом «речь организуется более или менее по законам языка, которые сама создала». Поэтому лингвистика организованной речи занимает центральное место в классификации А. Сеше. К ней он относит все вопросы, связанные с функционированием языка, в целом мало привлекавшие внимание структурализма.
Лингвистика организованной речи имеет дело не с общими положениями, как это происходит в статической лингвистике, а «с конкретными факторами… с теми проявлениями языка, которые составляют совершенно различные между собой окказиональные явления». Сюда попадают проблемы конкретного выбора тех или иных единиц (звуков, слов), вопросы стиля, изучение детской речи и др. Таким образом, все Конкретные факты независимо от степени их вовлеченности в систему подлежат ведению лингвистики организованной речи, дисциплины, тесно связанной с психологией.
При таком подходе синхронная (статическая) лингвистика имеет дело с наиболее абстрактными отношениями: «Задача статической лингвистики состоит не в том, чтобы охватить все факты языка, а в том, чтобы выделить из всей массы этих фактов то, что в той или иной степени соответствует абстрактному идеалу языкового состояния». Все факты при таком подходе обязательно должны быть сведены в систему, они должны быть общим достоянием всех членов языкового коллектива. Стилистические и тем более индивидуальные различия относятся лишь к лингвистике организованной речи. Прежде всего статическая лингвистика занимается значимостями, тогда как субстанциональные характеристики важны для лингвистики организованной речи.
Принципиально так же лингвистика организованной речи соотносится и с диахронической лингвистикой. А. Сеше отмечает, что Ф. де Соссюр недостаточно разработал проблему механизма и причин языковых изменений и что в этом вопросе он во многом следовал за младограмматиками. Как и Ш. Балли, А. Сеше выделял в диахронии «борьбу двух антагонистических сил. Одна сила охраняет грамматическую систему и ее традицию, основанную на коллективном соглашении; другая сила вызывает в системе постоянные инновации и адаптации». Подчеркнуто, что эволюция языка обусловлена как внешними, так и внутренними, внутрисистемными причинами. Переходя от лингвистики организованной речи к диахронической (как и к синхронической) лингвистике, «мы переходим от конкретного к абстрактному». «Так же как невозможно точно зафиксировать языковое состояние во всей его сложности, нельзя описать и историю языка, учитывая вое бесконечно разнообразные особенности речи… Только лингвистика организованной речи сохраняет непосредственную связь с реальной действительностью».
В речи постоянно происходят изменения, однако не все из них становятся фактами диахронической лингвистики. Одни изменения не принимаются коллективом и остаются только в рамках объекта изучения лингвистики организованной речи. Другие факты закрепляются и становятся общезначимыми и фиксируются диахронической лингвистикой.
По-иному, чем Ф. де Соссюр, рассматривая отношения между языком и речью в диахронии, А. Сеше в отличие от большинства структуралистов в целом сохранял представление о диахронической лингвистике как о дисциплине, изучающей изолированные факты. Он пишет, что сравнение языковых состояний «производится не по совокупности всех факторов. Оно затрагивает лишь те элементы языка, которые подверглись изменению». Однако при изменении всей системы в целом и те элементы, которые сами по себе не изменились, могут занять совершенно иное место в системе. И в то же время у А, Сеше вопреки сказанному выше речь идет и о системном подходе в диахронии: «Историк языка, объясняющий изменения, которые он отметил и определил, должен не только объяснить внешние и внутренние причины рассматриваемого изменения как таковые или в связи с той частью языка, в которой они происходят, но и обязан учитывать влияние этого изменения на другие части системы».
А. Сеше считал, что его критика ряда теоретических положений концепции Ф. де Соссюра «помогает лучше понять дух соссюровских идей». Конечно, трудно сказать насколько она соответствовала такому духу. Однако подход А. Сеше, пусть не во всех пунктах достаточно разработанный, давал возможность выходить за рамки «языка, рассматриваемого в самом себе и для себя», изучать проблемы не только языковой структуры, но и языкового функционирования.
С сильными оговорками к Женевской школе может быть причислен Сергей Осипович Карцевский (1884–1955), лингвист, имеющий отношение также к Московской и Пражской школам. Он был уроженцем России и начинал обучение в Московском университете, но после революции 1905 г. вследствие участия в революционном движении (эсер) эмигрировал и заканчивал образование в Женеве, где слушал лекции Ф. де Соссюра и Ш. Балли. В 1917 г. С. О. Карцевский вернулся на родину; именно благодаря ему русские языковеды смогли познакомиться с «Курсом» Ф. де Соссюра вскоре после его выхода. Новая политическая ситуация однако заставила его вскоре вторично эмигрировать, хотя и в 20-е гг. он продолжал печататься в СССР. Несколько лет С. О. Карцевский жил в Чехословакии, где активно общался с учеными, которые уже после его отъезда создали Пражский лингвистический кружок. С середины 20-х гг. и до конца жизни он вновь жил в Женеве. Наиболее известны среди его публикаций две книги 20-х гг. — «Система русского глагола» (1927, на французском языке) и изданный в 1928 г. в Москве «Повторительный курс русского языка». Однако еще больше знаменита его очень короткая, занимающая всего несколько страниц статья «Об асимметричном дуализме лингвистического знака», изданная в 1929 г. в первом выпуске «Трудов Пражского лингвистического кружка» и включенная в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Тема статьи перекликается со словами Ш. Балли о «постоянном разногласии между формой знака и его значением, между означающими и означаемыми». С. Карцевский пишет: «Знак и значение не покрывают друг друга полностью. Их границы не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет несколько функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками. Всякий знак является „омонимом“ и „синонимом“ одновременно».
Отмечено неустранимое противоречие в природе знака: «Если бы знаки были неподвижны и каждый из них выполнял только одну функцию, язык стал бы простым собранием этикеток. Но так же невозможно представить себе язык, знаки которого были бы подвижны до такой степени, что они ничего бы не значили за пределами конкретных ситуаций. Из этого следует, что природа лингвистического знака должна быть неизменной и подвижной одновременно. Призванный приспособиться к конкретной ситуации, знак может измениться только частично; и нужно, чтобы благодаря неподвижности другой своей части знак оставался тождественным самому себе». В знаковой системе имеются две системы координат, соответствующие двум сторонам знака; каждый знак оказывается соотносимыми с другими знаками по каждой из осей. Важными случаями такой соотнесенности оказываются омонимия и синонимия: «Омонимический ряд является по своей природе скорей психологическим и покоится на ассоциациях. Синонимический ряд имеет скорей логический характер, так как его члены мыслятся как разновидности одного и того же класса явлений».
В статье также затрагивается вопрос о природе слова, которое С. Карцевский в отличие от морфемы относит к «полным» знакам. В нем «имеется два противоположных центра семиологических функций; один группирует вокруг себя формальные значимости, другой — семантические» (ср. идеи Ш. Балли о «синтаксической молекуле», объединяющей «семантему» и грамматические актуализаторы). «Формальные значимости» (падеж, число, время и др.) всегда «остаются тождественным самим себе», семантическая же его часть во многом меняется в зависимости от конкретной ситуации. Тем самым, сохраняя тождество знака, мы постоянно меняем его значение, что может в каком-то случае привести к появлению омонима, уже слишком далеко отошедшего по значению. С другой стороны, может происходить не только омонимический, но и синонимический сдвиг.
Итак, «обозначающее (звучание) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по „наклонной плоскости реальности“. Каждое „выходит“ из рамок, назначенных для него партнером: обозначающее стремится обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны; будучи парными, они оказываются в состоянии неустойчивого равновесия». Такое явление названо в статье «асимметричным дуализмом». Именно благодаря ему «лингвистическая система может эволюционировать: „адекватная“ позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к требованиям конкретной ситуации». При этом можно отметить случаи «адекватного знака» (например, русские повелительные формы типа Молчи!) и случаи асимметрии в ту или иную сторону (см. их синонимы типа Молчать! и омонимы типа Смолчи он). Тем самым С. Карцевский фактически выделяет некоторую центральную область распространения того или иного явления и периферию, характеризующуюся сдвигом.
Идеи С. Карцевского, имеющие некоторое сходство с идеями Женевской школы, оказали влияние на становление и развитие Пражской школы. Идея «асимметричного дуализма» была развита В. Скаличкой, нашли также развитие и идеи о центре с «адекватной» позицией знака и о периферии.
Литература
Звегинцев В. А. Женевская школа // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях, ч. II. М., 1965.
ГлоссематикаОдной из ветвей структурализма стала глоссематика, иногда также именуемая копенгагенским структурализмом. Это своеобразное научное направление включало в себя очень небольшое количество лингвистов, тем не менее оно долгое время считалось одним из наиболее влиятельных и авторитетных направлений структурной лингвистики.
Глоссематика сложилась в Дании, которая издавна отличалась высоким развитием науки о языке. Эта небольшая страна дала миру немало известных лингвистов: в предыдущих главах упоминались Р. Раск, К. Вернер, В. Томсен, В. Брёндаль; следует сказать и о таком ученом, как Отто Есперсен (1863–1943), автор переведенной на русский язык книги «Философия языка». В 30—50-е гг. лицо датской лингвистики определялось в первую очередь глоссематикой. Основателем и ведущим представителем этого направления стал один из крупнейших лингвистов первой половины XX в. Луи Ельмслев (1899–1965). Он печатался с 20-х гг., однако основные положения своей теории впервые высказал в серии публикаций, появившихся с 1935 по 1939 г.: нескольких статьях и книге «Понятие управления». Активную лингвистическую деятельность Л. Ельмслев продолжал и во время гитлеровской оккупации Дании. Именно тогда появляются работы, содержащие наиболее развернутое изложение идей глоссематики: статья «Язык и речь» (1942) и книга «Основы лингвистической теории» (1943). Итоги развития своей концепции ученый подвел в английском издании последней книги, появившемся в 1953 г. под названием «Пролегомены к теории языка»; более поздние его публикации мало добавили к ней нового. Основные работы Л. Ельмслева переведены на русский язык: «Пролегомены к теории языка» изданы в 1960 г. в первом выпуске «Нового в лингвистике», а статьи «Язык и речь», «Метод структурного анализа в лингвистике» (1950) и отрывки из «Понятия управления» включены в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Идеи глоссематики развивали также ученики Л. Ельмслева X. И. Ульдалль (1907–1957) и Кнут Тогебю (1918–1974). X. И. Ульдаллю принадлежит попытка создать нечто вроде учебника глоссематики под названием «Основы глоссематики», первая часть этой работы также издана по-русски в первом выпуске «Нового в лингвистике». К. Тогебю известен единственным опытом описания конкретного языка (французского) на основе понятий глоссематики, а также исследованием, связанным с определением слова. После смерти упомянутых лингвистов глоссематика как особое направление прекратила существование. В дальнейшем, говоря о глоссематике, мы будем говорить исключительно об идеях Л. Ельмслева, другие ученые скорее развивали и уточняли его идеи, но не предлагали что-либо новое.
Л. Ельмслев развивал идеи Ф. де Соссюра, однако достаточно разнородные и зачастую противоречивые, находившиеся еще на этапе становления теории идеи последнего он довел до логического завершения. Среди соссюровских положений Л. Ельмслев прежде всего воспринял представление о языке как форме, а не субстанции, общий структурный подход к языку и стремление к автономии лингвистики, к рассмотрению ее в изоляции от других наук, за исключением семиотики и математики. Помимо концепции Ф. де Соссюра, на глоссематику значительно повлияло важное философское направление тех лет — неопозитивизм. Неопозитивисты (Б. Рассел, Р. Карнап и др.) сводили философские проблемы к логическому анализу языка, прежде всего языка науки. Их интересовали формальные правила построения научной теории в отвлечении от того, как эта теория соотносится с действительностью. Неопозитивизм оказал значительное влияние на развитие структурной лингвистики, однако последовательное выражение его принципы нашли среди направлений структурализма именно в глоссематике.
«Пролегомены» Л. Ельмслева начинаются формулировкой общего подхода ученого к языку. Как указывает Л. Ельмслев, для лингвистики язык, как правило, оказывается не целью, а средством исследования: с помощью языка познаются физика и физиология звуков речи, психология человека, история общества и т. д. Л. Ельмслев не отрицает правомерность таких исследований, но опасно при этом забыть о самом языке. Помимо всего перечисленного нужна и собственно лингвистика, а «чтобы создать истинную лингвистику, которая не есть лишь вспомогательная наука, нужно сделать что-то еще. Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру sui generis».
Задача, которую ставит перед собой Л. Ельмслев, — построить общую теорию языка. Он отвергал индуктивный, исходящий из описания языковых фактов подход, на основе которого обычно старались построить теорию языка его предшественники; такой подход, по его мнению, «обычно бывает ближе к поэзии, чем к чистой науке». Такому подходу, господствующему в гуманитарных науках, он противопоставляет последовательно дедуктивный способ построения теории. Его с самого начала не интересуют частные факты, особенности конкретных языков, изменчивость языков и т. д. Теория должна быть как можно более общей и основываться лишь на самых общих принципах, взятых Л. Ельмслевом из математической логики: «Описание должно быть свободным от противоречий (самоудовлетворяющим), исчерпывающим и предельно простым. Требование непротиворечивости предшествует требованию исчерпывающего описания. Требование исчерпывающего описания предшествует требованию простоты».
Такого рода метод Л. Ельмслев назвал эмпирическим. Многие критики его теории отмечали, что данное именование не соответствует обычному значению термина «эмпирический», то есть «основанный на опыте». Эмпирический метод противопоставлен у Л. Ельмслева априорному; имеется в виду, что априорный метод рассматривает язык в каких-то категориях, выходящих за пределы лингвистики, а эмпирический метод не накладывает на теорию никаких особых ограничений, кроме данных трех принципов: непротиворечивости, простоты и полноты. Согласно Л. Ельмслеву, индукция, не допускающая формулировки общих понятий, не может обеспечить непротиворечивое и простое описание.
В соответствии с принципами неопозитивизма Л. Ельмслев подходил к проблеме соотношения теории и опыта. Он писал в «Пролегоменах»: «Теория в нашем смысле сама по себе независима от опыта. Сама по себе она ничего не говорит ни о возможности ее применения, ни об отношении к опытным данным. Она не включает постулата о существовании. Она представляет собой то, что было названо чисто дедуктивной системой, в том смысле, что она одна может быть использована для исчисления возможностей, вытекающих из ее предпосылок». И далее: «Лингвистическая теория единовластно определяет свой объект при помощи произвольного и пригодного выбора предпосылок. Теория представляет собой исчисление, состоящее из наименьшего числа наиболее общих предпосылок… Исчисление позволяет предсказывать возможности, но ничего не говорит об их реализации».
Итак, лингвистическая теория строится чисто произвольно и представляет собой исчисление, то есть некоторое построение из области математической логики. Это, разумеется, не исключает возможности строить теорию таким образом, чтобы она была применима к чему-то реально существующему: ведь и изучаемые в математической логике исчисления (исчисление высказываний, исчисление предикатов) обычно строятся не абсолютно произвольно, а в расчете на то или иное применение. Но все это связано лишь с особым фактором — пригодностью теории: «Экспериментальные данные никогда не могут усилить или ослабить теорию, они могут усилить или ослабить только ее пригодность». Возможность произвольного конструирования лингвистической теории независимо от ее пригодности хорошо соотносится с пониманием языка как игры, о котором будет идти речь ниже.
Тем не менее далее у Л. Ельмслева говорится о том, что теория должна быть «направлена на создание процедуры, посредством которой объекты определенной природы могут быть описаны непротиворечиво и исчерпывающе». А поскольку «объекты, интересующие лингвистическую теорию, суть тексты», то «цель лингвистической теории — создать процедурный метод, с помощью которого можно понять данный текст, применяя непротиворечивое и исчерпывающее описание. Но лингвистическая теория должна также указать, как с помощью этого метода можно понять любой другой текст той же самой природы». С одной стороны, Л. Ельмслев доводит до максимальной последовательности аналитический подход к языку, исходящий из первичности текста, свойственный всей европейской науке о языке с самого ее возникновения. С другой стороны, он стремится не задерживаться на уровне конкретного текста и идти дальше: «Пользуясь инструментом лингвистической теории, мы можем извлечь из выборки текстов запас знаний, который снова можно использовать на других текстах. Эти знания касаются не только и не столько процессов или текстов, из которых они извлечены, но системы, или языка, на основе которой (или которого) построены все тексты определенной природы и с помощью которой (которого) мы можем строить новые тексты». Построение теории, согласно Л. Ельмслеву, не оторвано от опытных данных: «В силу своей пригодности работа над лингвистической теорией всегда эмпирична». Но анализ конкретных текстов по своей природе связан с индукцией, тем самым вопреки исходным положениям Л. Ельмслева его процедура не оказывается чисто индуктивной.
Однако индуктивный анализ опытных данных проводится, согласно глоссематической концепции, лишь на самом первом этапе, далее уже дедуктивно и произвольно строится исчисление, а «исчисление, дедуцируемое из установленного определения, независимо от какого-либо опыта, создает инструмент для описания и понимания данного текста и языка, на основе которого этот текст построен. Лингвистическая теория не может быть проверена (подтверждена или оценена) этими существующими текстами и языками. Она может только контролироваться испытаниями, проверяющими, является ли исчисление непротиворечивым и исчерпывающим». Если таких исчислений несколько, то выбор производится на основе принципа простоты.
Далее Л. Ельмслев выделяет основные понятия, связанные с анализом языка. Эти понятия он стремится сделать максимально общими, пригодными для самых различных случаев. В частности, для него не существует каких-либо специфических понятий для фонетики, морфологии или синтаксиса. Если традиционная лингвистика описывала каждый языковой ярус (уровень) в особых терминах, то для структурной лингвистики вообще был характерен поиск закономерностей, применимых и к звукам (фонемам), и к словам, и к предложениям. У Л. Ельмслева этот поиск дошел до крайней степени. Он выдвигает самые общие понятия, взятые из математики: это объекты, классы объектов, зависимости, или функции, между объектами, типы таких зависимостей (между двумя переменными, двумя постоянными, постоянной и переменной), логические операции с объектами (конъюнкции, дизъюнкции) и т. Д. Ряд терминов, предложенных Л. Ельмслевом (далеко не все), сохранился в лингвистической литературе: детерминация, селекция, корреляция, реляция и т. д.
Язык понимался в глоссематике, как и в других направлениях структурализма, как система знаков, однако понимание знака здесь достаточно своеобразно. Вслед за Ф. де Соссюром Л. Ельмслев исходил из двусторонности знака, предложив наряду с соссюровскими терминами «означающее» и «означаемое» свои термины «план выражения» и «план содержания», которые получили затем широкое распространение. Однако в двух существенных отношениях он разошелся с концепцией Ф. де Соссюра.
Во-первых, указывается, что «языки не могут описываться как чисто знаковые системы. По цели, обычно приписываемой им, они прежде всего знаковые системы; но по своей внутренней структуре они прежде всего нечто иное, а именно — системы фигур, которые могут быть использованы для построения знаков». Фигуры (термин, введенный Л. Ельмслевом) определяются как «незнаки, входящие в знаковую систему как часть знаков». Фигуры плана выражения — прежде всего фонемы. Но имеются и фигуры плана содержания, это компоненты значения тех или иных единиц, по отдельности не выражаемые. Поиск таких компонентов, существование которых подтверждается сопоставлением частично схожих по значению слов, корней или флективных аффиксов, был свойствен в то время не только глоссематике (см. ниже в главе о пражцах о понятии семы у В. Скалички).
Во-вторых, что еще более существенно, Л. Ельмслев решительно отказался от традиционного и сохраненного частью структуралистов представления о том, что «знак прежде всего есть знак для чего-то». Такое представление именуется «лингвистически несостоятельным». По мнению Л. Ельмслева, знак не есть указание на что-то, находящееся вне знака; «знак есть явление, порожденное связью между выражением и содержанием» (Л. Ельмслев говорит здесь о следовании Ф. де Соссюру, но последний исходил не только из данной связи, но и из отношения означаемого и означающего к действительности); между двумя сторонами знака устанавливается знаковая функция. Выражение и содержание необходимого предполагают друг друга, а какое-либо обращение к сущностям, находящимся вне знака, несущественно для его изучения.
С таким пониманием знака связано и понимание в глоссематике формы и субстанции. И в содержании, и в выражении имеется специфичная форма, «которая независима и произвольна в отношении к материалу и формирует его в субстанцию». Ф. де Соссюр по вопросу о соотношении формы и субстанции не был вполне последователен: он то утверждал, что язык — форма, а не субстанция, и сопоставлял язык с шахматной игрой, для которой материал, из которого изготовлены фигуры, несуществен, то все же признавал важность звукового характера языковой субстанции и называл означающее «акустическим образом».
Л. Ельмслев последовательно встал на точку зрения, согласно которой язык (по крайней мере, язык в смысле языка-схемы, см. об этом ниже) представляет собой чистую форму, а звуковой характер субстанции случаен и не важен для его теории. В статье «Метод структурного анализа в лингвистике» он писал: «Любой звук может быть заменен иным звуком, или буквой, или условленным сигналом, система же остается той же самой». В связи с этим глоссематика не приняла методы фонемного анализа, разработанные в других школах структурализма, в частности, у Н. Трубецкого. Такие методы исходили из звукового характера фонемы, что было неприемлемо для Л. Ельмслева.
По мнению глоссематики, языковой материал не подлежит ведению лингвистики: «Субстанция обоих планов может рассматриваться частично как физическое явление (звуки в плане выражения, предметы в плане содержания) и частично как отражение этих явлений в сознании говорящего»; то есть субстанцию изучают физика и психология. «На долю лингвистики приходится анализ языковой формы». С точки зрения Л. Ельмслева, «лингвистика должна видеть свою главную задачу в построении науки о выражении и науки о содержании на внутренней и функциональной основе; она должна построить науку о выражении без обращения к фонетическим или феноменологическим предпосылкам и науку о содержании без обращения к онтологическим или феноменологическим предпосылкам… В такую лингвистику в отличие от традиционной в качестве науки о выражении не будет входить фонетика, а в качестве науки о содержании — семантика. Такая наука была бы алгеброй языка, оперирующей безыменными сущностями, т. е. произвольно названными сущностями без естественного обозначения». Л. Ельмслев понимал, что лингвистика, существовавшая ко времени написания «Пролегоменов», никак не могла бы быть названа алгеброй языка, у нее были иные цели и задачи. Поэтому он даже предложил разрабатываемую им науку не называть лингвистикой, придумав особое наименование «глоссематика». Однако данное слово закрепилось не как название особой науки о языке, а лишь как название лингвистического направления, связанного с именем Л. Ельмслева.
Столь абстрактный подход к языку, в соответствии с которым, например, фонемы не только не являются звуковыми единицами, но вообще представляют собой лишь точки пересечения структурных отношений, не оставлял места для выявления каких-либо связей формальной схемы, изучаемой глоссематикой, с реальностью. Разумеется, Л. Ельмслев не отрицал в принципе существования таких связей, но, согласно его постулатам, их изучают любые науки, кроме лингвистики, опираясь при этом на результат лингвистического (точнее, глоссематического) анализа: «Все науки группируются вокруг лингвистики». Сама же лингвистика оперирует «произвольно названными сущностями», а язык (схема) для лингвиста «в конечном счете это игра и больше ничего», как пишет Л. Ельмслев в статье «Язык и речь».
Как и Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев считал, что лингвистика представляет собой лишь часть более общей науки о знаке — семиологии. Он указывал: «Не только общие соображения, высказанные нами, но и введенные нами более специальные термины применимы как к „естественному“ языку, так и к языку в более широком смысле. Именно потому, что теория построена таким образом, что лингвистическая форма рассматривается без учета „субстанции“ (материала), наш аппарат легко можно применить к любой структуре, форма которой аналогична форме „естественного“ языка… „Естественный“ язык может быть описан на основе теории, обладающей минимальной спецификой и предполагающей дальнейшие следствия». Л. Ельмслев для обозначения науки о знаке предпочитал идущий от Ч. Пирса термин «семиотика» соссюровскому термину «семиология». В качестве семиотических систем он рассматривал письмо, сигнализацию флажками, язык жестов, игры различного рода, а также народные обычаи, литературу, искусство и т. д.
Особая роль языка среди семиотических систем, согласно Л. Ельмслеву, определяется не его звуковым характером или его ролью в качестве средства общения, а тем, что «практически язык является семиотикой, в которую могут быть переведены все другие семиотики», то есть с помощью языка можно говорить о чем угодно, в том числе и о других семиотических системах. Такое свойство языка, по мнению ученого, «обусловлено неограниченной возможностью образования знаков и очень свободными правилами образования единиц большой протяженности (предложения и т. д.)».
Итак, лингвистика (глоссематика) — часть семиотики, для ее разработки должен активно привлекаться аппарат математики (Л. Ельмслев стал одним из первых лингвистов, активно применявших понятия математики, прежде всего математической логики, для построения теории). От всех прочих наук лингвистика в том смысле, в каком она понимается у Л. Ельмслева, совершенно независима. Связь лингвистики с психологией, социологией, акустикой и т. д. существует лишь в одну сторону: эти науки должны опираться на данные, получаемые лингвистикой, но никак не наоборот. Тенденция к обособлению лингвистики, в той или иной степени свойственная всем направлениям структурализма, достигла в глоссематике предела. Л. Ельмслев отдавал себе отчет в том, что его подход сужает лингвистическую проблематику, и писал о «временном ограничении кругозора». Однако он счел это ограничение «ценой, заплаченной за отторжение у языка его тайны».
В то же время Л. Ельмслев стремился как-то выйти за пределы алгебраического подхода к языку. В написанной несколько ранее, чем «Пролегомены», статье «Язык и речь» он, развивая соссюровские идеи о языке и речи, выделил оригинальный ряд понятий: схема — норма — узус — акт речи. Язык как чистая форма, о котором шла речь выше, назван здесь схемой; именно о схеме сказано, что «это игра и больше ничего». Но помимо нее выделяется еще два возможных понимания языка: язык можно рассматривать как норму, то есть «как материальную форму, определяемую в данной социальной реальности, но независимо от деталей манифестации», и как узус, то есть «как совокупность навыков, принятых в данном социальном коллективе и определяемых фактами наблюдаемых манифестаций» (под манифестацией Л. Ельмслев понимал способ реализации формы в той или иной субстанции: звуковой, письменной и т. д.).
Разный подход к языку объясняется на примере французского звука (фонемы) г. С точки зрения схемы это лишь точка пересечения линий в сетке отношений, у него нет никаких позитивных свойств и способ манифестации: звуковой или какой-то другой, — несуществен. С точки зрения нормы — это звуковая единица, обладающая некоторыми позитивными чертами; однако учитываются не все звуковые признаки, а только те, которые отличают данный элемент системы от других. Безусловно, понятие фонемы в других школах структурализма (см. особенно пражскую и московскую школу, о которых речь будет идти ниже) относится, согласно делению Л. Ельмслева, к норме, а не схеме. Наконец, с точки зрения узуса учитываются все позитивные свойства данного звука в принятом для него произношении. Л. Ельмслев показывает, что понятие языка в «Курсе» Ф. де Соссюра неоднородно: оно в разных местах книги может соответствовать то схеме, то норме, то узусу. Четвертое понятие, выделяемое Л. Ельмслевом, — индивидуальный акт речи. Ученый признает речь в соссюровском смысле не менее сложным понятием, чем язык; она охватывает не только акт речи, но и узус и даже норму: «Норма, узус и акт речи тесно связаны и составляют по сути дела один объект: узус, по отношению к которому норма является абстракцией, а акт речи — конкретизацией». И норма, и узус, и акт речи представляют собой реализацию схемы, причем «именно узус выступает в качестве подлинного объекта теории реализации: норма — это искусственное построение, а акт речи — преходящий факт».
Данная концепция в отличие от строго разработанного учения о языке-схеме была высказана лишь в самых общих чертах и подвергалась изменениям: в «Пролегоменах» помимо схемы упоминается лишь узус, а понятие нормы исключено. Введение в систему понятий нормы и узуса или хотя бы только узуса давало возможность переходить от алгебры языка к «обычному» языкознанию, однако такие вопросы остались у Л. Ельмслева на периферии внимания. В историю науки глоссематика вошла как попытка предельно абстрактного, отвлеченного от любой конкретики подхода к языку. Помимо сказанного ранее, отметим, что среди основных составляющих учения Ф. де Соссюра глоссематику менее всего интересовала концепция синхронии и диахронии. При глоссематическом подходе к языку этот вопрос вообще несуществен: исследуется абсолютно статичная и неизменяемая система, для которой не существует не только диахронии, но и синхронии, если понимать ее как состояние языка.
В начале «Пролегоменов» Л. Ельмслев пишет вполне в духе В. фон Гумбольдта: «Язык неотделим от человека и следует за ним во всех его действиях. Язык — инструмент, посредством которого человек формирует мысль и чувство, настроение, желание, волю и деятельность, инструмент, посредством которого человек влияет на других людей, а другие влияют на него; язык — первичная и самая необходимая основа человеческого общества. Но он также конечная, необходимая опора человеческой личности, прибежище человека в часы одиночества, когда разум вступает в борьбу с жизнью и конфликт разряжается монологом поэта и мыслителя». Но все эти слова никак не связаны тем, чем занимается Л. Ельмслев в своей книге и других публикациях. Пожалуй, ни одно лингвистическое направление не отвлекалось от говорящего человека столь последовательно, как глоссематика (другой предельный случай, но иного рода, — американский дескриптивизм в своем крайнем варианте, см. соответствующую главу). Справедливо критикуя многие недостатки традиционного гуманитарного подхода к языку, при котором смешивались разнородные явления и слишком многое оказывалось нестрогим и непроверяемым, датский ученый внес в науку о языке математическую строгость, однако произошло это за счет очень значительного сужения и обеднения своего объекта.
Идеи глоссематики получили, особенно в 40—60-е гг., широкую известность во многих странах. Однако отношение к ним у большинства ученых самых разных направлений было одновременно холодно-уважительным и резко критическим. Достаточно одинаковые оценки давали глоссематике лингвисты, совсем не сходные по идеям. Американский ученый П. Гарвин писал: «Когда постигнешь „Пролегомены“, получаешь эстетическое удовольствие. Но, с другой стороны, полезность этой работы для конкретного лингвистического анализа не представляется очевидной». Французский лингвист А. Мартине признавал, что книга Л. Ельмслева «удивительно богата содержанием, четко построена и хорошо написана, ясна и строга по мысли», в ней представлена «стройная система»; и в то же время «это башня из слоновой кости, ответом на которую может быть лишь построение новых башен из слоновой кости». А вот оценка В. А. Звегинцева: «В результате в логическом отношении получилась действительно более (чем у Ф. де Соссюра — В. А.) последовательная система, однако очень далекая от потребностей лингвистического исследования».
Действительно, при последовательности и продуманности большинства построений Л. Ельмслева его теория имела один слишком явный недостаток: на ее основе нельзя было исследовать реальные языки. Упомянутая выше французская грамматика К. Тогебю была самими глоссематиками признана неудачной, а других сколько-нибудь заметных попыток построить конкретное исследование на принципах глоссематики (по крайней мере, в достаточно полном виде предпринято так и не было. Между крайне абстрактными построениями глоссематики и описанием фактов необходимо было некоторое промежуточное звено, которое так и не удалось создать.
Глоссематика в полном объеме так и не вышла за пределы узкой школы датских ученых. Пожалуй, наибольшее влияние вне Дании она оказала на советские исследования 60—70-х гг., где ряд лингвистов предложил отличный от глоссематического, но столь же абстрактный и претендовавший на строгость подход к языку. Наиболее четко такое направление поисков отразилось в работах Юрия Константиновича Jle-комцева (1929–1984), влияние идей и методов глоссематики проявлялось и у таких языковедов, как И. Ф. Вардуль, И. И. Ревзин, С. К. Шаумян. Однако и у нас в конечном итоге основное развитие лингвистических исследований пошло по другим направлениям.
В итоге глоссематика безусловно расширила понятийный аппарат науки о языке, выдвинула ряд ценных методологических принципов. Многие термины, введенные Л. Ельмслевом, прочно вошли в обиход. Требования непротиворечивости, полноты и простоты несомненно должны приниматься во внимание в лингвистическом исследовании. Однако наука о языке не сводится к построению схем, удовлетворяющих этим требованиям. Вопрос о связи лингвистической теории с реальностью не может быть проигнорирован. «Временное ограничение кругозора» дало определенные результаты, но не привело к «отторжению у языка его тайны». Некогда влиятельная глоссематика в настоящее время уже стала историей.
Литература
Звегинцев В. А Глоссематика и лингвистика // Новое в лингвистике, вып. 1. М., 1960.
Хауген Э. Направления в современном языкознании // Там же.
Мартине А. О книге «Основы лингвистической теории» Луи Ельмслева // Там же.
Мурат В. П. Глоссематика. // Основные направления структурализма. М., 1964.
Венцкович Р. М., Шайкевич А. Я. История языкознания, вып. VI. М., 1974, с. 63—105.
Пражский лингвистический кружокПражская школа, или функциональный структурализм, — одно из ведущих направлений лингвистического структурализма, сложившееся в Чехословакии и Австрии между двумя мировыми войнами.
Пражский лингвистический кружок сложился во второй половине 20-х гг. и организационно оформился в 1928 г. С 1929 г. на французском языке нерегулярно выходили «Труды» кружка. В первом их выпуске, приуроченном к I Международному съезду славистов, были опубликованы «Тезисы Пражского лингвистического кружка», ставшие его программным документом. Ведущую роль в формировании кружка сыграл уже влиятельный к тому времени в чехословацком языкознании видный лингвист Вилем Матезиус (1882–1945), вместе с ним в кружок вошли более молодые ученые Богумил Трнка (1895–1984), Богумил Гавранек (1893–1978), Ян Мукаржовский и др., позже к кружку примкнули Йозеф Коржинек (1899–1945), еще более молодые лингвисты Владимир Скаличка (р. 1909), Йозеф Вахек и др. С самого начала активную роль в кружке играли два выдающихся ученых, эмигрировавших из послереволюционной России: живший тогда в Чехословакии Роман (Роман Осипович) Якобсон (1896–1982) и работавший с 1922 г. в Вене Николай (Николай Сергеевич) Трубецкой (1890–1938). В начальный период деятельности кружка с ним также был тесно связан упомянутый выше С. Карцевский; в той или иной мере были в контакте с кружком, а иногда и печатались в его изданиях лингвисты, жившие в СССР: Е. Д. Поливанов, Г. О. Винокур, H. Н. Дурново, Н. Ф. Яковлев и др.; их взгляды имели определенное сходство с взглядами пражцев.
Наиболее активный период деятельности Пражской школы продолжался около десяти лет, до начала Второй мировой войны. Война прервала возможность нормальной научной деятельности; к ее концу уже умерли Н. Трубецкой, В. Матезиус, И. Коржинек и др. Р. Якобсон в 1939 г. покинул Чехословакию и вскоре переехал в США; о его деятельности американского периода будет говориться в особом разделе. Оставшиеся в Чехословакии члены кружка: Б. Трнка, В. Скаличка, Б. Гавранек, Й. Вахек и др., — вместе со своими учениками продолжали деятельность, в основном оставаясь на прежних позициях. Традиции Пражского кружка существуют в чешской и словацкой науке до наших дней.
Ученые Пражского кружка находились под значительным влиянием идей Ф. де Соссюра, однако в отличие от других структуралистов на них оказали серьезное воздействие и взгляды И. ?. Бодуэна де Куртенэ; русские участники кружка, окончившие Московский университет, также восприняли ряд идей Московской школы, восходящих к Ф. Ф. Фортунатову. Их взгляды значительно отличались как от традиционных концепций исторической лингвистики, так и от идей других направлений структурализма, прежде всего дескриптивизма и глоссематики. Рассмотрение этих взглядов целесообразно начать с анализа статей, посвященных полемике пражцев с другими лингвистическими школами; три статьи такого рода включены в хрестоматию В. А. Звегинцева.
В статье В. Матезиуса «Куда мы пришли в языкознании», написанной в начале 40-х гг. и посмертно опубликованной в 1947 г., выявляются отличия пражской концепции языка прежде всего от лингвистики XIX в. В языкознании XIX в. выделяются прежде всего «две различные теоретические и методические точки зрения»: историческая и генетическая, идущая от Ф. Боппа и Р. Раска к младограмматикам, и гумбольдтианская, аналитическая. В. Матезиус подчеркивает ограниченность подхода традиционного исторического языкознания: «интерес исследователей сосредоточивается на исторической фонетике и исторической морфологии, рассматриваемой лишь как практическое применение фонетики. Историческое изучение считается единственным научным методом лингвистической работы; даже если изучаются живые диалекты, то итоги этого изучения используются преимущественно для решения исторических проблем. Хотя иногда отмечается, что язык представляет собой систему знаков, но поскольку изучаются лишь изолированные языковые факты, постольку единственно исторический метод мешает осознанию важности языковой системы. Изоляция отдельных языковых явлений препятствует также пониманию важной роли, которой обладает в языке функция». Отмечено и то, что период успехов младограмматизма «характеризовался необычайным безразличием к вопросам общего языкознания». В. Матезиус отмечает и положительные стороны исторического языкознания: «плодотворность и точность» в решении своих проблем; пражцы в отличие от некоторых других школ структурализма не отказывались от исторических исследований языка. Однако общий подход науки такого типа не мог быть для них приемлем.
Гумбольдтовское направление в основном связывается В. Матезиусом с далеко не самой главной для него идеей о возможности сравнивать языки, «не обращая внимания на их генетическое родство». Упомянуто противопоставление ergon — energeia, однако от рассмотрения философских идей В. фон Гумбольдта В. Матезиус отказывается вообще. Отмечено, что подход к языку как к деятельности помог В. фон Гумбольдту «понять значение функции в языке», но принуждал его «слишком высоко оценивать психологическую точку зрения». Главным недостатком концепции В. фон Гумбольдта признается «стремление выводись характер языка из характера говорящего им народа». Анализируя развитие данной традиции у X. Штейнталя и др., В. Матезиус указывает, что все эти ученые не смогли «чисто лингвистическим способом» сформулировать свои идеи и «на базе их создать точные исследовательские приемы». Итак, два направления имели противоположные друг другу достоинства и недостатки: гумбольдтианцы выдвигали перспективные идеи, но не имели методов для их разработки, младограмматики имели совершенный сравнительно-исторический метод, но слишком узко понимали теорию.
Новая лингвистика, согласно В. Матезиусу, начинается с двух ученых: И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра. Первый из них осознал роль функции в языке и ввел в науку понятие фонемы. Однако он недостаточно порвал с традицией, поскольку «был введен в заблуждение изменчивым светом психологии и слишком большое внимание уделял факту постоянного изменения в языке». Этой ошибки избежал Ф. де Соссюр, последовательно разделивший синхронию и диахронию. Другая его важнейшая идея — структурный подход к языку. Идущее от И. А. Бодуэна де Куртенэ понятие функции и идущее от Ф. де Соссюра понятие структуры могут, по мнению чешского ученого, дать «плодотворную базу для будущего языкознания». Пражский подход, опирающийся на данные два понятия, позволяет объединить «гумбольдтовскую свежесть наблюдений с бопповской строгостью и методической точностью».
В то же время пражцы спорили с другими школами структурализма, прежде всего с глоссематикой и дескриптивизмом, подчеркивая, что, сходясь с этими направлениями в точке зрения на структуру, расходятся с ними в связи с отсутствующим или имеющим иной смысл там понятием функции.
Полемике с глоссематикой специально посвящена статья В. Скалички «Копенгагенский структурализм и „пражская школа“, включенная в хрестоматию В. А. Звегинцева. Там же помещена и статья Б. Трнки, Й. Вахека и др. „К дискуссии по вопросам структурализма“, где также затрагивается эта тема. Обе статьи относятся уже к послевоенным годам (соответственно 1948 и 1957 г.), но отражают идеи, вполне сложившиеся у пражцев еще в 20-е гг. В. Скаличка в 1948 г. указывал, говоря о современной ему лингвистике: „Позиции младограмматиков окончательно оставлены. Новые направлений борются между собой“. Это было не вполне верно, поскольку историки конкретных языков продолжали работать, оставаясь на младограмматических позициях. Однако младограмматизм действительно к тому времени уже перестал развиваться в идейном плане, а большинство теоретиков языка стояли на позициях того или иного направления структурализма, среди которых глоссематика тогда считалась влиятельной.
В. Скаличка отмечал, что разные направления структурализма идут от разных высказываний Ф. де Соссюра, не вполне сочетающихся друг с другом. От одних высказываний шли глоссематики, от других пражцы. Л. Ельмслев, по словам В. Скалички, требовал „освобождения языкознания от груза других наук“, главное для него — „требование лингвистики чисто лингвистической“. Для пражцев это неприемлемо: „Если при научном исследовании мы пренебрегаем его реальностью, мы ее деформируем. Лингвистическое мышление в понимании Ельмслева становится свободным от всех ограничений. Он сбрасывает с плеч весь огромный груз многообразных отношений к действительности (что учитывают пражские лингвисты). Однако при таком понимании язык становится всего лишь бесцельной игрой“. Именно понимание языка как игры было более всего неприемлемо у Л. Ельмслева для пражцев. Впрочем, и сам Л. Ельмслев пытался скорректировать такую крайнюю точку зрения введением понятий нормы и узуса.
В связи с отношением языка к реальности оказывается невозможным и безоговорочное использование критериев непротиворечивости, простоты и в первую очередь полноты: „Поскольку нам известны все сложнейшие отношения языка к литературе, к обществу, культуре, искусству и т. д., мы не можем говорить об изолированном, исчерпывающем описании текста. Мы знаем, что в тексте мы можем полностью проследить в лучшем случае развитие отдельных букв или же звуков. Значение же текста постоянно меняется. Один и тот же текст кажется иным старому человеку и молодому, человеку с образованием и без образования, современному человеку и человеку, который будет жить через сто лет“. Возражает В. Скаличка и против чисто дедуктивного подхода к языку, считая необходимым в исследовании сочетать дедукцию с индукцией.
Одно из главных расхождений с глоссематиками касается разного понимания термина „функция“. Если Л. Ельмслев исходил из понятия функции в математике, то, как указывает В. Скаличка, „в понимании пражских лингвистов термин „функция“ употребляется тогда, когда речь идёт о значении (функция слова, предложения) или о структуре смысловых единиц (функция фонемы)“. Математическое понимание функции было тесно связано у глоссематиков с пониманием языка как системы чистых отношений, как известно, также идущим от Ф. де Соссюра. Для пражцев это также неприемлемо: их интересовали и отношения, и единицы. Об этом же писала и группа пражских лингвистов во главе с Б. Трнкой: „Л. Ельмслев считает релевантные (или различительные) черты звуков, как и остальные нерелевантные их черты, „звуковой субстанцией“… Пражская же школа учитывает все свойства звука, обращая особое внимание на их релевантные черты, сумма которых обеспечивает тождество звука или фонемы“. Тем самым фонемы для пражцев — не точка пересечения оппозиций, а положительная сущность, имеющая звуковой характер и обладающая собственными свойствами, которые уже за пределами собственно пражской школы получили название дифференциальных признаков.
В статье Б. Трнки и др. выявляются и различия между пражцами и дескриптивистами (о которых речь будет идти ниже). Пражцы отвергали у последних пренебрежение к семантике, иногда доходившее до полного ее отрицания, и сохранение старого, несистемного подхода применительно к языковой истории.
Таким образом, среди других школ структурализма для пражцев было характерно максимально широкое понимание объекта лингвистики. Строго придерживаясь структурного подхода к языку, пражцы стремились изучать его всесторонне, не отказываясь ни от семантики, ни от истории языка, ни даже в значительной степени от внешнелингвистической проблематики. В упомянутой выше статье В. Скаличка выделяет три основные проблемы языкознания: „1. Прежде всего отношение языка к внеязыковой действительности, т. е. проблему семасиологическую. 2. Отношение языка к другим языкам, т. е. проблему языковых различий. 3. Отношение языка к его частям, т. е. проблему языковой структуры“. Он указывал, что в разное время на первый план выходили то одни, то другие проблемы: античная наука игнорировала проблему языковых различий, а историческое языкознание XIX в., наоборот, занималось почти исключительно ею, глоссематика выдвигает проблему структуры и игнорирует две другие. Для пражцев же все три проблемы важны.
Широкий подход к объекту изучения виден уже в первом программном документе пражцев, упоминавшихся выше „Тезисах Пражского лингвистического кружка“ (1929). Здесь в первую очередь выдвинуты два основных методологических принципа пражцев: функциональный и структурный. Структурный принцип основывался на идеях Ф. де Соссюра о разграничении языка и речи, синхронии и диахронии, он объединял пражцев с другими направлениями структурализма. Функциональный принцип, во многом восходящий к И. А. Бодуэну де Куртенэ, был специфичен для пражцев. В „Тезисах“ именно он вынесен на первое место.
В „Тезисах“ об этом говорится так: „Являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с тем имеет целевую направленность. Анализ речевой деятельности как средства общения показывает, что наиболее обычной целью говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели. Ни одно явление в языке не может быть понято без учета системы, к которой этот язык принадлежит“.
В „Тезисах“ выделяются и основные функции языка. Не только язык, но и речевая деятельность в целом делятся на интеллектуализованную и аффективную. Та и другая прежде всего имеют „социальное назначение (связь с другими)“, аффективная речевая деятельность также „служит для выражения эмоции вне связи со слушателем“. Речевая деятельность в социальной роли „имеет либо функцию общения, т. е. направлена к означаемому, либо поэтическую функцию, т. е. направлена к самому знаку“. Данная классификация функций имеет определенное сходство с высказанными на несколько лет позже идеями К. Бюлера, из всех рассмотренных ранее в этом курсе лингвистов наиболее близкого к функциональному подходу. Специфический для пражцев компонент классификации — выделение особой поэтической функции. Если для других школ структурализма поэтика, изучение художественной речи находились вне лингвистической проблематики, то пражцы, в частности, Р. Якобсон, внесли в эти области значительный вклад. В „Тезисах“ указывается, что „каждая функциональная речевая деятельность имеет свою условную систему — язык в собственном смысле“; речь идет об изучении функциональных стилей языка. Такой подход делал возможным считать изучение разговорного, научного или поэтического стиля лингвистической проблемой. Пражцы также много занимались изучением стилей в этом смысле, то есть сосуществующих вариантов языка, используемых в связи с разными функциональными заданиями (ср. иной подход, например, у К. Фосслера, понимавшего под стилем индивидуальный стиль).
В связи с этим пражцы занимались проблемами литературного языка. В „Тезисах“ выделяются особые функции литературных языков по сравнению с другими языковыми образованиями: „Особый характер литературного языка проявляется в той роли, которую он играет, в частности, в выполнении тех высоких требований, которые к нему предъявляются по сравнению с народным языком: литературный язык отражает культурную жизнь и цивилизацию“. Поэтому „необходимость говорить о материях, не имеющих отношения к практической жизни, и о новых понятиях требует новых средств, которыми народный язык не обладает“; отсюда особая лексика, особые синтаксические формы. Важно и то, что „с повышенными требованиями к литературному языку связан и более упорядоченный и нормативный его характер… Развитие литературного языка предполагает и увеличение роли сознательного вмешательства“. Пражцы таким образом не поддерживали крайние идеи Ф. де Соссюра об абсолютной бессознательности языковых изменений, в этом пункте они были ближе к И. А… Бодуэну де Куртенэ. Результатом функционального подхода к литературным (стандартным) языкам стало развитие особой лингвистической дисциплины — истории литературных языков, сложившейся лишь в чешской и в советской лингвистике.
В „Тезисах“ нашли отражение также идеи пражцев в отношении истории языка. Пражский кружок, принимая разграничение синхронии и диахронии и безусловно отдавая приоритет синхронному подходу („Лучший способ для познания сущности и характера язкка — это синхронный анализ современных фактов“), не считал данное различие абсолютным, как это делают Ф. де Соссюр: „Нельзя воздвигать непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делала Женевская школа“. В отличие от Ф. де Соссюра пражцы исходили из того, что диахрония не менее системна, чей синхрония: „Было бы нелогично полагать, что лингвистические изменения не что иное, как разрушительные удары, случайные и разнородные с точки зрения системы. Лингвистические изменения часто имеют своим объектом систему, ее упрочение, перестройку и т. д. Таким образом, диахроническое изучение не только не исключает понятия системы и функций, но, напротив, без учета этих понятий является неполным“. Системный подход к изучению языковых изменений пражцы старались реализовать на практике.
Что касается синхронии, то в отличие от глоссематиков пражцы понимали ее не как систему, рассматриваемую в полном отвлечении от фактора времени, а как состояние языка, один из моментов его развития, В „Тезисах“ об этом сказано: „Синхроническое описание не может целиком исключить понятия эволюции, так как даже в синхронически рассматриваемом секторе языка всегда налицо сознание того, что наличная стадия сменяется стадией, находящейся в процессе формирования. Стилистические элементы, воспринимаемые как архаизмы, во-первых, и различие между продуктивными и непродуктивными формами, во-вторых, представляют явления диахронические, которые не могут быть исключены из синхронической лингвистики“.
В „Тезисах Пражского лингвистического кружка“ кратко был поставлен ряд проблем, которые затем активно разрабатывались пражцами. Это (помимо того, о чем уже шла речь выше) структурная фонология, описание систем фонем и фонологических корреляций; морфонология, изучение „морфологического использования фонологических различий“; исследование свойств слова и систем номинации; изучение структуры предложения и др. В том числе поставлена и проблема структурного сравнения языков независимо от их генетических связей. После примерно полувека, в течение которых типология почти не развивалась и часто отрицалась вообще, пражцы наряду с американским лингвистом Э. Сепиром возродили эту дисциплину. В „Тезисах“ указано, что сравнительное изучение языков не должно ограничиваться одними генетическими проблемами, что сравнительный метод в широком его понимании „позволяет вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции“. Таким образом могут сравниваться любые языки, но возможно неструктурное сравнение родственных языков (например, славянских между собой). Оно отлично от сравнительно-исторического изучения этих же языков, выявляя не конкретные звуковые переходы, а эволюцию систем.
Среди пражцев наибольший вклад в типологию внес В. Скаличка, посвятивший этой проблематике ряд своих ранних работ 30-х гг., в том числе изданную в 1935 г. книгу „О грамматике венгерского языка“. Эта работа и примыкающая к ней по тематике статья того же автора „Асимметричный дуализм языковых единиц“ (1935) включены в изданную в 1967 г. в Москве хрестоматию „Пражский лингвистический кружок“.
Не отказываясь совсем от традиционного выделения изолирующего, агглютинирующего, полисинтетического (инкорпоративного) и флективного типов, В. Скаличка значительно переосмыслил их понимание. Он указывал: „Какой-то язык считался агглютинативным потому, что для него „характерна“ агглютинация, то есть именно это явление отличает его от других языков. Лингвистам-типологам вообще не была известна роль, например, противопоставления агглютинация — изоляция в рамках одного языка. Однако отдельный язык — самостоятельная система, и как таковой он не образует системы с другими языками. Поэтому приходится говорить не о „морфологической классификации“ языков, а только о сходствах и различиях между разными языковыми системами“. То есть нельзя говорить о флексии, агглютинации и т. д. как об определяющей черте строя того или иного языка, как это делали ученые XIX в. Однако можно говорить о флексии, агглютинации и т. д. как о некоторых лингвистических явлениях, наблюдаемых в тех или иных языках. При этом наличие одного из этих явлений не исключает наличия других, однако они могут в разных языках по-разному комбинироваться, что характеризует соответствующие языки. Можно говорить о чисто флективном, чисто агглютинативном типах и т. д. как о неких идеальных эталонах, которым в разной мере соответствуют конкретные языки. Как указывал В. Скаличка в связи с этим, „следует различать систему и тип“, при этом количество типов не слишком велико и их выделение может дать основу для классификации языков.
В. Скаличка также указал на то, что морфологическая структура — не единственное основание для типологии; в частности, он одним из первых проводил сопоставительные исследования фонологических структур разных языков.
В связи с типологическими задачами В. Скаличка старался уточнить традиционные лингвистические понятия, дать им такие определения, на основе которых можно было бы сопоставлять языки различного строя. Он, как и многие другие лингвисты его эпохи, хорошо осознавал нечеткость основанных на интуиции понятий слова, предложения, частей речи и т. д. и стремился уточнить эти понятия. Наряду с этим он выделял и единицы, не учитывавшиеся в традиции. Прежде всего это сема — минимальная единица, обладающая значением. Сема соотносится с морфемой, но не всегда с ней совпадает.
Понятие семы у В. Скалички основано на идеях С. Карцевского об асимметричном дуализме. В статье „Асимметричный дуализм языковых единиц“ чешский ученый выделяет в качестве проявлений такого дуализма омонимию и омосемию (разное выражение одного и того же элемента значения). В случае омосемии (например, если одно грамматическое значение по-разному обозначается в разных типах склонения или спряжения) одной и той же семе соответствует несколько разных морфем. В случае же „склеенного“ выражения нескольких грамматических значений одной морфеме может соответствовать несколько сем. Например, чешское окончание прилагательных у (или его русский эквивалентый) имеет три семы: именительного падежа, единственного числа и мужского рода… Разные языки характеризуются, согласно В. Скаличке, разным соотношением морфемы и семы: в турецком их соотношение близко к взаимно однозначному, в чешском они очень часто не совпадают. В работе „О грамматике венгерского языка“ по этому параметру последовательно сопоставляется ряд языков. Нетрудно Видеть, что соответствующие различия языков хорошо соотносятся с традиционным разграничением агглютинации и флексии: чем флективнее язык, тем значительнее данное несовпадение. Отметим, что многосемность В. Скаличка признавая лишь для грамматических морфем, корневые же у него оказывались односемными по определению. Впоследствии в структурной лингвистике это ограничение было снято (ср. „фигуры плана содержания“ у Л. Ельмслева) и получил развитие так называемый компонентный анализ, при котором значение любой морфемы разлагается на смысловые компоненты.
Все пражцы принимали соссюровское разграничение языка и речи, но их понимание бывало различным. Интересную точку зрения на этот счет, разделявшуюся не всеми пражцами, выдвинул рано умерший лингвист Йозеф Коржинек в статье „К вопросу о языке и речи“, опубликованной в 1936 г. (статья также включена в русском переводе в хрестоматию „Пражский лингвистический кружок“).
Й. Коржинек не соглашался с обычным для структурализма пониманием языка и речи как равноправных, находящихся на одном уровне абстракции явлений. С точки зрения этого ученого, язык и речь — те же самые явления, рассмотренные на разных уровнях абстракции: „Соотношение между языком и речью представляет собой просто отношение между научным анализом, абстракцией, синтезом, классификацией, то есть научной интерпретацией фактов, с одной стороны, и определенными явлениями действительности, составляющими объект этого анализа, абстракции и т. д., — с другой“. „В любом конкретном высказывании, если даже в нем реализуется лишь какая-то незначительная часть языка, всегда заключена вместе с тем вся его структура… и, наоборот, языковая структура исчерпывающе представлена совокупностью индивидуальных речевых актов, она получает в них осязаемое воплощение и проявляется бесчисленное множество раз, бесконечно, многообразно и неповторимо“. Языковая структура интуитивно осознается каждым носителем языка, „а различия между нелингвистом и лингвистом при осознании структурных связей в языке носят отнюдь не принципиальный характер, различаясь лишь в количестве языкового опыта и тех усилиях, которые необходимы для его интеллектуальной переработки“. При этом однако Й. Коржинек был против того, чтобы учитывать в лингвистическом исследовании „языковое чутье наивного информанта“, поскольку оно слишком примитивно и в нем много предрассудков.
Далее, как указывает Й. Коржинек, одним и тем же термином „структура языка“ обозначаются два разных феномена. Во-первых, это нечто существующее независимо от лингвиста; такая структура „служит необходимой основой всех индивидуальных высказываний и дана нам, собственно говоря, лишь в этих высказываниях“, она „в своей совокупности недоступна непосредственному восприятию“. Во-вторых, это „язык как лингвистическая теория“, результат анализа, абстракции и синтеза, основанных на индивидуальных высказываниях. Два данных феномена соотносятся друг с другом лишь через речь. По сути Й. Коржинек утверждает, что структура во втором смысле является моделью структуры в первом смысле, хотя термина „модель“ у него нет.
Все, что совершается в речи, согласно данной концепции, предопределено языковой системой в первом смысле, усвоенной говорящим. Поэтов лингвист „обращает свое внимание на коллективное, надиндивидуальное“, а „вопрос о чисто индивидуальной языковой структуре лишен для лингвиста всякого смысла“. Этим лингвистика противопоставлена стилистике, которая изучает индивидуальное и единичное без выявления каких-либо общих закономерностей.
Моделирующий подход к языку Й. Коржинек считает аналогичным подходу, свойственному естественным наукам, от которых, по его мнению, языкознание принципиально не отличается. Он писал в связи с этим: „Достижимая степень точности в области (правильно понимаемой) лингвистики отнюдь не ниже, чем в прочих научных областях; давно ставшее традиционным привычное представление о значительно меньшей степени точности лингвистических исследований по сравнению, например, с исследованиями в области физики основано на том, что по незрелым методам лингвистов прошлого и по их методическим ошибкам судили о достижимой степени точности в лингвистике вообще. Как и для других наук, здесь особенно необходимо постулировать, что устанавливаемые в области лингвистических явлений научные законы, как и законы, которые будут установлены, не должны иметь исключений. Без этого постулата невозможен никакой научный закон, а без специальных научных законов для языковых явлений лингвистика как наука была бы невозможна. Исключения из научных законов, в том числе из законов лингвистических, являются кажущимися и объясняются либо неправильным пониманием фактов, для которых были сформулированы данные законы, либо неправильным пониманием самих законов. Во всех случая^, где это не так, факты, противоречащие любому выдвинутому закону, свидетельствуют о том, что этот закон сформулирован неточно“.
Итак, Й. Коржинек на новом уровне вернулся к давнему пониманию лингвистического закона, выдвигавшемуся когда-то А. Шлейхером и ранними младограмматиками. Законы он понимал гораздо тире, чем его предшественники, далеко не сводя их к закономерностям звуковых переходов. Однако он также исходил из прямого переноса в лингвистику методов естественных наук (образцом для него явно служила не столько биология, сколько бурно развивавшаяся в эту эпоху физика). Такой подход был нечаст для 30-х гг., но на последнем этапе развития структурализма уже в послевоенное время, связанном с увлечением математическими методами, данный подход (вряд ли под прямым влиянием разбираемой здесь статьи) стал широко распространенным. Безусловно, точка зрения относительно языка и речи, с которой выступил Й. Коржинек, была весьма оригинальна.
Одним из крупнейших представителей Пражской школы и одним из крупнейших лингвистов XX в. вообще был Николай (Николай Сергеевич) Трубецкой. Выпускник Московского университета, воспитанный в традициях фортунатовской школы, он еще в первые годы своей научной деятельности зарекомендовал себя перспективным и разносторонним ученым. Еще в России он занимался славянскими, финно-угорскими, кавказскими языками. Однако в те годы он успел опубликовать лишь небольшое число работ, многое из сделанного им до 1919 г. пропало. После революции Н. Трубецкой эмигрировал и после недолгого пребывания в Болгарии с 1922 г, до конца жизни преподавал в Венском университете. В Вене были написаны его основные лингвистические труды.
Н. Трубецкой был ученым широкой специализации, его интересы далеко не исчерпывались лингвистикой. Ему принадлежат работы по славянским письменным памятникам, фольклору, литературе. Он был одним из теоретиков евразийства — влиятельного течения эмигрантской мысли, выдвигавшего широкие и оригинальные, хотя и весьма спорные историко-философские концепции. С евразийством были связаны и некоторые лингвистические идеи ученого. Например, концепция евразийского языкового союза служила аргументом для теории, согласно которой русские вместе с тюркскими, монгольскими, финно-угорскими и др. народами представляют собой культурное и историческое единство. Отметим, что такого рода идеи были прежде всего характерны для деятельности Н. Трубецкого в 20-е гг., а в 30-е гг. он почти целиком сосредоточился на лингвистике.
Как лингвист Н. Трубецкой также отличался большой широтой. Он много занимался компаративистикой. Помимо конкретных работ ему принадлежат и труды общеметодологического характера. Он продолжал исследования по кавказским и финно-угорским языкам, частично восстановив по памяти утраченное. Много он занимался разнообразными проблемами славистики. Среди выдвинутых им общелингвистических идей особо следует отметить (помимо создания фонологической теории) морфонологическую концепцию и теорию языковых союзов. Хотя те явления, которые теперь лингвисты относят к морфонологии, изучал еще Панини, но данная дисциплина впервые четко выделена лишь Н. Трубецким. В статье „Некоторые соображения относительно морфонологии“ он сформулировал задачи морфонологии как „исследования морфологического использования фонологических средств какого-либо языка“, выделил три основные раздела этой дисциплины: теорию фонологической структуры морфем, теорию комбинаторных звуковых изменений морфем в морфемных сочетаниях, теорию звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию.
В теории языковых союзов ученый обобщил накопленные на разнообразного материале факты, свидетельствующие о вторичном сходстве контактирующих между собой языков. В языковой союз могут входить как неродственные, так и родственные языки, однако их сходства в любом случае обусловлены их контактами и взаимодействиями. Н. Трубецкой выделял ряд языковых союзов: балканский, евразийский (объединяющий русский язык с рядом тюркских, монгольских, финно-угорских и др.)» Им впервые были заложены основы третьего типа классификации языков (наряду с генетическим и типологическим) — ареального, при котором языки объединяются в классы в связи с их географическим расположением и свойствами, приобретенными в результате контактов.
Самой знаменитой и оказавшей наибольшее влияние на развитие мировой лингвистики работой Н. Трубецкого стала его последняя книга «Основы фонологии». Ученый работал над ней в последние годы жизни, издана она была на немецком языке через год после его смерти, в 1939 г. Ряд идей, отраженных в книге, Н. Трубецкой высказывал в печатных работах начиная с конца 20-х гг., однако в книге его фонологическая концепция получила законченное выражение. Книга стала и наиболее развернутым изложением подхода к фонологии, свойственного Пражской школе в целом.
Теоретической основой данного подхода были наряду с бодуэновской концепцией фонемы идеи Ф. де Соссюра, прежде всего о языке и речи. Если Й. Коржинек отошел от соссюровской концепции весьма далеко, то Н. Трубецкой по данному вопросу в основном следовал Ф. де Соссюру при некотором влиянии идей К. Бюлера, например, проявляющихся в разграничении при акте речи «говорящего („отправителя“), слушающего („получателя“) и предмета, о котором идет речь». Как и Ф. де Соссюр, Н. Трубецкой признавал, что «язык существует в сознании всех членов данной языковой общности», хотя в собственно фонологическом анализе он старался обходиться без апелляции к психологии.
Согласно Н. Трубецкому, и язык, и речь имеют обозначающее и обозначаемое, однако их свойства в языке и речи различны. Если в речи как обозначаемое, так и обозначающее бесконечны и многообразны, то в языке они состоят «из конечного исчисляемого числа единиц». Данное теоретическое положение давало возможность разграничить фонетику — науку, обозначающем в речи — и фонологию — науку, обозначающем в языке, Здесь идеи Ф. де Соссюра, до конца не проводившего такое разграничение, дополнялись идеями И. А. Бодуэна де Куртенэ и его учеников Л В. Щербы и Е. Д. Поливанова. Строгое разделение фонетики и фонологии было одним из главных требований к лингвистическому описанию всей Пражской школы с самого начала ее существования.
Фонетику Н. Трубецкой определял как «науку о материальной стороне (звуков) человеческой речи», по своей методологии она целиком относится к естественным наукам. Фонетика имеет физический (акустический) и артикуляторный (физиологический) аспекты. Фонетика изучает неисчислимое многообразие звуков человеческой речи. Иные задачи у фонологии, имеющей дело с ограниченным числом различительных средств, отличающих друг от друга элементы обозначающего, в частности, слова. Таким образом, как пишет Н. Трубецкой, «слова по необходимости состоят из комбинаций различительных элементов… При этом, однако, допустимы не все мыслимые комбинации различительных элементов. Комбинации подчиняются определенным правилам, которые формулируются по-разному для каждого языка. Фонология должна исследовать, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов… и по каким правилам они сочетаются друг с другом в слова». Методы фонологии — те же, что в других лингвистических дисциплинах и, шире, вообще в гуманитарных науках.
Если фонетист должен учитывать все признаки звуков, то «для фонолога большинство признаков совершенно несущественно, так как они не функционируют в качестве различительных признаков слов. Звуки фонетиста не совпадают поэтому с единицами фонолога. Фонолог должен принимать во внимание только то, что в составе звука имеет определенную функцию в системе языка».
Безусловно, все лингвистические традиции и наука о языке до второй половины XIX в. не могли и не стремились учесть все звуковые признаки. Традиционные фонетисты были «стихийными фонологами», бессознательно ориентируясь на функционально значимые признаки, которые однако не всегда четко отделялись от незначимых. Появление экспериментальной фонетики, как уже говорилось выше, привело к выделению значительного числа функционально незначимых и не осознаваемых носителями языка признаков, поэтому естественной реакцией на это вскоре стало появление фонологии, оперирующей ограниченным числом единиц. Но если для основателей фонологии главным критерием была психологическая осознаваемость, не допускающая объективных процедур проверки, то пражцы и близкие к ним по идеям советские фонологи сделали следующий шаг (как будет сказано ниже, первым его сделал Н. Ф. Яковлев не позже 1923 г.). Вместо психологического был выдвинут функциональный критерий: участие или неучастие тех или иных признаков в смыслоразличении. Такой подход хорошо соответствовал общей методологии пражцев, для которых наряду со структурой важнейшую роль играет функция. В то же время этот подход давал возможность разработать достаточно строгие и в равной мере применимые к самому разнообразному материалу процедуры. Выработке таких процедур посвящена большая часть книги Н. Трубецкого.
Точнее, как указывает ученый, смыслоразличительная функция — лишь одна, хотя и важнейшая из трех фонологических функций. Наряду с ней выделяются еще две функции: вершинообразующая (кульминативная), указывающая, какое количество слов или словосочетаний содержится в данном предложении (такую функцию в ряде языков выполняет ударение), и разграничительная (делимитативная), указывающая на границы между единицами. Известно, например, что разными звуковыми признаками могут характеризоваться начало или конец слова или морфемы. Однако Н. Трубецкой указывает, что выделение фонологических единиц основано на смыслоразличительной функции, а две другие не являются для этого необходимыми. Во всей книге речь идет почти исключительно о смыслоразличительной функции, лишь последняя глава посвящена разграничительной.
Основной единицей фонологии Н. Трубецкой, как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, считал фонему, однако определяется фонема у него иначе. Для ее выделения он вводил фундаментальное и по своему значению выходящее за пределы фонологии понятие оппозиции; последовательное выделение этого понятие стало одним из наиболее существенных вкладов Н. Трубецкого в науку о языке. Он писал: «Признак звука может приобрести смыслоразличительную функцию, если он противопоставлен другому признаку, иными словами, если он является членом звуковой оппозиции (звукового противоположения). Звуковые противоположения, которые могут дифференцировать значения двух слов данного языка, мы называем фонологическими (или фонологически-дистинктивными, или смыслоразличительными) оппозициями». Эти оппозиции противопоставлены фонологически несущественным. Каждый член фонологической оппозиции является фонологической (смыслоразличительной) единицей; минимальная фонологическая единица — фонема.
Таким образом, Н. Трубецкой последовательно выдерживал путь от слова к фонеме в лингвистическом исследовании. Он прямо указывал: «Не будем представлять себе фонемы теми кирпичиками, из которых складываются отдельные слова. Дело обстоит наоборот: любое слово представляет собой целостность, структуру; оно и воспринимается слушателями как структура, подобно тому как мы узнаем, например, на улице знакомых по их общему облику. Опознавание структур предполагает, однако, их различие, а это возможно лишь в том случае, если отдельные структуры отличаются друг от друга известными признаками. Фонемы как раз и являются различительными признаками словесных структур». Слово для Н. Трубецкого — первичное, заранее заданное и неопределяемое понятие (как это имело место и в традиционном языкознании). Ср. иной подход в американском дескриптивизме, где главное методическое правило обычно заключалось в том, что морфологические единицы было принято выделять лишь по окончании фонологического анализа.
Н. Трубецкой подчеркивал различие между звуком, фонетической единицей, и фонемой: «Любой произносимый и воспринимаемый в акте речи звук содержит, помимо фонологически существенных, еще и много других фонетически несущественных признаков. Следовательно, ни один звук не может рассматриваться просто как фонема. Поскольку каждый такой звук содержит, кроме прочих признаков, также и фонологически существенные признаки определенной фонемы, его можно рассматривать как реализацию этой фонемы. Фонемы реализуются в звуках речи». И далее: «Все эти различные звуки, в которых реализуется одна и та же фонема, мы называем вариантами (или фонетическими вариантами) одной фонемы». То есть в языке есть только инварианты — фонемы, реализуемые в речи в виде своих вариантов.
На основе указанных теоретических положений Н. Трубецкой подробно рассматривал критерии выделения фонем как в парадигматике (различение фонемы от фонетического варианта), так и в синтагматике (различение фонемы от сочетания фонем). Парадигматические критерии сводятся к возможностям употребления тех или иных звуков в том или ином окружении. Если два звука встречаются в одинаковых окружениях, никогда при этом не меняя значения слова, то это два варианта одной фонемы; если два звука, имеющие некоторое фонетическое сходство, никогда не встречаются в одинаковом окружении, то это также два варианта одной фонемы, если же два звука различают значение слов в одном и том же окружении, то они относятся к разным фонемам. Наиболее очевидное доказательство фонемных различий — так называемые минимальные пары типа точка — бочка — дочка — кочка — ночка. В одно и то же время, в 30-е гг., такого рода критерии разрабатывались и пражцами, и американскими дескриптивистами; в американской лингвистике они получили название дистрибуционных (термин, не используемый Н. Трубецким). Но если в американской науке сами определения фонем основывались на дистрибуционных критериях, а смыслоразличение отходило на задний план или даже отбрасывалось, то для Н. Трубецкого позиционные критерии были лишь проявлением более фундаментальной смыслоразличительной функции.
Рассматривая фонологическую систему языка в целом, Н. Трубецкой обращал особое внимание на классификацию оппозиций, поскольку «в фонологии основная роль принадлежит не фонемам, а смыслоразличительным оппозициям. Любая фонема обладает определенным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система фонологических оппозиций обнаруживает определенный порядок или структуру». В то же время для него, как и для всех пражцев, фонема вовсе не была лишенным собственных свойств пунктом пересечения сетки отношений, как это было для глоссематиков. Постоянно подчеркивается существование собственных различительных признаков у фонем, в парадигматические критерии выделения фонем включается требование звукового сходства, а синтагматические критерии отграничения фонем от фонемных сочетаний почти целиком основаны у Н. Трубецкого на фонетических признаках.
В книге дается разработанная классификация оппозиций разных типов. Выделяются оппозиции одномерные (свойственные только данной паре единиц) и многомерные (включающие более двух единиц), пропорциональные (однотипные противопоставления имеют место для нескольких пар) и изолированные (данное противопоставление более нигде не встречается) и др. Наиболее важно противопоставление привативных, ступенчатых (градуальных) и равнозначных (эквиполентных) оппозиций. Привативны оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой — отсутствием признака, например, «звонкий — незвонкий», «назализованный — неназализованный», «лабиализованный — нелабиализованный» и т. д. Член оппозиции, который характеризуется наличием признака, называется «маркированным», а член оппозиции, у которого признак отсутствует, — «немаркированным». Градуальные оппозиции характеризуются тем, что их члены противопоставлены разной степенью одного признака, например, разными ступенями высоты тона. Наконец, в эквиполентных оппозициях оба члена логически равноправны; таковы, например, оппозиции между согласными разного места образования. Все типы оппозиций иллюстрируются фонологическими примерами, однако нетрудно видеть, что в их содержании нет ничего специфически фонологического. Понятия привативных, градуальных и эквиполентных оппозиций, термины «маркированный член», «немаркированный член» и др. после книги Н. Трубецкого широко используются в самых разных областях лингвистики: в фонологии, грамматике, семантике и т. д.
Еще одно важнейшее разграничение оппозиций, также выходящее за пределы фонологии, связано с различием постоянных и нейтрализуемых оппозиций. Постоянные оппозиции сохраняются во всех ситуациях. Нейтрализуемые оппозиции сохраняются в одних контекстах (позициях релевантности) и исчезают в других (позициях нейтрализации); например, в русском языке противопоставление звонкости и глухости нейтрализуется на конце фонетического слова. В связи с этим вводится особое понятие архифонемы: «В тех положениях, где способное к нейтрализации противоположение действительно нейтрализуется, специфилизуется, специфические признаки членов такого противоположения теряют свою фонологическую значимость; в качестве действительных (релевантных) остаются только признаки, являющиеся общими для обоих членов оппозиции… В позиции нейтрализации один из членов оппозиции становится таким, образом, представителем „архифонемы“ этой оппозиции (под архифонемой мы понимаем совокупность смыслоразличительных признаков, общих для двух фонем)» (термин «архифонема» был ранее предложен Р. Якобсоном). Представитель архифонемы может совпадать или не совпадать с одним из членов оппозиции; если такое совпадение есть и оно не обусловлено чисто фонетически, то данный член оппозиции является немаркированным, а противоположный ему — маркированным. В книге подробно рассматриваются разные типы нейтрализаций и причины, их обусловливающие.
В книге «Основы фонологии» содержится разнообразный фонологический материал и исследуются многочисленные проблемы фонологии. Выделяются признаки фонем, способные быть смыслоразличительными в тех или иных языках; при этом учитываются и просодические признаки: ударение, интонация и др. Изучены общие принципы сочетаемости фонем. Выделяются основные понятия фонологической статистики. При отсутствии специального типологического раздела в книге по многим параметрам сопоставляются фонологические системы разных языков. Отметим активное использование Н. Трубецким материала языков народов СССР, содержащегося в советских публикациях 20— 30-х гг.; этот материал редко привлекался другими фонологами и ряд фактов вошел в оборот мировой фонологии благодаря Н. Трубецкому.
Идеи книги Н. Трубецкого «Основы фонологии» прочно вошли в мировую науку о языке как непосредственно в области фонологической теории, так и в связи с рассмотрением некоторых более общих проблем: оппозиций, нейтрализации и др.
В настоящее время почти все лингвистическое наследие выдающегося ученого издано в нашей стране. Книга «Основы фонологии» вышла в русском переводе в 1960 г., в 50—60-е гг. публиковались и отдельные статьи Н. Трубецкого; в частности, статья «Некоторые соображения относительно морфонологии» включена в хрестоматию «Пражский лингвистический кружок». Наконец, в 1986 г. вышел том, в который вошла значительная часть ранее не издававшихся у нас работ ученого.
Литература
Булыгина Т. В. Пражская школа // Основные направления структурализма. М., 1964.
Реформатский A. А. Н. С. Трубецкой и его «Основы фонологии» // Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
ДескриптивизмРазвитие структурной лингвистики в США имело свои особенности. Американские ученые во многом шли своими путями, независимо от деятельности Ф. де Соссюра и других основателей структурализма в Европе. Тем не менее многое объединяло по своим идеям американских и европейских структуралистов, что часто определялось не взаимовлиянием (хотя позже, особенно с 30-х гг., это также имело место), а общностью развития научного поиска.
Хотя в XIX в. США находились на периферии мировой науки о языке, там также господствовало историческое и сравнительно-историческое языкознание. Наиболее крупный его представитель в американской науке Уильям Дуайт Уитни (1827–1894) во многом выходил за рамки чисто исторического подхода к языку, недаром это один из очень немногих ученых, которых Ф. де Соссюр относил к своим предшественникам в «Курсе общей лингвистики».
Большое влияние на изменение подхода в американской лингвистике на рубеже XIX–XX вв. оказало становление антропологии, в частности, антропологического изучения аборигенов США и Канады — индейских народов. Термин «антропология» в науке англоязычных стран имеет особый смысл, отличный от русского значения этого термина (теперь термин «антропология» в англо-американском смысле появился и у нас). Речь шла о комплексной науке, включающей в себя изучение разных аспектов культуры народов, резко отличных от европейских, прежде всего так называемых «примитивных». Антропологи одновременно занимались этнографией, фольклористикой, лингвистикой, иногда и археологией. Виднейшим представителем американской антропологии на раннем ее этапе был крупный ученый Франц Боас (1858–1942), уроженец Германии.
Антропологическое изучение того или иного народа включало в себя описание его языка. При этом многое из того, что было привычно для традиционного языкознания, оказывалось непригодным для таких целей.
Во-первых, как отмечали уже первые американские антропологи, такие языки, как индейские языки Северной Америки, «не имеют истории». От них не осталось никаких письменных памятников, до прихода к ним антропологов никто эти языки никогда не записывал, поэтому необходимо было изучать их синхронные состояния. Это не означало неприменимость к индейским языкам сравнительно-исторического метода; многие американские лингвисты, включая Л. Блумфилда и Э. Сепира, занимались кроме всего прочего и реконструкцией индейских праязыков. Однако в любом случае синхронное описание языка стояло на первом плане. Поэтому в американской лингвистике не было дискуссий о синхронной и диахронной лингвистике, уже начиная с Ф. Боаса задача синхронного описания понималась как главная.
Во-вторых, традиционные принципы лингвистического описания, часто восходившие еще к античности, оказывались совершенно неприемлемыми. Например, при описании любого индейского языка вставал обычно не очень актуальный для специалистов по языкам Европы вопрос: как выделять слова в этом языке. Европейская традиция и сформировавшаяся на ее основе европейская и американская лингвистика до начала XX в. не имели четко разработанной процедуры членения текста на слова. В большинстве случаев такое членение основывалось на интуиции носителей языка, лишь в сложных периферийных случаях могли вырабатываться какие-то специальные процедуры. Однако при обращении к слишком далеким от языков Европы индейским языкам появилась необходимость выработки строгих критериев выделения слов. Тогда-то и было осознано, что в лингвистике таких критериев не было. Вопрос о том, что такое слово, был независимо от американской лингвистики поставлен и в Европе: можно здесь указать на Ш. Балли, Л. В. Щербу и др. Но в связи с описанием индейских языков вопрос о том, что такое слово, встал особенно остро.
Уже Ф. Боас писал: «Может показаться, что… слово… образует естественную единицу, из которой отроится предложение. В большинстве случаев, однако, легко показать, что это не так и что слово как таковое познается только в результате анализа. Это, в частности, ясно в случаях, когда мы имеем дело с предлогами, союзами и глагольными формами, относящимися к придаточным предложениям». В связи с этим он приводит любопытный пример: даже явно не представляющее собой слова английское окончание прошедшего времени — ed в определенном контексте может представлять собой целое высказывание. Если даже с европейскими языками, когда начинать их внимательно анализировать, все столь непросто, то тем более трудности составляют индейские языки: «При рассмотрении американских языков мы увидим, что эта практическая трудность будет многократно стоять перед нами и что невозможно с объективной уверенностью решить, правомерно ли считать определенную фонетическую группу независимым словом или же подчиненной частью слова». Ф. Боас начал заниматься выработкой специальных исследовательских процедур для выделения слов, позже эту работу продолжат Л. Блумфилд и другие ученые. Немалые трудности вызывали и проблемы сегментации текста на звуковые единицы, морфемного анализа, частей речи и т. д.
В-третьих, еще больше проблем создавала семантика изучаемых языков. Если в языках Европы значения слов хотя и не всегда полностью совпадали друг с другом, но были хотя бы соотносимы, отражая общую культуру, если в этих языках существовал не совсем идентичный, но хотя бы сходный набор грамматических категорий (падеж, число, род, время и т. д.) с достаточно понятными любому европейцу значениями, то в индейских языках все оказывалось не так. Даже придя к какому-то решению о границах слова в том или ином индейском языке, составить словарь этого языка также было непросто: казалось бы, простое слово в одних контекстах соответствовало одному слову английского языка, в других — другому; наоборот, одному английскому слову в изучаемом языке могло соответствовать множество слов, различия между которыми часто не были ясны. Ф. Боас писал об этом: «Группы идей, выражаемые особыми фонетическими группами, обнаруживают большие материальные различия в разных языках и ни в коем случае не подчиняются тем же самым принципам классификаций». Скажем, в одном языке (эскимосском) имеется несколько слов для обозначения снега разного вида, а в другом языке (дакота) значения «кусать», «связывать в пучки», «толочь» передаются одним словом. Далее Ф. Боас указывал: «Совершенно очевидно, что выбор подобных элементарных терминов должен до известной степени зависеть от основных интересов народа… В результате получилось, что каждый язык с точки зрения другого языка весьма произволен в своих классификациях. То, что в одном языке представляется единой простой идеей, в другом языке может характеризоваться целой серией отдельных фонетических групп». Понимание такого различия могло стимулировать разные направления исследования. С одной стороны, можно было сосредоточиться на самих различиях и их культурных основаниях, что стало главной задачей этнолингвистики, созданной Э. Сепиром, а в крайнем виде привело к формированию гипотезы лингвистической относительности Б. Уорфа. С другой стороны, и здесь мог формироваться процедурный подход, что в конце концов привело к появлению компонентного анализа.
Семантические трудности вызывала и проблема грамматических категорий. Оказалось, что в таких языках, как индейские, многие привычные грамматические значения специально не выражаются, но существуют такие грамматические категории, значения которых не предусмотрены в существующей теории и просто ускользают от анализа. И здесь членение действительности у разных народов оказывалось разным, что требовало и изучения этого членения самого по себе, и выработки исследовательских процедур для описания языка.
Наконец, в-четвертых, именно в антропологической лингвистике специальное значение приобрела особая личность — информант. Конечно, изучение языка с помощью бесед с его носителями и задавания им тех или иных вопросов существовало всегда. Но раньше оно имело лишь вспомогательное значение. Лингвист совмещал в себе исследователя и носителя языка. И никто больше ему принципиально был не нужен, хотя, конечно, на него всегда как-то влияла существовавшая традиция. Исследователь вживался в изучаемый язык, явно или неявно пользовался интроспекцией, наблюдением над своей лингвистической интуицией. Это было верно не только в отношении материнских языков. Когда средневековый европеец изучал латынь, немец в XIX–XX вв. — английский язык или англичанин — немецкий, когда историк языка занимался толкованием не до конца понятного текста, — он всегда одновременно выступал как носитель освоенного им языка изучения. С индейскими языками так не получалось. Настолько велик был культурный разрыв, что вживание человека европейской культуры в индейский язык практически было невозможно (от индейцев же вся общественная ситуация требовала, часто насильственно, вживаться в английский язык и связанную с ним культуру). Поэтому центральное место в методике изучения индейского языка заняла работа с информантом, обычно двуязычным, которому исследователь задавал специально подобранные вопросы.
Данный факт имел несколько не только практических, но и теоретических последствий. Прежде всего именно в американской науке специальное внимание было уделено методике полевой лингвистики, методам работы с информантам, ранее мало привлекавшим внимания (из-за этого, в частности, невысокий уровень имело большинство миссионерских грамматик). Такая разработка методики помогала решению более широкой задачи — созданию строгих и проверяемых процедур описания языка, применимых к любому материалу, включая и родной язык лингвиста.
Но замена интуиции лингвиста интуицией информанта имела и еще более принципиальное значение. Всем направлениям структурализма были свойственны более или менее полный отказ от антропоцентризма, рассмотрение языка как внешнего объекта по отношению к исследователю (такой подход иногда называют системоцентризмом). Американские же лингвисты, о которых идет речь в этой главе, довели системоцентризм до крайности. При изучении индейских языков могла создаваться иллюзия полного осуществления идеала — изучения языка с позиции стороннего наблюдателя. Такой наблюдатель слышит речь, замечает в ней регулярности и повторяемости и выясняет сущность этих регулярностей через «объективные» вопросы, задаваемые информанту. Изучать таким образом родной английский язык было труднее: даже отказавшись от интроспекции, трудно было совсем отбросить традиции описания этого языка, основанные на интуиции предшественников. Для индейских языков таких проблем не было. Однако американские исследователи не замечали, что происходит просто перераспределение ролей по сравнению с лингвистами традиционного типа: интуиция и неосознанная интроспекция информанта заменяют интуицию и интроспекцию лингвиста.
Такого рода крайние выводы делали однако не все американские ученые первой половины XX в. Из антропологической лингвистики Ф. Боаса и др. выросли два весьма разных по теоретическим взглядам направления: дескриптивизм, основанный Л. Блумфилдом, и этнолингвистика, создателем которой был Э. Сепир. Оба учились у Ф. Боаса.
Подход, о котором говорилось в предыдущем абзаце, нашел отражение в дескриптивизме, но не в этнолингвистике.
Леонард Блумфилд (1887–1949) начинал свою деятельность как компаративист, учился в Германии у младограмматиков и до начала 20-х гг. выступал в своих работах с вполне традиционных позиций. Однако его занятия индейскими языками (он много занимался сравнительно-историческим изучением одной из крупнейших семей Северной Америки — алгонкинской) привели его в начале 20-х гг. к решительному разрыву с младограмматизмом, впрочем, не полному: разделы книги «Язык», посвященные историческому и сравнительно-историческому языкознанию, показывают, что Л. Блумфилд эти области своей науки продолжал рассматривать с младограмматических позиций (добавляя к младограмматической методике методы лингвистической географии). Однако в понимании общих вопросов языкознания, в преимущественном внимании к синхронии и в подходе к изучению современных языков он отошел от младограмматизма очень далеко. Л. Блумфилд испытал определенное влияние европейского структурализма: в его книге упоминаются Ф. де Соссюр и Н. Трубецкой. Однако в большей степени он исходил из уже сложившихся традиций антропологической лингвистики, заложенных Ф. Боасом, и из идей господствовавшей в то время в американской психологии школы бихевиоризма. Среди прочих источников концепции Л. Блумфилда стоит упомянуть и грамматику Панини: он, по-видимому, первым отметил сходство ее принципов с принципами структурной лингвистики.
Главная книга Л. Блумфилда «Язык» впервые вышла в 1933 г. и затем неоднократно переиздавалась. Как писал позднее Э. Хауген, «она стала учебником во всех областях лингвистических исследованиях для целого поколения американцев»; после ее выхода Л. Блумфилд стал признанным лидером американской лингвистики. В 1968 г. вышел русский перевод книги. Наряду с ней важное значение имели и некоторые другие работы Л. Блумфидда, в частности, опубликованная в 1926 г. статья «Ряд постулатов для науки о языке», также переведенная на русский язык в составе хрестоматии В. А. Звегинцева. Л. Блумфилд стал основателем дескриптивизма, остававшегося самым влиятельным направлением в американской лингвистике с начала 30-х гг. по середину 60-х гг. XX в. Среди дескриптивистов было немало прямых учеников Л. Блумфилда, но и те, кто у него не учился, восприняли многие его идеи.
Книга Л. Блумфилда представляет собой учебное пособие, охватывающее все основные области языкознания; в ней даются сведения по распространению языков в мире, по истории языков, компаративистике, истории письма, диалектологии, истории лингвистики и т. д.; эти главы включают в себя много содержательного материала, но за отдельными исключениями вроде раздела, посвященного Панини, не вносят в лингвистику ничего нового особенно и имеют в основном учебный характер. Однако в теоретических главах книги Л. Блумфилд предлагает оригинальную концепцию, в которой признание психической природы языка сочеталось с последовательным стремлением рассматривать язык как внешнее по отношению к лингвисту явление, требующее объективного наблюдения и анализа.
Бихевиористская концепция в психологии была тесно связана с позитивизмом. Она отказывалась от интроспекции и рассмотрения ненаблюдаемых процессов внутри человека, сосредоточившись на том, что доступно прямому наблюдению, — на поведении и реакциях человека. Такой подход прямо повлиял на Л. Блумфилда, который поясняет свою точку зрения на примере героев известной английской детской песни — Джека и Джил. Джил видит яблоко и хочет его съесть, но не может сама его достать. Она «издает звук, в образовании которого участвуют гортань, язык и губы». В результате Джон срывает для Джил яблоко, она его ест. Все происходящие события Л. Блумфилд описывает как последовательность из трех частей: практических действий, предшествовавших акту речи (стимула говорящего), речи и практических событий, последовавших за актом речи (реакции слушающего). Сама речь с точки зрения говорящего представляет собой речевую замещающую реакцию на некоторый имеющийся у него стимул, а с точки зрения слушающего — речевой замещающий стимул, вызывающий его реакцию. Акты речи служат посредником между практическим стимулом и практической реакцией. Сюда же, по мнению Л. Блумфилда, относится и мышление, которое он приравнивает к «говорению с самим собой». Язык при таком подходе понимается как единая система речевых сигналов, используемая тем или иным языковым коллективом.
Если речевые сигналы «достаточно хорошо известны и понятны», то процесс превращения стимула в речевой сигнал и воспринятого сигнала в реакцию недоступен для наблюдения: «Нам непонятен механизм, заставляющий людей в определенных ситуациях говорить определенные вещи, или механизм, заставляющий их надлежащим образом реагировать, когда те или иные звуки речи достигают их слуха». Л. Блумфилд не сомневается в том, что такой механизм существует, но его изучение — вне компетенции лингвиста: лингвистическая психология — часть психологии, а не лингвистики. В связи с этим он разделяет все лингвистические концепции на две группы: «теорию менталистов» и отстаиваемую им «материалистическую (или, точнее, механистическую) теорию».
К «теории ментал истов» Л. Блумфилд относил большинство традиционных концепций языка. Она «исходит из того, что вариативность человеческого поведения объясняется вмешательством какого-то нефизического фактора — духа или воли или рассудка, наличествующего у каждого человека». Прежде всего под менталистскими понимались концепции, основанные либо на «духе народа», либо на индивидуальной или коллективной психологии.
Механистическая же теория, как ее понимает Л. Блумфилд, оценивает поступки людей по тем же законам, по которым это делает физика или химия; разница — лишь количественная: «человеческое тело — это очень сложная система». Здесь Л. Блумфилд до какой-то степени возрождал подход, предлагавшийся более чем за полвека до него А. Шлейхером, но затем вытесненный психологическими концепциями.
С позиций этой теории Л. Блумфилд рассматривает как психологию языка, которой все-таки он уделяет место в своей книге, так и собственно лингвистику. Психологию языка он сводит лишь к изучению поведения говорящих и слушающих и к исследованию речевых расстройств (афазий); все это позволяет судить о «черном ящике», который представляет собой речевая психика человека. Безусловно, исследование афазии, как уже говорилось в начале данного курса, может много дать для понимания психолингвистического механизма человека. Однако полный отказ от интроспекции, самонаблюдения сильно сужал возможности изучения этого механизма.
Применительно же к собственно лингвистике механистическая теория вела к последовательно системоцентричному рассмотрению языка, преимущественному вниманию к выработке процедурных методик и к сосредоточению на формальных проблемах. Если для европейского структурализма противопоставление языка и речи задается изначально и лингвист последовательно отвлекается от всего чисто речевого, то для Л. Блумфилда и других дескриптивистов даже в общей теории было невозможно отвлечься от реальных процедур, с которыми сталкивается лингвист. Согласно Л. Блумфилду, язык — это «совокупность высказываний, которые могут быть сделаны в данной языковой группе», а основной объект лингвистического исследования — речевой отрезок, данный в высказывании. Это давало возможность противникам дескриптивизма заявлять, что Л. Блумфилд и его последователи изучали не язык, а речь. Это однако было не так: дескриптивисты, отталкиваясь от речи как единственной наблюдаемой реальности, с помощью выработанных ими процедур извлекали из речи некоторые постоянные характеристики, относящиеся к языку.
Л. Блумфилд в отличие от некоторых его последователей не отрицал языковое значение и подчеркивал важность его изучения: «Изучение звуков речи в отрыве от значения — абстракция; в действительности звуки речи используются в качестве сигналов». Однако он подчеркивал неразработанность семантики на современном уровне развития науки: «Наше знание о мире, в котором мы живем, настолько несовершенно, что мы лишь в редких случаях можем точно сформулировать значение какой-либо „языковой формы“»; «Определение значений является… уязвимым местом в науке о языке и останется таковым до тех пор, пока человеческие познания не сделают огромного шага вперед по сравнению с современным их состоянием». Дескриптивная методика могла предлагать лишь косвенные способы исследования языковых значений в основном через изучение языкового поведения информанта, прежде всего через возможность перефразирования и объявления равнозначными тех или иных отрезков текста. В остальном же глава книги «Язык», посвященная значению, повторяет семантические исследования младограмматиков, преимущественно связанные с описанием исторических изменений значения, и не слишком отличается от соответствующих разделов книги Г. Пауля.
В то же время Л. Блумфилд в качестве «основного постулата» лингвистики принимал следующее положение: «В определенных коллективах (языковых коллективах) некоторые речевые высказывания сходны по форме и значению». Однако значение не поддавалось прямому исследованию, хотя заявления информанта о том, имеют ли одно значение или нет те или иные отрезки текста, составляли в разработанных Л. Блумфилдом процедурах необходимое условие работы лингвиста. Главная же часть работы дескриптивиста заключалась в анализе формы. Лингвист, изучая высказывания, замечает, что те или иные его отрезки «сходны по форме», а информант подсказывает, что они также и «сходны по значению». Эти единицы могут иметь собственное значение (морфемы, слова), но могут использоваться лишь как компоненты значимых единиц (фонемы), однако общие принципы их выделения и описания однотипны. Две основные процедуры, которые начали разрабатываться еще Ф. Боасом, но впервые достаточно строго и детально были рассмотрены в книге Л. Блумфилда, — это сегментация высказывания на единицы и выявление окружения тех или иных единиц, их сочетаемости с другими единицами, то есть изучение их дистрибуции. Понятие дистрибуции стало одним из важнейших в дескриптивной лингвистике.
Аналогичные процедуры разрабатывались и в статье Л. Блумфилда «Ряд постулатов для науки о языке». Здесь автор сделал попытку представить основные понятия лингвистики (как правило, существовавшие до него и в значительной части восходившие к европейской традиции) в виде набора постулатов (гипотез и аксиом), из которых выводится все остальное. Такой метод, основанный на влиятельной в то время математической концепции Д. Гильберта, уже рассматривался выше в связи с теорией К. Бюлера. Однако если последний обходится лишь четырьмя общими аксиомами, то Л. Блумфилд стремится к более детальному выяснению достаточно большого количества понятий и явлений. При этом его тринадцать постепенно вводимых гипотез дополняются множеством определений тех или иных лингвистических терминов, следующих, как ему кажется, из данного набора гипотез и других определений. Некоторые из гипотез и определений выглядят достаточно наивно и отражают стремление автора к квазиточности, см., например: «То, что сходно, называется тождественным. То, что не сходно, — различно», В то же время на основе системы гипотез и определений выделяются определения языка, формы, значения и ряда лингвистических единиц: фонемы, морфемы, слова, словосочетания, предложения и т. д. Логическая безупречность предлагаемой системы достаточно спорна, но эта система интересна в двух отношениях. Во-первых, это попытка последовательно подойти к языку на основе выдвинутых тем же автором несколько позже принципов механистической теории (подобный подход вполне естествен для физики, химии и т. д.). Во-вторых, за системой постулатов стоят определенная лингвистическая концепция и определенное понимание тех или иных лингвистических явлений, В статье содержится, хотя и в очень кратком виде, достаточно строгая и последовательная по меркам того времени концепция фонемы, морфемы, слова, частей речи, чередований и пр. В большинстве случаев эта концепция более развернуто описывается в книге «Язык». Упомянем лишь один круг вопросов, связанный с морфемой и словом.
Понятие морфемы, введенное в лингвистику И. А. Бодуэном де Куртенэ, стало у Л. Блумфилда, как и в дальнейшем у его последователей, одним из центральных мест в системе языка. Если традиционно корни и аффиксы рассматривались как части слова и, следовательно, единицы, определяемые через слово (хотя такой подход уже у И. А. Бодуэна де Куртенэ был пересмотрен), то Л. Блумфилд определяет морфему и слово независимо друг от друга, через первичное понятие формы (под формой понимаются любые повторяющиеся звуковые отрезки, обладающие значением): морфема — минимальная форма, слово — минимальная свободная форма, то есть минимальная форма, способная быть высказыванием. Отметим и вводимое одновременно Л. Блумфилдом понятие семемы — минимальной единицы значения, соответствующей морфеме; однако в связи с подчиненной ролью семантики в дескриптивизме это понятие не стало после Л. Блумфилда столь важным, как понятие морфемы.
Подход к определению морфемы, предложенный Л. Блумфилдом, открыл путь для способа описания, который еще отсутствует у него, но позднее получил широкое распространение в дескриптивизме. В соответствии с ним морфология превращается в морфемику. Если традиционная морфология шла от слова как от психологически наиболее значимой единицы, то дескриптивная морфология шла от морфемы. При этом, во-первых, последовательно соблюдалось движение в одну сторону — от меньших единиц к их последовательностям, принятый и в фонологии; во-вторых, морфема в смысле Л. Блумфилда (впрочем, также восходящем к И. А. Бодуэну де Куртенэ) оказывалась достаточно четко определимой и универсальной для любого языка (по крайней мере, если включить в процедуру выделения морфем заключение информанта о том, что имеет значение, а что не имеет).
С выделением же слова трудностей было значительно больше. Определение Л. Блумфилда, гораздо более четкое и однозначное, чем традиционные квазиопределения слова, оказывалось слишком расходящимся с традицией и все-таки неосознанно продолжавшей воздействовать на лингвистов интуицией. С одной стороны, см. вышеприведенный пример Ф. Боаса об окончании прошедшего времени в английском языке, способном образовать высказывание, но явно не слове. С другой стороны, в качестве полноценных высказываний не могут выступать в том же языке артикли, часть предлогов и т. д. Характерна непоследовательность Л. Блумфилда: в соответствии с определением, сохраняемым и в книге «Язык», английские артикли и предлоги — не свободные формы и, следовательно, не слова, но везде, где в книге речь идет об английском языке, автор принимает традиционное представление о слове, отраженное в орфографии. Хотя ряд дескриптивистов разрабатывал процедуры выделения слова в тексте, но в целом эта единица с неопределенными свойствами оказывалась у них на заднем плане, а ее психолингвистическое значение не могло служить для них аргументом в пользу ее выделения. Некоторые дескриптивисты даже вообще стремились обойтись без слова, ограничивая задачи морфологии проблемами сегментации, дистрибуции и классификации морфем, от которых можно дальше переходить прямо к предложению. Такие идеи однако больше проявлялись в теоретических работах, а в описаниях конкретных языков, выполненных с дескриптивистских позиций, почти всегда слова все же выделялись.
Хотя дескриптивные процедуры включали в себя и классификации выделенных единиц, все же у Л. Блумфилда и у большинства его последователей изучение синтагматики преобладало над изучением парадигматики. Несмотря на включение в свою теорию метода постулатов, безусловно дедуктивного, он склонен был считать: «Единственными плодотворными обобщениями являются обобщения индуктивные»; здесь он сближался с младограмматиками. А ограничение обобщений индуктивными вело к преимущественному вниманию к синтагматике, более доступной непосредственному наблюдению, чем парадигматика. Индуктивный подход приводил Л. Блумфилда и к скепсису по отношению к проблеме лингвистических универсалий: «Явления, которые мы считаем универсальными, могут отсутствовать в первом же новом языке, с которым мы столкнемся… Когда в нашем распоряжении будут исчерпывающие сведения о многих языках, мы сможем снова вернуться к проблемам общей грамматики… но подобная работа, когда мы к ней обратимся, будет не спекулятивной, а индуктивной». Здесь Л. Блумфилд следовал за Ф. Боасом, считая, что главное — не втискивать языки в схемы, выработанные на европейском материале; меньшее зло — описывать языки в несоизмеримых категориях, пусть даже в дальнейшем какое-то приведение этих категорий к общему знаменателю и будет возможно. Единственная универсалия, с точки зрения Л. Блумфилда и его последователей, — методика лингвистического анализа, набор общих процедур, в частности, дистрибуционный анализ.
Идеи дескриптивизма получили значительное развитие в американской лингвистике на протяжении более чем четверти века, в довоенные и послевоенные годы. Разрабатывались как общие вопросы, так и конкретные описания языков. Ни одно направление структурализма не оставило после себя столько фонологических и грамматических описаний языков мира, как дескриптивизм. Вместе с накоплением конкретного материала шлифовалась и дескриптивная методика, достигшая законченности к 50-м гг. Популярное и в то же время детальное и научно разработанное описание этой методики содержится в известном учебном пособии Г. Глисона «Введение в дескриптивную лингвистику», переведенном на русский язык.
Книга Г. Глисона содержит как бы усредненный вариант дескриптивизма, очищенный от индивидуальных вариаций и концепционных различий. Однако дескриптивизм был далеко не однородным течением. Шли интенсивные споры, обычно по очень конкретным вопросам вроде признания или непризнания разрывных морфем. Однако за этими спорами часто стояли достаточно серьезные методологические расхождения. Некоторые из конфликтов в лагере дескриптивизме получили в научной литературе название спора сторонников «божьей правды» и «фокуса-покуса». Для одних сохраняло значимость представление о том, что лингвистическая теория должна как-то соответствовать тем реальным процессам, которые мы не можем прямо наблюдать (так несомненно считал и Л. Блумфилд, говоря о стимулах и реакциях). Сторонники «божьей правды» хотя и старались не навлекать на себя обвинений в ментализме (это было бранное слово для всех дескриптивистов), но так или иначе (что особенно было заметно при трактовке явлений английского языка) стремились не отходить слишком далеко от лингвистической интуиции. Сторонники же «фокуса-покуса» исходили лишь из стройности и последовательности теории (ср. концепцию глоссематиков) и предлагали логически безупречные, но интуитивно неприемлемые решения.
В целом в послеблумфилдовском дескриптивизме выделились два основных течения. Более умеренные дескриптивисты (Ч. Хоккетт, Ю. Найда и др.) не отказывались от значения и пытались как-то совместить идеи дескриптивизма и этнолингвистики. Более же последовательные блумфилдианцы довели дескриптивную концепцию до логического завершения. К этому направлению примыкали Б. Блок (известный как теоретик фонологии и японист), Дж. Л. Трейгер (Трейджер) и др., в его рамках начинал свою деятельность и Н. Хомский. Крупнейший представитель этого течения — Зелик Харрис (Хэррис), родившийся в 1909 г. в России (умер в 1992 г.). Свою точку зрения он в последовательном виде изложил в книге «Метод в структуральной лингвистике», вышедшей первым изданием в 1948 г. Эта сыгравшая большую роль в развитии дескриптивизма книга, к сожалению, полностью так и не издана по-русски, однако важные ее фрагменты включены в хрестоматию В. А. Звегинцева.
По сравнению с Л. Блумфилдом З. Харрис в еще большей степени стремится ограничить и сузить проблематику лингвистики. Его уже не интересуют ни психология даже в бихевиористском ее варианте, ни стимулы и реакции. Он, правда, посвящает целую главу книги перечислению того, с чем связаны языковые явления, но, признавая функционирование языка в обществе, его связь с психологией, наличие у языка эстетической функции и т. Х., З. Харрис делает это лишь для того, чтобы определить рамки лингвистических задач. Языковед изучает лишь повторяющиеся свойства речевых отрезков, а все остальное изучают антропологи, психологи, литературоведы и т. д., хотя и они имеют дело с языком. Свойственная структурализму тенденция ограничиться ответом на вопрос «Как устроен язык?» достигла у З. Харриса крайнего завершения.
З. Харрис последовательно исходит из позиции внешнего наблюдателя. Цель лингвиста, как он сам пишет, состоит в том, чтобы выявить в наблюдении определенные регулярности, которые «могут состоять из корреляций между различными видами явлений… или же… могут отмечать повторяемость „тождественных“ частей в пределах каждого из видов явлений». По его словам, «дескриптивная лингвистика (в терминологическом смысле) есть особая область исследования, имеющего дело не с речевой деятельностью в целом, но с регулярностями определенных признаков речи». Среди этих регулярностей особо выделяется упомянутая выше «повторяемость тождественных частей», то есть дистрибуция. Дистрибуция играла важную роль и у Л. Блумфилда, но у З. Харриса это понятие приобретает глобальный характер; иные регулярности, в частности, «корреляции между звуковой последовательностью и социальной ситуацией или значением», хотя и упоминаются, но выводятся за рамки интересов дескриптивиста. З. Харрис заявляет: «Главной целью исследования в дескриптивной лингвистике, а вместе с тем и единственное отношение, которое будет рассматриваться в настоящей работе, есть отношение порядка расположения (аранжировка) или распределения (дистрибуция) в процессе речи отдельных ее частей или признаков относительно друг друга». Сужение лингвистической проблематики достигло здесь предела.
З. Харрис исходил из того, что процедура выделения и классификации повторяющихся относительно друг друга частей высказывания универсальна и может применяться в отношении каких угодно единиц. Реально у него речь идет о двух видах анализа — фонологическом и морфологическом, различие между которыми чисто количественное: «во всех описанных языках существует гораздо больше дифференциальных морфологических элементов, чем дифференциальных фонологических элементов»; кроме того, З. Харрис признавал практическое удобство традиционного порядка описания: сначала фонологический анализ, потом морфологический, использующий результаты фонологического; однако, как будет сказано ниже, он не считал такой порядок принципиальным.
Объектом лингвистического исследования, согласно З. Харрису, служит множество «единичных и законченных высказываний»; под высказыванием понимается «отрезок речи определенного лица, ограниченный с обеих сторон паузами». Здесь важно, что американский лингвист исходит из речи «определенного лица». Если структуралисты, для которых важную роль играло представление об объективном существовании языка (Ф. де Соссюр, А. Гардинер, Е. Д. Поливанов и др.), рассматривали его как коллективное явление, то З. Харрис, видя в наблюдаемых звуковых колебаниях единственную реальность, закономерно возвращался на новом уровне к младограмматическим представлениям о том, что коллективный язык — лишь абстракция лингвиста, отвлекающегося от слишком незначительных различий между индивидуальными языками. З. Харрис идет здесь еще дальше младограмматиков и отмечает наличие у одного и того же носителя нескольких языков, именуемых стилями. Различия стилей «обычно носят дистрибуционный характер, поскольку формы различных стилей, как правило, не соседствуют друг с другом». Лингвист имеет право отвлекаться от стилевых различий, так же как и от слишком малых, далее: стилевых различий между индивидуальными языками, но в идеале это может происходить лишь после того, как все языки и стили описаны.
Идеальная процедура в фонологии или морфологии представляется З. Харрису следующим образом. Лингвист, наблюдая высказывания индивидуального носителя языка, выделяет лингвистические элементы, то есть повторяющиеся и в той или иной степени цельные части высказывания. Затем выделяется окружение, или позиция каждого элемента, которая состоит из соседствующих с ним элементов. После этого определяется дистрибуция элемента, которая есть «совокупность всех окружений элемента, в которых он встречается». На основе изучения дистрибуции мы можем, согласно З. Харрису, отличить фонемы или морфемы от неязыковых элементов вроде кашля: фонемы и морфемы обладают определенной дистрибуцией, а кашель — нет. Зная дистрибуцию элементов, мы можем затем провести операцию их отождествления: элементы с абсолютно идентичной или, наоборот, полностью не совпадающей (дополнительной) дистрибуцией можно отождествить между собой, а элементы с частично совпадающей дистрибуцией не отождествляются (ср. похожую процедуру отождествления фонем у Н. Трубецкого).
Однако в отличие от подхода Н. Трубецкого такая процедура не предполагает обращения к значению. По мнению З. Харриса, значение элементов языка хотя и существует, но не нужно для дистрибуционного анализа и для лингвистики вообще. Он писал: «Могут возникнуть возражения против того, что при определении элементов принимается во внимание также и значение, поскольку, например, при появлении звуков (или звуковых элементов) х и у в идентичном окружении они соотносятся с разными фонемами, если образование, содержащее их, составляет различные морфемы… Однако это различие х и у на основе значения есть различие, которое делают лингвисты, слепые к дистрибуционным различиям… Если мы знаем, что х и у не полностью повторяют друг друга, мы установим, что они различаются и по дистрибуции (а отсюда — и по „значению“). Можно предположить, что любые две морфемы А и В, имеющие разные значения, различаются тем или иным образом и в отношении дистрибуции: существуют два окружения, в которых одна употребляется, а другая нет. Отсюда следует, что фонемы или звуковые элементы, встречающиеся в А, но не в В, различаются по дистрибуции в известной мере от тех, которые встречаются в В, но не в А». То есть значение вообще избыточная категория, и изучение его — дело антрополога или литературоведа, но не лингвиста. Результатом Таких идей был дешифровочный подход к изучению языка, получивший развитие в работах ряда дескриптивистов.
Однако и З. Херрис вынужден был признать, что реальная дистрибуция любого элемента слишком обширна и многообразна. Даже в фонологии учет всех окружений фонемы — не простая задача, а в морфологии подсчет дистрибуции морфем оказался невозможным (поэтому в дескриптивной морфологии встала проблема выделения из моря всевозможных окружений действительно значимых, так называемых диагностических контекстов). «Техническим» средством, позволяющим обойти эти препятствия в реальном исследовании, стало обращение к информанту. По этому поводу З. Харрис пишет: «Привлекая критерий реакции слушателя, мы тем самым начинаем ориентироваться на „значение“, обычно требуемое лингвистами. Нечто подобное, видимо, неизбежно, во всяком случае на данной ступени развития лингвистики; в дополнение к данным о звуках мы обращаемся к данным о реакции слушающего. Впрочем, данные о восприятии слушающим высказывания или части высказывания как повторения ранее произносившегося контролировать легче, чем данные о значении».
Таким образом, З. Харрис пытался изгнать всякий субъективизм из лингвистического анализа, считая, во-первых, что доступный внешнему наблюдению диалог лингвиста с информантом — нечто «легче контролируемое» и, следовательно, более объективное, чем анализ значения самим лингвистом; во-вторых, что в будущем, когда лингвисты научатся выделять все дистрибуции каждого элемента, можно будет обойтись и без вопросов к информанту. При этом не учитывалось, что на деле происходит просто подмена одной деятельности другой: интуиция и интроспекция при неизбежном обращении к значению передоверяются информанту, а лингвист лишь освобождается от некоторых этапов работы. То, что казалось З. Харрису и другим крайним дескриптивистам лишь сокращением времени и вынужденным пока что несовершенством метода, оказалось едва ли не самой принципиально важной частью лингвистического исследования. Технические сложности, связанные с перебором контекстов, могли бы быть преодолены с развитием компьютеризации, но осуществить чисто дешифровочное, не связанное с обращением к интуиции информанта описание какого-либо конкретного языка не удалось ни одному дескриптивисту.
Также лишь соображениями простоты З. Харрис объяснял целесообразность стандартного для дескриптивистов порядка: сначала фонологический анализ, затем морфологический: «Так же как мы можем переходить от морфем к фонемам, так мы можем — и притом с большей простотой — переходить от фонем к морфемам». Он вполне допускал возможность разделения текста на части, соответствующие целым морфемам, лишь на основе учета их дистрибуции, а затем уже членения их на фонемы. Ясно, что такой подход был еще менее реалистичен, чем более обычный для дескриптивистов обратный путь.
Подход, доведенный до логического завершения З. Харрисом, сужал задачи лингвистики до таких узких пределов, в каких реально нельзя было работать; возможность на практике писать дескриптивные грамматики конкретных языков достигалась лишь за счет неявного отказа от некоторых слишком жестких ограничений. Однако это не значит, что дескриптивистский подход ничего не дал науке. Именно крайнее сужение проблематики дало возможность сосредоточиться на том, что оставалось согласно дескриптивистским канонам в пределах лингвистики. На другом уровне и применительно к другим областям науки о языке дескриптивисты оказались в этом отношении близки к младограмматикам, также сильно сужавшим объект изучения. Как и младограмматики, дескриптивисты, не внеся многого в лингвистическую теорию, значительно развили методику лингвистической работы. Исходя из нереалистичного допущения, они показали, что может сделать лингвистика при таком ограничении. Процедурный подход к языку, критерии сегментации текста, дистрибуционный анализ, отождествление единиц на основе дистрибуции, — все это либо уточняло и формулировало в явном виде ту методику, которая существовала неосознанно со времен александрийцев, либо давало основу для принятия решений там, где интуиция не дает ответа. При выработке методов описания дескриптивисты активно начали применять математические методы. Такая методика давала, как и компаративная методика у младограмматиков, возможность проверять получаемые лингвистом в области синхронной фонологии и морфологии результаты, сравнивать те или иные описания. И даже такой резкий критик дескриптивизма, как Н. Хомский, не мог отрицать значимости Дистрибуционных методов, выработанных дескриптивистами. Нельзя не отметить и того, что дескриптивная лингвистика активно занималась применением своей методики к изучению многих языков, в том числе ранее не описанных; дескриптивисты стали авторами большого числа книг и статей — по значительному числу языков мира.
В то же время господство дескриптивизма в американской лингвистике (как и столь же несомненное господство младограмматизма в европейской науке в соответствующий период) закончилось резкой критикой его методологических основ и резкой сменой научной парадигмы. Произошло это в 60-е гг. после выступления Н. Хомского и его последователей, которые показали неспособность дескриптивизма ответить на многие теоретические и практические вопросы. Очень быстро, уже ко второй половине 60-х гг., дескриптивизм полностью уступил в США свои позиции генеративизму, хотя многие выработанные в его рамках методические приемы не утратили своего значения и сейчас.
Литература
Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С. Дескриптивизм // Основные направления структурализма. М., 1964.
Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
Эдвард СепирРазвитие лингвистики в США в 20—30-е гг. далеко не исчерпывалось дескриптивизмом. Другим важным направлением была так называемая этнолингвистика, крупнейшим представителем которой был Эдвард Сепир (1884–1939).
Э. Сепир родился в Германии, но когда ему было пять лет, его семья переселилась в США. Он был учеником Ф. Боаса и со студенческих лет занимался полевым исследованием индейских языков. В 1910–1925 гг. он работал в Оттаве, столице Канады, где им была написана самая известная книга «Язык» (1921). После возвращения в США он был профессором в Чикагском, а затем в Йельском университете. Им было подготовлено много учеников.
Э. Сепир был ученым очень широкого профиля. Если его современники-дескриптивисты, как и многие другие структуралисты, старались жестко ограничивать свою деятельность проблематикой внутренней лингвистики, то ему был свойствен совсем иной подход. Как пишет А. Е. Кибрик в предисловии к изданию трудов ученого, «большую часть своей академической карьеры Сепир занимал должности по отделению антропологии, и это наложило особый отпечаток на все его научное мировоззрение. Но главным делом его жизни был, несомненно, язык. Такая двойственность научной деятельности Сепира обернулась в конечном счете великим благом, потому что это позволило ему избежать распространенного соблазна профессионального изоляционизма, сохраняло в нем способность и готовность к интегральному взгляду на природу языка, который как объективная данность существует не сам для себя, а в сокровенной связи со всеми проявлениями человеческого духа. Открытый, незашоренный взгляд Сепира на язык естественно приводил его к размышлениям, сближавшим его концепцию с идеями, находящимися на стыке смежных наук о человеке — этнологии, психологии, социологии, психиатрии, фольклористики, теории религии». Такой широкий подход к предмету исследований выделял ученого не только среди американских лингвистов, но вообще среди языковедов его эпохи. Даже систематически выходившие за пределы внутренней лингвистики пражцы не занимались столь разнообразным кругом проблем.
Среди многочисленных работ Э. Сепира мы видим исследования по общему языкознанию, по описанию индейских языков, по компаративистике, психолингвистике, социолингвистике, культурологии и др. Безусловно, он был ученым энциклопедического типа, достаточно редкого в эпоху, когда все более преобладала узкая специализация. Ему принадлежит до сих пор сохраняющая свое значение генетическая классификация языков Северной Америки. Одним из первых он разрабатывал методику полевых исследований. Весьма интересная его работа «Речь как черта личности» посвящена проблеме, до сих пор не получившей в лингвистике должного освещения, — выяснению того, как отражаются в языке индивидуальные особенности человеческой личности. Ряд его публикаций выходит за пределы лингвистики и посвящен общим проблемам культуры, человеческого поведения и т. д. Представление о Э. Сепире как ученом дает изданный в 1993 г. в Москве сборник его сочинений «Избранные труды по языкознанию и культурологии». В сборник входит и его книга «Язык», в 1934 г. уже издававшаяся в русском переводе.
Книга «Язык» рассчитана на достаточно широкого читателя. Она сочетает в себе популярность и доходчивость изложения с высоким научным уровнем, в ней просто говорится о серьезном. В этом отношении книга Э. Сепира сходна с появившейся одновременно с ней книгой Ж. Вандриеса, однако теоретические взгляды двух лингвистов достаточно различны. Если у Ж. Вандриеса еще многое принадлежит XIX в., то книга Э. Сепира отражает уже следующий этап развития науки.
В книге Э. Сепира «Язык» рассматриваются самые различные вопросы внутренней и внешней, синхронной и диахронной лингвистики. Наряду с рассмотрением языковых структур большое место уделено таким проблемам, как язык и культура, язык и литература, специальная глава посвящена языковым контактам. Важна для Э. Сепира почти переставшая к тому времени интересовать лингвистов проблема языка и мышления. Ученый выступал против традиционного представления о том, что язык — лишь внешняя форма мысли: «С точки зрения языка мышление может быть определено как наивысшее скрытое или потенциальное содержание речи, как такое содержание, которого можно достичь, толкуя каждый элемент речевого потока как в максимальной степени наделенный концептуальной значимостью. Из этого с очевидностью следует, что границы языка и мышления в строгом смысле не совпадают. В лучшем случае язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения». Постоянно в книге говорится о выявлении наиболее общих свойств языка, позднее идеи Э. Сепира оказали влияние на становление лингвистики универсалий.
Но более всего книга «Язык» известна в связи с рассмотрением в ней типологической проблематики. Впервые после краха стадиальных теорий и временного прекращения интереса к типологии была вновь поставлена проблема системного сопоставления языков независимо от их генетических связей. Э. Сепир писал: «Мы можем сказать, что все языки друг от друга отличаются, но некоторые отличаются значительно более, чем другие, а это равносильно утверждению, что возможно разгруппировать их по морфологическим типам». Однако традиционная морфологическая классификация языков не могла его удовлетворить по многим причинам: количество привлекаемых языков было ограниченным, все языки старались классифицировать лишь с одной точки зрения, пытаясь все свести к «единой простой формуле», как взаимоисключающие явления рассматривались флексия, агглютинация и т. д., хотя эти признаки могут сосуществовать в конкретных языках. Тем более, конечно, устарели стадиальные идеи. Тем не менее Э. Сепир осознавал, что традиционные понятия вроде флексии или агглютинации не следует отбрасывать, поскольку они отражают существенные стороны языковой структуры.
На смену традиционной одномерной Э. Сепир предложил многомерную классификацию. Выделяются три основных признака, на основе которых могут классифицироваться языки. Во-первых, это степень сложности слова: аналитические, синтетические и максимально сложные полисинтетические (инкорпорирующие). Во-вторых, это степень спаянности элементов внутри слова: выделяются языки изолирующие, агглютинативные, фузионные (флективные) и символические (для которых характерно выражение грамматических значений путем внутренних изменений в корне). Наиболее оригинален и важен для Э. Сепира третий признак, связанный с типами языковых значений. Все значения он подразделял на основные (конкретные), выражаемые отдельными словами или корнями; менее конкретные деривационные, обычно выражаемые словообразовательными суффиксами; еще более абстрактные, но с некоторой долей конкретности конкретно-реляционные; наконец, имеющие лишь синтаксическое значение чисто-реляционные. Два последних типа значений могут выражаться аффиксами, внутренними изменениями корня, а чисто-реляционные — и позицией (порядком слов). Два полярных типа есть, согласно Э. Сепиру, во всех языках, два средних — не во всех; в зависимости от возможности существования обоих классов или только одного из них выделяются четыре типа языков. Последняя классификация признается наиболее важной, поскольку она затрагивает не «внешнюю языковую технику», как две первые, а передачу значений в языке.
Хотя Э. Сепир отмечал, что в конкретном языке могут сосуществовать разные назначения одного итого же признака, но он, как и типологи XIX в., считал, что каждый язык может быть отнесен к некоторому определенному классу, критерием такой принадлежности для него являлась типичность для языка того или иного признака (изоляции, агглютинации и др.). В этом отношении более новаторский подход, связанный с выделением изолирующего, агглютинативного и пр. эталонов, с каждым из которых сопоставляется тот или иной язык, был предложен В. Скаличкой несколько позже, в 30-е гг.
В книге «Язык» речь идет не только о синхронной, но и о диахронной типологии. Отказавшись от стадий, Э. Сепир в то же время осознавал существование закономерностей в развитии строя языков. В связи с этим он выдвинул понятие дрейфа (drift) языка. Хотя индивидуальные изменения в языке случайны, но развитие языка не случайно: «Дрейф языка осуществляется через не контролируемый говорящими отбор тех индивидуальных отклонений, которые соответствуют какому-то предопределенному направлению… Изменения, которые должны произойти в языке в ближайшие столетия, в некотором смысле уже предвосхищаются в иных неясных тенденциях настоящего и… при окончательном осуществлении их они окажутся лишь продолжением тех изменений, которые уже совершились ранее». В связи с этим Э. Сепир анализировал ряд примеров из английского языка, которые он интерпретировал как проявление дрейфа к неизменяемости слова. Подобные идеи ранее высказывал И. А. Бодуэн де Куртенэ, который однако отрицал типологию. Идеи же Э. Сепира естественно связываются с закономерностями перехода от одного значения типологического признака к другому: для английского языка от синтетизма к аналитизму. Идея дрейфа однако разобрана Э. Сепиром лишь для одного языка, какие-либо более общие закономерности он не выявлял. Объектом систематического исследования диахронные типологические закономерности стали лишь с 70-х гг. в американской, а затем и в отечественной науке.
Помимо своей главной книги Э. Сепир излагал свои теоретические идеи в статьях, среди которых особо надо выделить работы «Статус лингвистики как науки» и «Язык», в сокращенном виде включенные в хрестоматию В. А. Звегинцева (в сборнике трудов Э. Сепира 1993 г. они переведены полностью).
Статья «Статус лингвистики как науки» (1928) посвящена проблеме взаимоотношения языкознания с другими науками. В отличие от дескриптивистов Э. Сепиру была чужда идея жесткого отграничения лингвистики от других наук о человеке. В статье, как и в ряде других его работ, подчеркивается необходимость сотрудничества лингвистов с культурологами, психологами, социологами. Хотя ученый указывает на значительные успехи, уже достигнутые лингвистикой, прежде всего в области сравнительно-исторических исследований, для него было важным рассмотреть задачи, которые остаются нерешенными и которые лингвистика не может решить самостоятельно.
Среди всех смежных наук Э. Сепир в первую очередь выделяет антропологию (в англо-американском смысле) и историю культуры: «Язык приобретает все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры. В некотором смысле система культурных стереотипов каждой цивилизации упорядочивается с помощью языка, выражающего данного цивилизацию». В связи с этим он возвращается на новом этапе развития науки о языке к идеям, когда-то высказанным В. фон Гумбольдтом: «Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе… „Реальный мир“ в значительной степени неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками… Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества». Идея об обусловленности человеческого поведения языком была в дальнейшем развита учеником Э. Сепира Б. Уорфом, см. следующую главу.
Взаимодействие языкознания и культурологии, согласно Э. Сепиру, не исчерпывается проблемами влияния языка на культуру. Сюда же входят и такие вопросы, как изучение культуры тех или иных народов на основе использования тех или иных пластов культурной лексики; см., например, реконструкции культуры индоевропейцев на основании единственного доступного источника — реконструкций индоевропейского словаря.
Столь же важно взаимодействие между лингвистами и социологами: «Социолога не могут не интересовать способы человеческого общения. Поэтому крайне важным для него является вопрос о том, как язык во взаимодействии с другими факторами облегчает или затрудняет процесс передачи мыслей и моделей поведения от человека к человеку». И, безусловно, важный пограничный вопрос — изучение «социальных стилей» речи. Общению лингвистов с социологами однако препятствует недостаточная разработка указанных проблем.
Следующий важный вопрос — связь лингвистики и психологии. К концу 20-х гг. и европейский структурализм, и американский дескриптивизм шли по пути последовательного отхода от всякого психологизма. Иначе смотрел на эту проблему Э. Сепир: «Обнадеживающим представляется тот факт, что языковым данным все большее внимание уделяется со стороны психологов». Как и Л. Блумфилд, Э. Сепир исходил из бихевиористской психологии, но если Л. Блумфилду обращение к ней нужно было главным образом для того, чтобы отграничить изучаемые лингвистикой явления от нелингвистических, то для Э. Сепира важно и интересно изучение соотношений между психическими и языковыми стимулами и реакциями, символическая роль языковых фактов (у него есть и специальная работа «Психологическая реальность фонем»).
В статье также рассматривается взаимоотношение лингвистики с философией и естественными науками — физикой (прежде всего акустикой) и физиологией. На основе всех выявленных междисциплинарных связей Э. Сепир ставит итоговый вопрос: «Каково же, наконец, место лингвистики в ряду других научных дисциплин? Является ли она, как и биология, естественной наукой или все-таки гуманитарной?». В целом ученый склоняется ко второй точке зрения. У лингвистики есть элементы сходства с естественными науками, в том числе непривычная для обычных гуманитарных наук строгость метода, в основе которой лежит «регулярность и стандартность языковых процессов». Однако такая регулярность есть везде, пусть и с разной степенью очевидности: «За внешней беспорядочностью социальных явлений скрывается регулярность их конфигураций и тенденций, которая столь же реальна, как и регулярность физических процессов в мире механики, хотя строгость ее бесконечно менее очевидна и должна быть понята совсем по-другому». Главное не в этом: Язык — это в первую очередь продукт социального и культурного развития, и воспринимать его следует именно с этой точки зрения. Поэтому Э. Сепир уделяет основное внимание связям лингвистики с гуманитарными науками, связь с акустикой и физиологией считает менее значимой, а вопрос «лингвистика и математика», уже поднимавшийся в те годы, обходит совсем. Делается важный вывод: «Языкознание лучше всех других социальных наук демонстрирует… возможность подлинно научного изучения общества, не подражая при этом методам и не принимая на веру положений естественных наук». Лингвистам же, «хотят они того или нет», «придется все больше заниматься теми проблемами антропологии, социологии и физиологии, которые вторгаются в область языка».
Первые десятилетия после появления данной статьи лингвистика скорее развивалась в направлении, обратном тому, к чему призывал Э. Сепир. Тенденция к обособлению лингвистики от других наук, прежде всего гуманитарных, усиливалась, а стремление полностью основываться на методах естественных наук и достигнуть полной математизации исследований языка достигло пика в 50—60-е гг. Однако сейчас идеи Э. Сепира кажутся более современными и справедливыми, чем в момент их появления. В последние десятилетия наблюдается несомненная новая гуманитаризация лингвистики, о которой еще в 1928 г. говорил американский ученый.
Статья «Язык» (которую не надо смешивать с одноименной книгой) писалась для «Энциклопедии общественных наук» и была издана в 1933 г. Жанр энциклопедической статьи заставлял автора рассматривать самые разнообразные вопросы, касающиеся строения, функционирования и истории языка. Особенно интересны идеи Э. Сепира, связанные с выявлением многообразных функций языка.
Традиционно большинство языковедов в качестве основной языковой функции выделяли коммуникативную, функцию средства общения между людьми. Э. Сепир, разумеется, не отрицал ее, но в то же время подчеркивал, что она не является ни единственной, ни даже главной: «В качестве первичной функции языка обычно называют общение. Нет надобности оспаривать это утверждение, если только при этом осознается, что возможно эффективное общение без речевых форм и что язык имеет самое непосредственное отношение к ситуациям, которые никак нельзя отнести к числу коммуникативных… Коммуникативный аспект речи преувеличен».
На первый план Э. Сепир выдвигал другую функцию языка — символическую. Это видно уже из его определения языка: «Язык в основе своей есть система фонетических символов для выражения поддающихся передаче мыслей и чувств». Далее говорится: «Язык воспринимается как совершенная символическая система, использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и передачи любых значений, на которые способна данная культура, независимо от того, реализуются ли эти средства в форме реальных сообщений или же в форме такого идеального субститута сообщения, как мышление. Содержание всякой культуры может быть выражено с помощью ее языка». Коммуникативная функция производна от символической: «Более правильным представляется утверждение, что изначально язык является звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности символически, что именно это свойство сделало его удобным средством коммуникации и что в реальных обстоятельствах социального взаимодействия он приобрел те усложненные и утонченные формы, в которых он нам известен ныне».
Символическая функция языка не означает простого замещения символами человеческого опыта: язык «в своем конкретном функционировании не стоит отдельно от непосредственного опыта и не располагается параллельно ему, но тесно переплетается с ним… Даже пребывая на нашем культурном уровне, нередко трудно провести четкое разграничение между объективной реальностью и нашими языковыми символами, отсылающими к ней; вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются». То есть снова возникает проблема обусловленности культуры языком, идущая от В. фон Гумбольдта.
Э. Сепир выделял и другие языковые функции. С символической функцией тесно связана экспрессивная: «Одно и то же внешнее сообщение истолковывается по-разному в зависимости от того, какой психологический статус занимает говорящий с точки зрения его личных отношений, и с учетом того, не воздействовали ли такие первичные эмоции, как возбуждение, злоба или страх, на произносимые слова таким образом, что придали им противоположный смысл».
Далее, «язык — мощный фактор социализации, может быть, самый мощный из существующих». С социальной ролью языка связаны сразу несколько его функций. Важна впервые отмеченная Э. Сепиром функция «символа социальной солидарности»: любая группа людей, даже самая малая, «стремится развить речевые особенности, выполняющие символическую функцию выделения данной группы из более обширной группы… „Он говорит, как мы“ равнозначно утверждению „Он один из наших“».
Другая социальная функция (позже названная Р. Якобсоном фатической) направлена на «установление социального контакта между членами временно образуемой группы, например, во время приема гостей. Важно не столько то, что при этом говорится, сколько то, что вообще ведется разговор».
И еще одна социальная функция связана с ролью языка в хранении и накоплении культуры. Культура передается из поколения в поколение прежде всего в языковой форме. Это относится к любым обществам, только на ранних стадиях человеческого развития передача происходит устно, а позже значительную роль приобретает письменность. С другой стороны, «несмотря на то, что язык действует как социализующая и унифицирующая сила, он в то же время является наиболее мощным и единственно известным фактором развития индивидуальности». Личность всегда отражается в индивидуальных речевых особенностях, и связанная с этим функция также важна.
И последняя из выделяемых Э. Сепиром функций связана с ситуациями, когда слова прямо превращаются в дела: «Даже в самых примитивных культурах удачно подобранное слово, по-видимому, является более мощным свойством воздействия, нежели прямой удар» (см. также ситуации клятвы или предоставления слова в прениях, когда речевая деятельность одновременно является и содержанием сказанного). Эта функция стала очень активно изучаться лингвистами в последнее время.
Если сравнить классификацию языковых функций в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» и в статье Э. Сепира, то очевидна большая разработанность последней, хотя Э. Сепир не выделяет такую функцию, как поэтическая, присутствующую у пражцев. В дальнейшем два подхода были синтезированы у Р. Якобсона.
В статье «Язык» также говорится о способах классификации языков, в связи с чем вновь излагаются типологические идеи Э. Сепира. Говоря о причинах языковых изменений (вопрос, мало разрабатывавшийся в 20—30-е гг., особенно в США), ученый разграничивает два типа изменений: исконные, обусловленные развитием языковой структуры, и обусловленные контактами, хотя при этом указывает, что между ними трудно провести четкую грань. В целом же «наиболее мощными дифференцирующими факторами являются не внешние влияния, как они обычно понимаются, а скорее очень медленные, но могущественные неосознаваемые изменения в одном и том же направлении, которые заложены в фонематических системах и морфологии самих языков». Упомянуты и «бессознательные стремления к экономии усилий при произнесении звуков или звукосочетаний». В связи с контактно обусловленными изменениями Э. Сепир обращает внимание на такой факт: на западном побережье Северной Америки «имеется много языков, принадлежащих, насколько мы можем судить, к генетически не родственным группам, но имеющих много общих важных и характерных фонетических особенностей». Такое явление похоже на языковой союз у Н. Трубецкого. В отличие от последнего Э. Сепир однако считал, что такие явления встречаются лишь в области фонологии и лексики, а морфологическое воздействие одного языка на другой почти невозможно. Однако в связи с этим он приводит не слишком удачный пример: в японском языке масса заимствовании из китайского, но «нельзя найти никаких следов влияния структуры китайского языка». Последнее однако неверно: такие влияния в японском языке достаточно заметны.
В статье также говорится о социолингвистических проблемах, в те годы также мало изучавшихся. Подчеркивается, с одной стороны, вытекающее из функции «символа социальной солидарности» значение языка для становления и развития национального самосознания, поэтому помимо коммуникативной функции в любом государстве важны символические функции того или иного языка для господствующей нации или же для меньшинства. С другой стороны, коммуникативная функция создает «логическую необходимость в международном языке». Как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Сепир относился с большим вниманием к языкам типа эсперанто и считал их перспективными, хотя указывал, что функцию международного языка естественным путем при благоприятном развитии событий может выполнить и «один из великих национальных языков — таких, как английский, испанский или русский».
Безусловно, Э. Сепир выделялся среди современных ему лингвистов не только в американской, но и в мировой науке постановкой и попытками решения многих широких и выходящих за пределы чистой лингвистики проблем. Эти проблемы продолжают оставаться актуальными и в наши дни.
Литература
Кибрик А. Е. Э. Сепир и современное языкознание // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
Гипотеза языковой относительности Бенджамена УорфаИнтерес Э. Сепира к взаимоотношениям языка и культуры нашел отражение в весьма своеобразной концепции его ученика Бенджамена Уорфа (1897–1941). В период господства в американской лингвистике дескриптивизма, крайне сужавшего проблематику науки о языке, Б. Уорф обратился к интересным и важным вопросам, временно выпавшим из поля зрения большинства не только американских, но и европейских ученых.
Б. Уорф не был профессиональным языковедом. Работая инженером по технике безопасности, он увлекся антропологией и лингвистикой, посещал в качестве вольнослушателя лекции Э. Сепира и изучал малочисленный язык хопи в штате Аризона. Из-за ранней смерти он написал немного, всего несколько статей. Посмертно, в 1956 г., его работы были изданы отдельной книгой под названием «Язык, мысль и реальность». Три наиболее важных статьи опубликованы по-русски в 1960 г. в первом выпуске «Нового в лингвистике»; одна из них, «Отношение норм поведения и мышления к языку», включена также в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Немногих написанных им работ оказалось достаточным для того, чтобы виднейший современный американский социолингвист Дж. Фишман сравнил Б. Уорфа с Н. Коперником, Ч. Дарвином, 3. Фрейдом. Есть, впрочем, и ученые, полностью отвергающие его идеи. Следует разобраться в том, почему статьи Б. Уорфа вызывают столь разное отношение.
Непрофессионализм Б. Уорфа, его отдаленность от принятых в лингвистическом сообществе «правил игры» и влияние Э. Сепира, самого недогматичного из американских лингвистов, привели его к рассмотрению отвергнутой дескриптивистами «менталистской» тематики. Работая инженером по технике безопасности, он заинтересовался примерами влияния языка на поведение людей. Вот один пример: люди осторожны, имея дело со складом бензиновых цистерн, однако гораздо беспечнее становится их поведение возле склада «пустых бензиновых цистерн» (empty gasoline tanks). Однако содержащие взрывчатые испарения «пустые» цистерны не менее опасны, чем полные, что приводило к несчастным случаям. Таким образом оказывалось, что причина неприятностей до какой-то степени определялась двусмысленностью английского слова empty (той же самой, что и у его русского эквивалента «пустой»).
В дальнейшем, занимаясь языком и культурой народа хопи, Б. Уорф обнаружил ряд различий между языком хопи и английским языком не только в способах обозначения тех или иных явлений действительности, но и в самом членении действительности на обозначаемые «куски». Эти различия проявляются как в лексике, так и в грамматике, в частности, в составе и семантике грамматических категорий.
Согласно Б. Уорфу, язык хопи отличается от английского и других европейских языков в отношении категорий числа и времени. В европейских языках, с одной стороны, категорию числа имеют существительные с предметным и с непредметным, в частности, временным значением. С другой стороны, имеется класс неисчисляемых существительных вроде русс. молоко, вода, песок или их английских эквивалентов. В языке хопи нет неисчисляемых существительных, но непредметные по значению существительные не имеют множественного числа и не сочетаются с количественными числительными. Грамматическая же категория времени в хопи вообще отсутствует. Что касается лексики, то в европейских языках слова, обозначающие отрезки времени (части суток, времена года и т. д.), легко «объективизируются» и выступают как существительные, тогда как в хопи им соответствуют формы наречий. В европейских языках широко распространен метафорический перенос лексических значений, в соответствии с которым слова с исконно пространственным значением приобретают значения временной длительности, интенсивности, направленности: ср. длинный карандаш и длинный день, высокий человек и высокий голос и т. д. В хопи такого рода метафоры не распространены, хотя соответствующие значения выражаются.
Такого рода различия Б. Уорф связывает с принципиальными различиями в культуре, в видении мира. Отказываясь вслед за Э. Сепиром непосредственно связывать с культурой общие характеристики языкового строя вроде распространения в языке флексии, агглютинации или изоляции, он считал культурно значимыми различия вроде описанных выше различий между хопи и европейскими языками. Несмотря на некоторые частные расхождения между языками Европы, Б. Уорф считает, что «грамматика европейских языков отражает „западную“, или „европейскую культуру“»; в этих языках можно «выделить при помощи языка классы представлений, подобные „европейским“, — „время“, „пространство“, „субстанция“, „материя“». Некоторое сомнение он высказывает лишь в отношении балто-славянских и неиндоевропейских языков Европы, да и то считает его вряд ли обоснованным; действительно, почти все его английские примеры допускают эквивалентный перевод на русский язык. Эти языки Б. Уорф включил в единую группу «среднеевропейского стандарта» — SAE.
Если внутри SAE трудно выявить роль языка в категоризации действительности из-за принципиальной схожести такой категоризации, то при непредвзятом, лишенном стремления описывать все языки в единых категориях сопоставлении SAE с резко отличным языком вроде хопи «задача выяснения… косвенного влияния грамматических категорий языка на поведение людей» решается легче. Если даже значение конкретного слова empty столь важно для жизни людей, то тем более это может относиться к обязательным грамматическим категориям вроде числа и времени.
Б. Уорф ставит два вопроса: «1) являются ли наши представления „времени“, „пространства“ и „материи“ в действительности одинаковыми для всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой данного языка и 2) существуют ли видимые связи между: а) нормами культуры и поведения и б) основными лингвистическими категориями?» Исходя из описанных выше языков различий хопи и языков SAE, Б. Уорф приходит к выводу о том, что перечисленные представления обусловлены языковой структурой и что связи между лингвистическими структурами и нормами культуры и поведения существуют.
Б. Уорф пытался выделить некоторые свойства западной культуры и культуры хопи, обусловленные, по его мнению, языковыми особенностями. В отношении западной культуры он, в частности, отмечает: «Микрокосм SAE, анализируя действительность, использовал главным образом слова, обозначающие предметы (тела и им подобные) и те виды протяженного, но бесформенного существования, которые называются „субстанцией“ или „материей“. Он стремится увидеть действительность через двучленную формулу, которая выражает все сущее как пространственную форму плюс пространственная бесформенная непрерывность, соотносящаяся с формой, как содержимое соотносится с формой содержащего. Непространственные явления мыслятся как пространственные, несущие в себе те же понятия формы и непрерывности». «Наше объективизированное представление о времени соответствует историчности и всему, что связано с регистрацией фактов… Подобно тому, как мы представляем себе наше объективизированное время простирающимся в будущее так же, как оно простирается в прошлом, наше представление о будущем складывается на основании записей прошлого». Б. Уорф указывает на многие свойства европейской культуры, начиная от составления летописей и хроник и кончая учетом стоимости по затраченному времени, так или иначе связанные с существованием грамматической категории времени. Он не склонен категорически утверждать, что все это возможно лишь при тех представлениях о времени, которые закреплены в грамматической структуре SAE, но тем не менее связи такого рода существуют.
Аналогичные характеристики Б. Уорф старается выделить для культуры хопи, считая, в частности, что хопи свойствен «взгляд на мир как на нечто находящееся в процессе какой-то подготовки», а «как физические, так и нефизические явления рассматриваются как выражение невидимых факторов силы». Подчеркивается отсутствие у хопи идеи историчности, интереса к регистрации фактов и т. д. Как показали последующие исследования языка и культуры хопи, Б. Уорф во многом был неточен. Однако данный факт не отменяет поставленной им проблемы о том, что те или иные элементарные для нас представления о мире могут быть в разных культурах различны.
В то же времени, говоря о культуре хопи, Б. Уорф далеко не все сводит к особенностям языка: «Мирное земледельческое общество, изолированное географическим положением и врагами-кочевниками, обитающее на земле, бедной осадками, земледелие на сухой почве, способное принести плоды только в результате чрезвычайного упорства (отсюда то значение, которое придается настойчивости и повторению), необходимость сотрудничества (отсюда та роль, которую играет психология коллектива и психологические факторы вообще), зерно и дождь как исходные критерии ценности, необходимость усиленной подготовки и мер предосторожности для обеспечения урожая на скудной почве при неустойчивом климате, ясное сознание зависимости от угодной природе молитвы и религиозное отношение к силам природы… — все это, взаимодействуя с языковыми нормами хопи, формирует их характер и мало-помалу создает определенное мировоззрение». При этом остается неясным соотношение между перечисленными внеязыковыми факторами, способными, как оказывается, объяснить едва ли не все выделенные Б. Уорфом особенности культуры хопи, и влиянием «языковых норм». Тем самым гипотеза о языковой природе представлений о пространстве, времени и т. д. оказывается неподтвержденной, тем более что за пределами привлекаемого в статье материала можно найти немало примеров, ставящих такую природу под сомнение. Например, интерес к хронологии и составлению летописей, отмечаемый Б. Уорфом как особенность SAE, весьма был свойствен и китайской культуре начиная с очень древних времен, тогда как индийская культура все это игнорировала (как выше отмечалось, время жизни Панини известно с точностью до нескольких веков, тогда как годы жизни китайских книжников обычно мы знаем), но в китайском языке нет и по крайней мере в исторический период не было грамматической категории времени, а в санскрите она была.
Однако и это не отменяет самой поставленной Б. Уорфом проблемы. Он пишет: «Наш лингвистически детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты. Это проявляется, как мы видели, в небрежности, с какой мы, например, обычно водим машины, или в том, что мы бросаем окурки в корзину для бумаги. Типичным проявлением этого влйяния, но уже в несколько ином плане, является наша жестикуляция во время речи… Хопи очень мало жестикулируют, а в том смысле, как понимаем жест мы, они не жестикулируют совсем». Вряд ли можно считать особо убедительными попытки объяснить различия в жестикуляции наличием или отсутствием в языке переноса пространственных представлений на непространственные. Но все-таки идея о взаимосвязанности разных элементов культуры, включая и язык, была важной и заслуживающей внимания.
В отношении первичности языка по отношению к культуре, как и в отношении зависимости культуры от языковых и внеязыковых факторов, Б. Уорф не был особо последователен. То он подчеркивал основополагающую роль языка, то писал, что культура и язык «в основном развивались вместе, постоянно влияя друг на друга». Но «в этом взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и гибкость этого взаимовлияния и направляет его развитие строго определенными путями. Это происходит потому, что язык является системой, а не просто комплексом норм. Структура большой системы поддается существенному изменению очень медленно, в то время как во многих других областях культуры изменения совершаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, отражает массовое мышление: он реагирует на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и медленно, в то время как в сознании производящих эти изменения это происходит моментально».
Пожалуй, усиливается категоричность Б. Уорфа в отношении первичности языка в статье «Наука и языкознание». Здесь он обращается к вопросу о соотношении языка и логики. Б. Уорф отвергает традиционные идеи о существовании «законов логики или мышления, будто бы одинаковых для всех обитателей вселенной и отражающих рациональное начало, которое может быть обнаружено всеми разумными людьми независимо друг от друга, безразлично, говорят ли они на китайском языке или на языке чоктав». Однако логика зависит от родного языка человека, в частности, от его грамматики. По мнению Б. Уорфа, «естественная логика… не учитывает того, что факты языка составляют для говорящих на данном языке часть их повседневного опыта, и поэтому эти факты не подвергаются критическому осмыслению и проверке. Таким образом, если кто-либо, следуя естественной логике, рассуждает о разуме, логике и законах правильного мышления, он обычно склонен просто следовать за чисто грамматическими фактами, которые в его собственном языке или семье языков составляют часть его повседневного опыта, но отнюдь не обязательны для всех языков и ни в каком смысле не являются общей основой мышления». В данной статье и в статье «Лингвистика и логика» Б. Уорф приводит ряд примеров из хопи и других индейских языков Северной Америки, показывая, что в них нельзя обнаружить многие категории традиционной логики. В частности, произведенное Аристотелем разграничение субъекта и предиката, возведенное в ранг «закона разума», — лишь отражение грамматической структуры древнегреческого и других индоевропейских языков, а вовсе не универсалия. Как будет показано ниже, сходную точку зрения относительно категорий аристотелевской логики выдвигал примерно в те же годы и французский лингвист Э. Бенвенист.
Б. Уорф безусловно признает существование универсальных представлений человека о мире: «Закон тяготения не знает исключений», «Наш глаз видит предметы в тех же пространственных формах, как их видит и хопи». Однако выводы из этих представлений могут быть различны: «Для нашего представления о пространстве характерно еще и то, что оно используется для обозначения таких непространственных отношений, как время, интенсивность, направленность… Пространство в восприятии хопи не связано психологически с подобными обозначениями».
Итак, все в языковом мире относительно и говорить о каких-то универсалиях опасно. Как подчеркивает Б. Уорф, «мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком… Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем». В связи с этим концепция Б. Уорфа получила наименование гипотезы языковой относительности. Б. Уорф при этом выражает скепсис в отношении возможности описывать природу объективно: «Человеком более свободным в этом отношении, чем другие, оказался бы лингвист, знакомый со множеством самых разнообразных языковых систем. Однако до сих пор таких лингвистов не было».
Впрочем, если в статье «Наука и языкознание» делаются столь далеко идущие выводы, то в статье «Отношение норм поведения и мышления к языку» выводы Б. Уорфа осторожнее: «Между культурными нормами и языковыми моделями есть связи, но нет корреляций или прямых соответствий. Хотя было бы невозможно объяснить существование Главного Глашатая отсутствием категории времени в языке хопи, вместе с тем, несомненно, наличествует связь между языком и остальной частью культуры общества, которое этим языком пользуется. В некоторых случаях… существуют связи между применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которые принимает развитие культуры». В связи с этим рекомендуется изучать культуру и язык «как нечто целое», с учетом их взаимозависимости.
Безусловно, существование связи между языком и культурой признавалось всеми. Даже столь отличный от Б. Уорфа З. Харрис упоминал о такой связи, лишь исключая ее изучение из сферы деятельности лингвиста. Так называемая «гипотеза Уорфа», или (как пишут чаще) «гипотеза Сепира-Уорфа», о которой говорят после 1939 г. ее сторонники и противники, обычно формулируется как предположение о том, что мышление и культура народа всецело определяются его языком. В столь категоричной форме гипотезу Э. Сепир не формулировал вообще, а Б. Уорф сопровождал ее выдвижение рядом существенных оговорок, особенно в отношении языка и культуры. Традиционный вариант гипотезы более всего основан на приводимых Б. Уорфом примерах и доведении до логического завершения его точки зрения.
Хотя проблематика Б. Уорфа была нестандартна для лингвистики его времени, где господствовал структурализм, нельзя сказать, что она вообще не была созвучна своему времени. Однако более всего интересовались такими проблемами нелингвисты. В 30-е гг. еще были популярны выдвинутые в начале века идеи французского этнографа Люсьена Леви-Брюля (1857–1939) об особом первобытном мышлении, принципиально отличном от мышления развитых народов. Эта концепция, впрочем, сохраняла черты стадиальности, отсутствующие у Б. Уорфа. Для последнего представления о времени у хопи ничуть не хуже, хотя и не лучше соответствующих европейских представлений. Такой подход вполне соответствовал традициям американской антропологии начиная от Ф. Боаса. Можно отметить и распространившийся в исторической науке времен Б. Уорфа так называемый цивилизационный подход (впервые высказанный русским мыслителем XIX в. Н. Я. Данилевским), согласно которому история складывается из множества не связанных друг с другом и разных по закономерностям развития цивилизаций.
В области же лингвистики Б. Уорф (вероятно, через посредство Э. Сепира) возвращался к идеям В. фон Гумбольдта, который еще более последовательно, чем сам Б. Уорф, писал о «круге», который каждый язык описывает вокруг народа. Проблематика статей сборника «Язык, мысль и реальность» возрождала отошедшую в лингвистике первой половины XX в. на второй план многовековую проблему языка и мышления. Б. Уорф, как и В. фон Гумбольдт, отстаивал здесь приоритет языка. Можно спорить о достоверности и корректности тех или иных его примеров, но проблема того, как язык по-разному категоризует мир, безусловно существует.
Противники гипотезы лингвистической относительности неоднократно указывали на то, что в своей радикальной форме она означает, будто носители разных языков, по-разному воспринимая мир, не могут понимать друг друга и взаимодействовать друг с другом, что опровергается опытом человечества. Впрочем, столь радикально Б. Уорф вопрос и не ставил, подчеркивая, что не все в культуре определяется языком. Однако, как уже отмечалось, критериев разграничения языковых и неязыковых факторов он не предложил.
Судьба гипотезы Б. Уорфа оказалась довольно необычной. Она была сформулирована в том виде, в котором сам американский исследователь ее не представлял, а затем большинство лингвистов просто отвергали с порога ту ее крайнюю формулировку, за которую сам Б. Уорф не нес ответственности (типичный пример — вводная статья В. А. Звегинцева к публикации статьи в его хрестоматии); некоторые лингвисты, наоборот, придавали гипотезе очень большое значение, обычно исходя при этом более из общефилософских, чем конкретно-лингвистических принципов. Что же касается самой гипотезы (если только не формулировать ее в явно абсурдном виде), то лингвистика ни при жизни Б. Уорфа, ни сейчас не могла и не может ее ни доказать, ни опровергнуть. Б. Уорф поднял (и далеко не первым, достаточно вспомнить В. фон Гумбольдта) важные и серьезные проблемы, для решения которых у лингвистики нет инструмента, сколько-нибудь сравнимого, скажем, с инструментом фонологии или компаративистики. Фактов очень много, и после Б. Уорфа их накопление продолжалось, но понятийного аппарата и разработанной методики для анализа этих фактов пока нет. Гипотезу Б. Уорфа пытались даже экспериментально проверять, но четких результатов такие опыты не дали ни в ту, ни в другую сторону.
В последние годы проблематика, связанная с именем талантливого непрофессионала, стала популярнее, чем раньше. Проводятся конференции, издаются книги, специально посвященные Б. Уорфу и его идеям, однако при этом указывается, что возрождение интереса связано не с развитием каких-либо методов или экспериментальной базы, а скорее с появлением сходных философских концепций. Нередко под предлогом разработки восходящей к Б. Уорфу проблематики пытаются «доказать» априорные вненаучные утверждения, например, вывести из строя соответствующего языка приверженность американцев к индивидуализму, а японцев к коллективизму и т. д. Безусловно, для рассмотрения вопросов о языковых картинах мира, о связях между языком и культурой требуется содружество между лингвистами и учеными других специальностей. Изучение всего этого должно быть комплексным, однако другие науки пока что еще меньше, чем лингвистика, способны предложить здесь какие-либо объективные методы. Значение Б. Уорфа для истории лингвистики не в разрешении, а в новой постановке вопросов, о которых наука о языке на какое-то время забыла.
Литература
Звегинцев В. А. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира-Уорфа // Новое в лингвистике, вып. 1.
Блэк М. Лингвистическая относительность (Теоретические воззрения Бенджамена Л. Уорфа) // Там же.
Советское языкознание 20—50-х годовПри всей специфике общественной и научной ситуации в нашей стране отечественное языкознание не было в стороне от общего развития мировой науки о языке. Хотя термин «структурализм» в СССР до 50-х гг. не был принят, но многие советские лингвисты объективно шли тем же путем, что и ученые Запада, обратившись к синхронным методам и стремясь системно рассматривать явления языка. В советской науке тех лет не получили распространения идеи глоссематики или дескриптивизма, в то же время многие из советских лингвистов были достаточно близки к Пражской школе. Связь советских лингвистов с пражцами (среди последних были и эмигранты из России) была не только идейной: многие из них, в том числе Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, отчасти Е. Д. Поливанов, находились в тесном контакте через переписку, а иногда и личные встречи с некоторыми пражцами, прежде всего с Р. Якобсоном, а живший в 1924–1928 гг. в Чехословакии H. Н. Дурново стал связующим звеном между Пражской и Московской школами. До определенной степени можно говорить, что Пражская школа и ряд направлений советской лингвистики тех лет составляли единую ветвь структурализма.
В то же время многие советские ученые, в частности, Е. Д. Поливанов, Л. В. Щерба, высказывали и весьма оригинальные идеи, не имевшие параллелей в западной науке. На деятельность близких к структурализму советских ученых оказывали влияние и особые задачи, которые им приходилось решать, прежде всего разработка письменностей для языков народов СССР. Наряду с учеными, искавшими новые пути, работали и языковеды, придерживавшиеся старых, прежде всего младограмматических идей. Особое место в развитии советской науки о языке занимал марризм, которому удалось с конца 20-х гг. надолго занять в ней монопольное положение, что нанесло большой ущерб развитию советской лингвистики, хотя и не прекратило его совсем.
Еще в предреволюционные годы в отечественном языкознании сложились две крупные школы: Московская, основанная Ф. Ф. Фортунатовым, и Петербургская во главе с И. А. Бодуэном де Куртенэ. После революции по разным причинам покинули страну многие ученые: И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. К. Поржезинский, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др. Обе школы однако сохранились. Более устойчивыми оказались традиции Московской школы, поддерживавшиеся в МГУ и других московских вузах Д. Н. Ушаковым и Михаилом Николаевичем Петерсоном (1885–1962). Большинство ученых, о которых дальше будет идти речь, в той или иной степени относились к этой школе: А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, П. С. Кузнецов, Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский. Петербургская школа оказалась менее однородной. После отъезда И. А. Бодуэна де Куртенэ ее возглавил Л. В. Щерба, по ряду вопросов, как будет показано ниже, значительно отошедший от взглядов своего учителя. Более верен бодуэновской традиции был Е. Д. Поливанов, но он с начала 20-х гг. уехал из Петрограда и в силу обстоятельств своей биографии не смог создать научной школы. Из школы И. А. Бодуэна де Куртенэ вышел и Виктор Владимирович Виноградов (1895–1969), по взглядам в целом близкий к Л. В. Щербе; переехав в конце 20-х гг. в Москву, он создал собственную школу языковедов (С. И. Ожегов и др.). конкурировавшую с Московской школой. Ученики Л. В. Щербы преимущественно занимались фонетикой и фонологией, ученики В. В. Виноградова — грамматикой и лексикой русского языка.
В 20-е гг. основную роль в развитии языкознания продолжали играть Московский и Петроградский (Ленинградский) университеты. Резко упало значение периферийных вузов, хотя в провинции работали крупные ученые, например, В. А. Богородицкий в Казани. Позже в связи с общей реорганизацией научной деятельности в СССР упала роль вузовской науки; в 30-е гг. в МГУ вообще не преподавали языкознание, кадры специалистов готовили в это время в педагогических вузах, среди которых выделялся в это время Московский городской педагогический институт (МГПИ), где работали Г. О. Винокур и ученые Московской фонологической школы; лишь в годы войны в МГУ был воссоздан филологический факультет. В то же время создаются ранее не существовавшие в нашей стране научно-исследовательские лингвистические институты. Самым крупным и жизнеспособным из них оказался институт, созданный в 1922 г. академиком Н. Я. Марром в Петрограде как Яфетический институт Академии наук, первоначально как институт для разработки его «нового учения о языка». Очень скоро однако Яфетический институт перерос рамки марризма, в нем сконцентрировались многие ведущие советские языковеды разных специальностей. В 30—40-е гг. институт функционировал как Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР, в 1950 г. он был преобразован в Институт языкознания АН СССР с переводом основной его части в Москву. После войны от института отделился Институт русского языка АН СССР.
В 20-е гг. учение Н. Я. Марра хотя и было популярно, особенно среди ленинградских языковедов, но существовало лишь наряду с другими. Однако к концу 20-х гг. Н. Я. Марр, объявив свое учение «марксизмом в языкознании» (хотя его сходство с марксизмом было достаточно внешним), добился поддержки партийно-государственного руководства и установил монопольное господство в советском языкознании. Многие ученые, в том числе споривший с марризмом Е. Д. Поливанов, лишились возможности нормально работать. Целые направления были объявлены «буржуазными», в первую очередь сравнительно-историческое языкознание; компаративистика на многие годы была в СССР свернута. В то же время даже в самый тяжелый период господства марризма, в первой половине 30-х гг., научные исследования продолжались. На те же годы пришелся пик деятельности специалистов по языковому строительству, разрабатывавших письменности и литературные языки для народов СССР. Для решения проблем языкового строительства необходимо было описывать соответствующие языки.
30-е гг. стали трагическим временем для отечественного языкознания. Погибли Е. Д. Поливанов, H. Н. Дурново, Г. А. Ильинский и др. В лагере или ссылке находились А. М. Селищев, В. В. Виноградов, В. Н. Сидоров и др., впоследствии вернувшиеся к научной деятельности.
Господство марризма закончилось в июне 1950 г., когда против него выступил И. В. Сталин. Его серия статей была затем объединена в брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Брошюра в основном была написана с позиций языкознания конца XIX в., прежде всего в его младограмматическом варианте. Сравнительно-исторический метод был реабилитирован и объявлен приоритетным. Лингвистам велено было вернуться к традициям русской дореволюционной науки. Ведущую роль в советской лингвистике начала 50-х гг. играли упоминавшийся выше В. В. Виноградов, к тому времени академик, возглавивший Институт языкознания, а позже Институт русского языка, и последовательный младограмматик по взглядам, грузинский кавказовед Арнольд Степанович Чикобава (1898–1985). Лингвисты, ранее противостоявшие марризму, включая и структуралистов по идеям, получили в 1950 г. возможность нормально работать, однако им первоначально приходилось вести исследования в полном отрыве от лингвистики за рубежом. Если наука XIX в. могла оцениваться объективно, то современная западная лингвистика, как и во времена марризма, продолжала замалчиваться или же резко критиковаться. Новый этап в развитии советской лингвистики начался со второй половины 50-х гг., когда развернулось активное освоение идей и методов зарубежной науки.
Рассмотрев развитие советской науки в целом, можно перейти к анализу взглядов наиболее крупных лингвистов 20—50-х гг.
Старшее поколение языковедов. А. М. ПешковскийВ 20—30-е гг. продолжали еще работать ученые, полностью сформировавшиеся до революции. Одни из них оставались на традиционных, обычно близких к младограмматизму, позициях и занимались преимущественно историей индоевропейских языков или их отдельных групп, прежде всего славянской. К таким языковедам, в частности, относились крупные слависты, члены-корреспонденты АН СССР Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937) и Афанасий Матвеевич Селищев (1886–1942). Они последовательно сохраняли представления о языкознании как исторической науке. Однако новая общественная и научная ситуация влияла даже на такого традиционалиста, как А. М, Селищев. В 1928 г. он издал книгу «Язык революционной эпохи», посвященную самым новым явлениям в русском языке. Ученый постарался зафиксировать изменения, главным образом лексические, в русском языке послереволюционных лет. Однако новизна книги состояла больше в ее теме и материале, чем в методе. Автор принципиально ограничивался анализом отдельных фактов без какой-либо попытки системного подхода.
Важное место в советской науке тех лет занимали ученики Ф. Ф. Фортунатова, члены-корреспонденты АН СССР Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) и Николай Николаевич Дурново (1876–1937). Д. Н. Ушаков был хранителем традиций своего учителя, хотя объект его исследований был иным: в первую очередь фонетика и лексика современного языка. H. Н. Дурново, живший несколько лет в Чехословакии, испытал влияние идей Н. Трубецкого и своего ученика Р. Якобсона и во многом освоил структурные методы. Оба языковеда — Д. Н. Ушаков и H. Н. Дурново — создали как научную дисциплину русскую диалектологию, предложив используемую до сих пор классификацию диалектов и заложив основы методики сбора диалектных данных. Д. Н. Ушаков также был крупным специалистом в области русского литературного произношения и орфоэпии. Под его руководством был создан широко известный Толковый словарь русского языка, вышедший в четырех томах в 1935–1940 гг. (среди авторов словаря были В. В. Виноградов, Г. О. Винокур и другие видные лингвисты). H. Н. Дурново внес значительный вклад в изучение истории славянских языков и русской грамматики, ему принадлежит первый в нашей стране словарь лингвистических терминов (1924).
Особо среди ученых старшего поколения следует отметить Александра Матвеевича Пешковского (1878–1933). Он также принадлежал к Московской школе, однако помимо Ф. Ф. Фортунатова он испытал и влияние А. А. Потебни и А. А. Шахматова, особо проявившееся в более поздних его работах. А. М. Пешковский долго работал гимназическим учителем и сравнительно поздно сосредоточился на научных исследованиях. Его первый и самый крупный и известный труд «Русский синтаксис в научном освещении» впервые был издан в 1914 г.; в 1928 г. появилось его третье, значительно переработанное автором издание (всего книга выходила шесть раз, последнее издание — в 1956 г.). В 20-е гг. А. М. Пешковский активно публиковался, преимущественно по вопросам русского языка. В связи со своей многолетней педагогической деятельностью он много занимался вопросами преподавания русского языка, опубликовав ряд учебных пособий («Наш язык» и др.) и работ методического характера.
Главная книга А. М. Пешковского и сейчас остается одним из наиболее детальных и содержательных исследований русского синтаксиса (и во многом грамматики в целом). Книга, как и ряд статей А. М. Пешковского, отражает и общелингвистическую концепцию ученого. Не вполне отказавшись, как и Ф. Ф. Фортунатов, от представления о языкознании как исторической науке, ученый стремился к системному описанию фактов, к выявлению общих закономерностей. Последовательно выступая против логического подхода к языку, А. М. Пешковский старался выработать четкие и основанные на собственно языковых свойствах критерии выделения и классификации единиц языка. С этой точки зрения важна статья «О понятии отдельного слова» (1925), где ставится нетрадиционный вопрос о том, что такое слово и как его можно выделить в тексте. От последовательно формального подхода, господствующего в первых изданиях «Русского синтаксиса…», автор книги затем отошел в сторону психологизма и большего учета семантики, пытаясь синтезировать идеи Ф. Ф. Фортунатова с идеями А. А. Потебни. В частности, части речи в окончательном варианте книги уже предлагалось выделять не по формальным, а по смысловым основаниям. В 20-е гг., когда многие лингвисты стали избавляться от психологизма, А. М. Пешковский продолжал его сохранять; в книге «Наш язык» он писал: «Для науки о языке, когда она занимается значениями слов, важно не то, что есть на самом деле, а что представляется говорящим во время разговора». В связи с психологическим подходом он одним из первых наряду с Л. В. Щербой поставил вопрос об эксперименте в языкознании; в частности, он считал важным постановку лингвистом экспериментов над собой с помощью интроспекции.
Особо остановимся на изданной в 1923 г. статье «Объективная и нормативная точки зрения на язык». Как отмечалось в первой главе данного учебного пособия, все лингвистические традиции исходили из нормативной точки зрения. Однако в XIX в. возобладал объективный подход, сначала в сравнительно-историческом, а потом и в остальном языкознании; об этом шла у нас речь в связи со статьей X. Штейнталя. По словам А. М. Пешковского, «не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист, как таковой, может относиться в настоящее время только объективно-познавательно… В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых». Если для него и есть разница между литературным, нормированным языком и деревенским говором, то лишь в том, что последним, живущим «естественной жизнью», заниматься интереснее, «подобно тому, как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи». Столь же равноценны и часто даже более интересны для лингвиста диалектные факты речевых ошибок, дефектов речи, индивидуальных отклонений от нормы и т. д.
А. М. Пешковский очень верно отмечает, что такая точка зрения, естественная для ученого, «чужда широкой публике», то есть противоречит представлениям «нормальных» носителей языка (вспомним уже приводившиеся слова: «Языки равны только перед Богом и лингвистом»). Нормативная же точка зрения «составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка». Каждый человек, как отмечал помимо А. М. Пешковского и Ж. Вандриес, обладает теми или иными представлениями о норме. Наибольшее значение имеет норма литературного языка, фиксируемая в нормативных словарях и грамматиках. Эта норма существует как некоторый сознательно ощущаемый языковой идеал. Сам литературный язык создается и поддерживается благодаря существованию такого идеала у говорящих. Реальная речь носителей литературного языка до какой-то степени расходится с этим идеалом, но его существование необходимо.
А. М. Пешковский перечисляет основные черты «этого литературно-языкового идеала». Это консерватизм, стремление сохранить норму в неизменном виде («из всех идеалов это единственный, который лежит целиком позади»), местный характер, ориентация на тот или иной языковой центр (Москву для русского языка, Париж для французского и т. д.), наконец, особое требование ясности и понятности языка. Если в бытовой речи взаимопонимание достигается почти автоматически, то литературная речь ввиду особой сложности выражаемых понятий и отсутствия или недостаточного развития поясняющего контекста приводит к большим трудностям во взаимопонимании. Оказываются нужны специальные средства, предназначенные для того, чтобы делать речь логичной, ясной и, следовательно, понятной. «Каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен уметь говорить, чтобы быть понятым».
Поскольку в современном мире главным источником распространения литературного языка, включая умение «говорить, чтобы быть понятым», является школа, то перед лингвистикой встает задача помочь школе в решении этой задачи. Тем самым помимо теоретической науки о языке, исходящей лишь из познавательного отношения к своему предмету, необходимо и существование прикладного языкознания, основанного на нормативной точке зрения. А. М. Пешковский прямо отождествляет понятия «нормативная наука» и «прикладная наука». В заключительной части статьи он сопоставляет две позиции: носителя языка и лингвиста. Любой лингвист не может одновременно не быть носителем того или иного языка, и эти две позиции ему необходимо различать. В качестве лингвиста он выступает с объективной, а в качестве носителя языка — с нормативной точки зрения. Их смешение недопустимо, но в качестве носителя языка он может выступать более квалифицированно, чем другие, поскольку у него «гораздо больше специальных знаний». В связи с этим он имеет полное право вмешиваться в процесс языковой эволюции, хотя А. М. Пешковский при этом отмечает: «Стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства». Тем самым точка зрения А. М. Пешковского по вопросу о сознательном вмешательстве в язык оказывалась промежуточной между точками зрения Ф. де Соссюра, вообще отрицавшего такую возможность, и И. А. Бодуэна де Куртенэ и Е. Д. Поливанова, считавших такое вмешательство важным и необходимым. Отметим, что А. М. Пешковский, как и А. М. Селищев, изучал изменения в русском языке после революции, а также активно участвовал и в поддержании сильно расшатанной в это время литературной нормы.
Высказанные А. М. Пешковским в статье идеи имеют несомненное теоретическое и практическое значение и в наше время. Безусловно, лингвисту при решении прикладных задач приходится неизбежно отходить от нейтрального отношения к своему объекту, а возвращение к синхронной лингвистике в начале XX в. открыло больше возможностей для практического применения лингвистических идей и методов. Однако со времен написания статьи область практического применения языкознания, в те времена в основном ограничивавшаяся школой, сильно расширилась. Сейчас школа уже утеряла роль единственного источника обучения языковой норме: не менее, а иногда и более значительна здесь роль средств массовой информации, прежде всего телевидения. Кроме того, появилась огромная область, связанная с автоматизацией и компьютеризацией информационных процессов, развитие которой невозможно без участия лингвистов.
А. М. Пешковский не создал законченной общелингвистической теории и иногда в своих работах совмещал разнородные идеи разных концепций. Но и в главной своей книге, и в статьях он высказал немало свежих и интересных идей, до сих пор сохраняющих значение.
Л. В. ЩербаК числу языковедов, сформировавшихся до революции, но продолжавших активно работать и в советское время, относился и академик Лев Владимирович Щерба (1880–1944). Он был учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ, и почти вся его деятельность была связана с Петербургским — Петроградским — Ленинградским университетом (лишь незадолго до смерти, в годы войны, он переехал в Москву). Ученый разносторонних интересов, Л. В. Щерба более всего был известен как фонетист и фонолог. Еще в дореволюционные годы он возглавил в университете фонетическую лабораторию, ставшую главным центром экспериментальной фонетики в стране. Лаборатория существует до настоящего времени и носит имя Л. В. Щербы. Ему самому принадлежат выдающиеся исследования, основанные на экспериментах: «Русские гласные в количественном и качественном отношении» и «Фонетика французского языка» (выдержала 7 изданий). Л. В. Щерба также стал основателем фонологической концепции, известной как «ленинградская». Эту концепцию затем развивали его ученики М. И. Матусевич и Л. Р. Зиндер, также совмещавшие в себе фонологов и фонетистов-экспериментаторов.
Л. В. Щерба был выдающимся лексикографом, ему принадлежат «Русско-французский словарь» (совместно с М. И. Матусевич) и содержательная теоретическая работа «Опыт общей теории лексикографии». Он также занимался нечасто изучаемой лингвистами-теоретиками теорией письма, методикой преподавания родного и иностранных языков, изучал один из наименее исследованных славянских языков — лужицкий в Германии. Л. В. Щерба был выдающимся педагогом и подготовил много учеников.
Общее количество публикаций Л. В. Щербы сравнительно невелико, но почти каждая из них, независимо от тематики, представляет значительный интерес. Как и его учитель, он умел писать ясно и четко, избегая при этом в отличие от И. А. Бодуэна де Куртенэ стремления вводить большое количество новых необычных терминов. Даже в работах по конкретным языкам он стремился рассматривать общетеоретические проблемы. Основные работы ученого по общему языкознанию собраны в посмертном издании «Языковая система и речевая деятельность», вышедшем в свет в 1974 г.
В области фонологии Л, В. Щерба воспринял от своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ концепцию фонемы, однако подверг ее значительному переосмыслению. В соответствии с общими тенденциями мировой лингвистики тех лет он постепенно отказался от какого-либо психологизма и стремился к объективным критериям для выделения фонем. В то же время, будучи выдающимся фонетистом-эксперимента-тором, он довольно строго придерживался фонетических критериев для их выделения. Фонема для Ленинградской школы — класс близких по физическим свойствам звуков; например, оба гласных в русском вода для этой школы — разновидности фонемы а. Критерий звукового сходства оказывался решающим для Л. В. Щербы и его учеников, поэтому их противники из Московской школы упрекали их в «физикализме».
В области теории грамматики важное значение имеет работа Л. В. Щербы о частях речи, впервые опубликованная в 1928 г. Здесь отмечается, что научных классификаций слов может быть много: по значению, по морфологическим свойствам и т. д., однако классификация по частям речи — нечто иное: «В вопросе о „частях речи“ исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязываемся самой языковой системой, или точнее… какие общие категории различаются в данной языковой системе». У этих категорий должны быть «какие-либо внешние выразители», но эти выразители, разные в разных языках, нельзя считать определяющими сущность частей речи: «Едва ли мы потому считаем стол, медведь за существительные, что они склоняются; скорее мы потому их склоняем, что они существительные». Здесь мы видим полемику с Московской школой, выделявшей части речи по морфологическим признакам, в том числе существительные по признаку склонения.
Таким образом, части речи — не морфологические и не синтаксические классы слов, в то же время Л. В. Щерба против и того, чтобы выделять их целиком по значению. Но тогда что такое «навязывание» классификации языковой системой? Л. В. Щерба прямо не отвечает на этот вопрос, видимо, потому, что в этот период он уже начал отходить от психологизма своего учителя и не желал апеллировать к психологическим критериям. Однако по существу здесь речь идет именно о том, какая классификация «навязывается» не только языковой системой (она может навязывать разные классификации), а психолингвистическим механизмом человека; какие единицы лексики связаны между собой в человеческом сознании. Отсюда и допустимость для Л. В. Щербы пересечений частей речи, возможность некоторых слов оставаться вне классификации. Для научных классификаций все это — недостаток, а для моделирования психолингвистического механизма человека такой подход может быть оправданным. Работа Л. В. Щербы интересна и его конкретными решениями; в частности, он предложил выделять для русского языка особую часть речи — категорию состояния, куда входят слова типа надо, нельзя и т. д. Как выяснилось впоследствии, и выделение этой части речи имеет психолингвистические основы.
В наибольшей степени общие вопросы лингвистической теории рассмотрены у Л. В. Щербы в статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», впервые опубликованной в 1931 г. и посвященной памяти умершего незадолго до того И. А. Бодуэна де Куртенэ. Здесь Л. В. Щерба наряду с А. Гардинером, К. Бюлером, А. Сеше, Л. Ельмслевом и рядом других ученых предлагает собственную оригинальную интерпретацию соссюровского противопоставления языка и речи.
Вместо двух понятий языка и речи Л. В. Щерба вводит три понятия: речевая деятельность, языковая система и языковой материал. Речевая деятельность, как указывает сам автор концепции, соотносима с речью у Ф. де Соссюра, но не вполне с ней совпадает. Речевая деятельность понимается как процессы говорения и понимания, обусловленные психофизиологической речевой организацией индивида и в то же время имеющие социальный характер. Языковой материал — понятие, не имеющее прямых соответствий у Ф. де Соссюра — определяется как «совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это тексты. Языковой материал — результат речевой деятельности». Наконец, языковые системы, соотносимые с языком в соссюровском смысле, понимаются достаточно своеобразно. Согласно Л. В. Щербе, языковые системы — не что иное как словари и грамматики языков, но не столько реально существующие, сколько некоторые идеальные описания, которые «должны исчерпывать знание данного языка». «Мы, конечно, далеки от этого идеала, но… достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке».
Где находится языковая система и существует ли она вообще объективно? На последний вопрос Л. В. Щерба безусловно отвечает положительно. Он возражает против мнения о том, что она «является лишь ученой абстракцией» (такое мнение он усматривает у Э. Сепира). С другой стороны, он спорит и с представлениями ряда других ученых, включая Ф. де Соссюра, о том, что язык (языковая система) существует «в качестве психических величин в мозгу»; по-видимому, здесь ведется спор и с прямо не названным И. А. Бодуэном де Куртенэ. Как считает Л. В. Щерба, «все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны», они лишь извлекаются из языкового материала. К тому же языковые представления индивидуальны, а языковые системы коллективны. И здесь, как и в случае с частями речи, Л. В. Щерба исходил из общего антипсихологизма, свойственного языкознанию этой эпохи.
Языковая система рассматривается Л. В. Щербой как нечто производное от языкового материала: языковая система «есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в „индивидуальных речевых системах“, возникающих под влиянием этого языкового материала». Единство языкового материала для некоторой социальной группы обеспечивает и единство языковой системы. «Лингвисты совершенно правы, когда выводят языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, из соответствующих текстов, т. е. из соответствующего языкового материала». То есть языковая система все-таки вопреки сказанному Л. В. Щербой выше оказывается именно «ученой абстракцией», однако конструируемой не произвольно, а в соответствии с информацией, извлекаемой из языкового материала. Не удается Л. В. Щербе полностью отвлечься и от психологии: в мозгу говорящих существуют «индивидуальные речевые системы», соотносимые (с возможными частными вариациями) с языковой системой.
Исходя из выдвинутого им трехкомпонентного подхода Л. В. Щерба трактовал и изменения в языке. «Языковые изменения обнаруживаются в речевой деятельности» и обусловлены внеязыковыми факторами, «условиями существования данной социальной группы». Далее, согласно Л. В. Щербе, «речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменение языковой системы». Получается таким образом, что Л. В. Щерба сводит причины изменений в языке только к внешним факторам, игнорируя внутриязыковые; здесь на него, по-видимому, влиял распространенный в СССР в 20-е гг. во многих гуманитарных науках социологизм; ср. более разработанную концепцию Е. Д. Поливанова. Однако далее Л. В. Щерба указывает и на другие причины, изменяющие нашу речевую деятельность, а стало быть и языковую систему. Здесь он указывает на очень важный фактор, в дальнейшем рассматривавшийся и многими другими лингвистами: «Интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление».
В статье затрагивается и еще одна важнейшая и к тому времени редко подвергавшаяся анализу проблема — проблема эксперимента в языкознании. К ней Л. В. Щерба безусловно обратился в связи со своим богатейшим опытом экспериментатора-фонетиста, но он рассматривает ее не как специально фонетическую, а как обще лингвистическую. Он пишет, что извлечение языковой системы из текстов вовсе не является единственным способом деятельности языковеда; им приходится неизбежно ограничиваться лишь при изучении мертвых языков. Если же так подходят к современным, реально функционирующим языкам (Л. В. Щерба признает, что такой подход распространен), то «получаются мертвые словари и грамматики». Необходимо проверять анализ текстов экспериментом. Выдвинув некоторую гипотезу, нужно проверить, правильна ли она, на более разнообразном материале и привлекая те или иные контексты. При этом лингвист может помимо обращения к информанту пользоваться и самонаблюдением, которое должно быть не пассивным, а активным: исследователь ставит условия эксперимента и проводит его на себе. Здесь Л. В. Щерба сближался по идеям с А. М. Пешковским.
Таким образом, отказываясь от психологического понимания языковой системы, Л. В. Щерба тем не менее обращается к самонаблюдению и интроспекции как средству познания языковой системы. Он прямо отвергает точку зрения о том, что подобным образом будет исследоваться «индивидуальная речевая система», а не языковая система: «Индивидуальная речевая система» является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких «индивидуальных языковых систем». Ср. точку зрения дескриптивистов, тоже активно прибегавших к эксперименту, но допускавших его лишь с позиции стороннего наблюдателя и отвергавших самонаблюдение.
В связи с вопросом об эксперименте Л. В. Щерба вводит важное понятие отрицательного языкового материала. Традиционно наука о языке широко использовала подтверждающие примеры, но систематически не рассматривала все то, что не соответствовало норме и правилам. Известно было, как можно и нужно говорить, но редко описывали то, как нельзя говорить. Л. В. Щерба же отметил, что при анализе итогов эксперимента «особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п.». Отрицательный языковой материал не только выявляется в эксперименте, но присутствует и в реальном языковом материале. «Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании». Такая ситуация продолжалась еще несколько десятилетий, и лишь в генеративной лингвистике роль отрицательного языкового материала стала очень значительной.
Особое место среди работ Л. В. Щерба занимает его последняя статья «Очередные проблемы языковедения», написанная в драматических обстоятельствах. Полный планов и замыслов ученый внезапно заболел и согласился на тяжелую операцию, которую не перенес. Готовясь к операции и зная ее возможный исход, Л. В. Щерба в декабре 1944 г., уже в больнице, торопился изложить на бумаге проблемы языкознания, которые больше всего его беспокоили. Статья как бы оказалась завещанием этого крупного языковеда, опубликована она была уже посмертно.
Написанная в такой ситуация статья не могла быть последовательным изложением теории, она представляет собой отдельные идеи, положения и замечания по разным вопросам языкознания. Многие из них весьма интересны. Автор статьи не ограничивается проблемами внутренней лингвистики, указывая на такие задачи науки, как изучение афазий, языка жестов. Весьма интересны идеи Л. В. Щербы по проблеме двуязычия. Он указывал, что двуязычие бывает двух типов, различие между которыми зависит от способов усвоения второго языка. Может быть чистое двуязычие, когда языки усваиваются естественным путем через общение с одноязычными носителями разных языков (например, с родителями и гувернерами-иностранцами), в таком случае две системы не связаны с друг с другом. В обычном же случае, когда второй язык усваивается, например, в школе, получается смешанное двуязычие, при котором «второй язык усваивается через первый», а первый язык даже при очень хорошем знании второго служит как бы точкой отсчета.
В связи с двуязычием поднимается очень актуальная не только для 40-х гг., но и для нашего времени проблема: «При изучении языков у подавляющего большинства лингвистов получается смешанное двуязычие и изучаемый язык в той или иной мере воспринимается ими в рамках и категориях родного. В связи с этим особенности структуры изучаемых языков или стираются, или фальсифицируются. Такому положению вещей пора объявить беспощадную войну». «Со стороны лингвиста при превращении „parole“ в „langue“ необходима неусыпная борьба с родным языком: только тогда можно надеяться осознать все своеобразие структуры изучаемого языка». В связи с этим Л. В. Щерба указывает на важность изучения лингвистических традиций, упоминая Панини.
В связи с разным строем разных языков Л. В. Щерба указывает на неясность традиционных типологических классификаций и на неопределенность такого понятия, как слово: «Что такое „слово“? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия „слово вообще“ не существует. Однако если согласиться с тем, что в „речи“ („parole“) „слово“ не дано и что оно является лишь категорией „языка как системы“ („langue“), то „слово“ представится нам в виде тех кирпичей, их которых строится наша речь („parole“) и некоторый репертуар которых необходимо иметь в памяти для осуществления речи». Итак, ученый, пытавшийся отказаться от психологизма, в итоговой работе вернулся к психологическому пониманию языка и его важнейшей единицы — слова. Если понимать слово как «кирпич, из которого строится наша речь», то слова в разных языках могут иметь неодинаковые лингвистические свойства, что и показывают, как отмечалось в первой главе, разные лингвистические традиции.
В связи с проблемой слова Л В. Щерба разграничивает слова в языке, хранящиеся в памяти, и слова, существующие только в речи, типа шлемоблещущий, русско-французский и т. д. (особенно много таких слов в санскрите и в немецком языке). Слова последнего типа не входят «в репертуар языка как системы».
Из прочих идей статьи «Очередные проблемы языковедения» отметим еще три: о взаимосвязанности явлений в системе, о противопоставлении словаря и грамматики и о различии активной и пассивной грамматики.
Исходя из последовательно структурного подхода к языку, Л. В. Щерба ставит вопрос о «взаимообусловленности отдельных элементов языковых структур». Он приводит примеры разного рода: в языках с развитым словоизменением вроде латинского порядок слов не играет синтаксической роли, сложность и развитость системы согласных оказывается в ряде языков связанной с простотой системы гласных, и т. д. «Все эти факты, бросающиеся в глаза, лежат, так сказать, на поверхности наблюдаемых явлений, но на очереди стоит еще углубленное, по возможности исчерпывающее изучение относящихся сюда фактов». Последовательно заниматься подобными вопросами системная типология начала лишь в 70—80-е гг.
Своеобразно понимание у Л. В. Щербы соотношения между грамматикой и словарем языка. Данное противопоставление может проводиться по двум основанием. Во-первых, «естественно противоположить обозначение самостоятельных предметов мысли — лексики и выражение отношений между этими предметами — грамматики». При таком понимании, например, служебные слова «попадают только в грамматику и совершенно исчезают из словаря», а словообразование рассматривается как часть лексики. Во-вторых, «возможно… и иное противоположение: с одной стороны, все индивидуальное, существующее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи — лексика, и с другой стороны — все правила образования слов, форм слов, групп слов и других языковых единств высшего порядка — грамматика. И тот и другой отдел, само собой разумеется, со своей семантикой». При втором понимании, очевидно, словообразование речевых слов попадает уже в грамматику. Далее говорится о том, что в грамматику попадает все, что происходит по правилам, а в лексику — все индивидуальное: «спряжение глаголов есть, дать, быть является достоянием словаря, а при глаголе играть в словаре должна быть лишь ссылка на тип спряжения».
Наконец, весьма актуально введенное Л. В. Щербой разграничение активной и пассивной грамматики, в частности, синтаксиса. При «пассивном аспекте грамматики» идут от форм к их значениям, а в «активном аспекте» «рассматриваются вопросы о том, как выражается та или иная мысль». Оба аспекта Л. В. Щерба признает важными, при этом отмечает, что до сих пор синтаксис и грамматика в целом в основном занимались «пассивным аспектом». Мы уже отмечали, что аналитический подход, «пассивный», по Л. В. Щербе, действительно составлял одно из основных свойств европейской традиции и выросшей из нее научной лингвистики. Синтетический, «активный» подход (если оставить в стороне Панини и его продолжателей) стал развиваться в европейской и американской науке лишь с конца 50-х гг. Прежде всего такие задачи выдвинул генеративизм как в американском, так и в отечественном (модель «смысл — текст») вариантах; наряду с этим от смысла к форме идут и исследователи, далекие от генеративизма; см. например, работы по функциональной грамматике А. В. Бондарко и его сотрудников, выполненные в русле традиции Ленинградской школы, непосредственно восходящей к Л. В. Щербе.
Таким образом, в последней своей работе Л. В. Щерба поставил ряд вопросов, продолжающих сохранять актуальность и в современной науке. До изучения некоторых из них наука доходит лишь сейчас.
Г. О. ВинокурГригорий Осипович Винокур (1896–1947) принадлежал к более молодому поколению языковедов, сформировавшемуся уже после революции. Он окончил Московский университет, где учился вместе с Р. О. Якобсоном, и по основным идеям принадлежал к Московской школе. В дальнейшем он был профессором Московского городского педагогического института, а в последние годы жизни — МГУ. Он занимался достаточно разнообразными проблемами русистики и общего языкознания. Вместе с В. В. Виноградовым он заложил основы истории русского литературного языка как особой лингвистической дисциплины (книга «Русский язык. Исторический очерк» и ряд статей). Ему принадлежит ряд важных работ по стилистике и культуре речи, по вопросам поэтического языка. Он вел активную лексикографическую работу, участвуя в составлении словаря под редакцией Д. Н. Ушакова; под руководством Г. О. Винокура начиналась работа по составлению словаря языка А. С. Пушкина, завершенная в соответствии с его теоретическими разработками уже после его неожиданной смерти. Г. О. Винокур был автором и работ по русской грамматике и словообразованию, в частности, отметим его статью о частях речи, где для русского языка построена последовательно морфологическая классификация слов, которая оказывается достаточно отличной от традиционной системы частей речи. Ряд работ Г. О. Винокура посвящен и литературоведению.
Наиболее значительные лингвистические работы Г. О. Винокура, включая работы по истории литературного языка, собраны посмертно в однотомнике «Избранные работы по русскому языку», изданном в 1959 г., а работы по поэтическому языку и литературе — в выпущенном в 1990 г. сборнике.
Особо остановимся на статье Г. О. Винокура «О задачах истории языка», впервые опубликованной в 1941 г., в которой наиболее полно отразились его общелингвистические взгляды. Здесь прежде всего разграничиваются две области лингвистики. Во-первых, это общее языкознание, где «изучают факты различных языков мира для того, чтобы определить общие законы, управляющие жизнью языков». Цель исследования здесь «в том, чтобы узнать, что всегда есть во всяком языке и каким образом одно и то же по-разному проявляется в разных языках». Во-вторых, это такие исследования, «предмет которых составляет какой-нибудь один, отдельный язык или одна отдельная группа языков, связанных между собой в генетическом и культурно-историческом отношении» (в связи с этим Г. О. Винокур не без оснований замечает, что «все индоевропейское языкознание есть наука об одном языке»). «Эти исследования устанавливают не то, что „возможно“, „бывает“, „случается“, а то, что реально, именно в данном случае есть, было, произошло».
Если общее языкознание Г. О. Винокур понимал как синхронное, точнее, вневременное («Исследования этого рода, по самому своему заданию, не могут иметь никаких хронологических и этнических рамок»), то иначе он понимал исследование конкретных языков и их групп. Он писал: «Изучение отдельного языка, не ограничивающее себя вспомогательными и служебными целями, а желающее быть вполне адекватным предмету, непременно должно быть изучением истории данного языка… Язык есть условие и продукт человеческой культуры, и поэтому всякое изучение языка неизбежно имеет своим предметом самоё культуру, иначе говоря, есть изучение историческое». Такие утверждения очень похожи на то, что писали ученые XIX в., и могут на первый взгляд показаться архаичным для середины XX в. Однако из дальнейшего становится ясным, что точка зрения Г. О. Винокура отнюдь не совпадает с точкой зрения Г. Пауля и других языковедов прошлого века, считавших языкознание исторической наукой. История понимается Г. О. Винокуром максимально широко, включая и изучение современных языков: «Изучение языка в его современном состоянии есть в сущности тоже историческое изучение». Отмечая уже наметившееся ко времени написания статьи обособление изучения современного русского языка от изучения его истории, Г. О. Винокур видит в нем и достоинства, и недостатки. В связи с этим он обращается к рассмотрению соссюровского противопоставления синхронии и диахронии.
Полностью соглашаясь с Ф. де Соссюром в признании системности языка, Г. О. Винокур, как и лингвисты Пражской школы, выступает против жесткого противопоставления синхронии и диахронии: «И современный язык — это тоже история, а с другой стороны, и историю языка нужно изучать не диахронически, а статически». С одной стороны, «языковая система изменяется и… вся вообще история языка есть последовательная смена языковых систем, причем переход от одной системы к другой подчинен каким-то закономерным отношениям. Следовательно, мало открыть систему языка в один из моментов его исторического существования. Нужно еще уяснить себе закономерные отношения этой системы к той, которая ей предшествовала, и к той, которая заступила ее место». С другой стороны, «статический метод де Соссюра требует изучения языка как цельной системы… Если отнестись к этому требованию серьезно, то нетрудно придти к заключению, что оно сохраняет свою силу и тогда, когда мы изучаем язык не в его современном, а в прошлом состоянии». В связи с этим Г. О. Винокур критикует традиционные истории языков за их несистемность: «изучается… внешняя эволюция отдельных, изолированных элементов данного языка, а не всего языкового строя в целом».
Безусловно, такой подход к истории языка принадлежит уже после-соссюровской, структуралистской лингвистике и очень близок к подходу пражцев, выраженному уже в «Тезисах Пражского лингвистического кружка». Эта связь определялась и непосредственными контактами Г. О. Винокура с его другом Р. Якобсоном и рядом чешских ученых (сам Г. О. Винокур был в Праге в 20-е гг.). Синхрония трактуется не как ахрония, а как состояние языка, в котором есть и архаизмы, и неологизмы, а диахроническое исследование должно быть не менее системным, чем исследование современного языка.
Вообще, при несомненном интересе к проблемам связи языка с культурой и литературой Г. О. Винокур был сторонником четкого ограничения лингвистической проблематики от проблематики иных наук. Показательна его статья 40-х гг. «Эпизод идейной борьбы в американской лингвистике», опубликованная посмертно («Вопросы языкознания», 1957, № 2). Здесь рассматривается полемика между Л. Блумфилдом и эмигрировавшим в США видным представителем школы К. Фосслера Л. Шпитцером. Для близкого к пражцам Г. О. Винокура были неприемлемы многие теоретические положения основателя дескриптивизма, однако в итоге он считал концепцию Л. Блумфилда более приемлемой уже потому, что она принадлежит к лингвистике и занимается лингвистической проблематикой; концепция же эстетического идеализма К. Фосслера — Л. Шпитцера смешивает лингвистические проблемы с нелингвистическими.
Возвращаясь к статье «О задачах истории языка», следует отметить предложенную в ней классификацию лингвистических дисциплин и особенно концепцию стилистики как особой дисциплины. Среди всех дисциплин выделяется прежде всего группа «изучающих строй языка»: фонетика, грамматика и семасиология; грамматика делится на морфологию, словоизменение и синтаксис, а семасиология — на словообразование, лексикологию и фразеологию (ср. иную классификацию Л. В. Щербы, выделявшего изучение грамматики и изучение лексики, каждое со своей семантикой). Наряду с дисциплинами, изучающими строй языка, выделяется стилистика — «дисциплина, изучающая употребление языка». Поясняется, что употребление «представляет собой совокупность установившихся в данном обществе языковых привычек и норм, в силу которых из наличного запаса средств языка производится известный отбор, не одинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются понятия разных стилей языка — языка правильного и неправильного, торжественного и делового, официального и фамильярного, поэтического и обиходного и т. п.». Эти стили изучает стилистика, причем «она изучает язык по всему разрезу его структуры сразу, т. е. и звуки, и формы, и знаки, и их части».
Выше уже отмечалось, что термины «стиль» и «стилистика» многозначны. Точка зрения Г. О. Винокура и здесь близка точке зрения пражцев, отличаясь, например, от понимания стиля и стилистики у школы К. Фосслера. Г. О. Винокур особо подчеркивает, что стилистика в его понимании изучает не индивидуальные особенности отдельных говорящих или пишущих (изучение стиля писателя, по его мнению, литературоведческая, а не лингвистическая задача), а «те формы употребления языка, которые действительно являются коллективными». Речь у него прежде всего идет о выделенных впервые Пражской школой функциональных стилях. В зависимости от той или иной ситуации любой говорящий выбирает тот или иной вариант языка, например, если он пишет официальную бумагу, он должен ее строить в соответствии не только с нормами данного языка вообще, но и в соответствии с нормами его делового стиля, обязательными для всего языкового коллектива.
Отделяя лингвистику от других гуманитарных наук, Г. О. Винокур в то же время подчеркивал необходимость изучения связей языка с культурой. Хотя стили — чисто лингвистическое понятие, но «звеном, непосредственно соединяющим историю языка с историей прочих областей культуры, естественно, служит лингвистическая стилистика, так как ее предмет создается в результате того, что язык как факт культуры не только служит общению, но и известным образом переживается и осмысляется культурным сознанием».
Преимущественные интересы Г. О. Винокура лежали в области истории языков. И в тоже время он как ученый принадлежал XX в. не только по датам жизни, но и по идеям, последовательно выступая с позиций функционального структурализма.
Е. Д. ПоливановОдним из самых ярких ученых в советском языкознании 20 — 30-х гг. был Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938). Он рано погиб, став жертвой репрессий, а в силу сложных обстоятельств жизни после 1931 г. мало печатался, многие его работы были в разное время утеряны. Тем не менее и то, что дошло до нас, свидетельствует о том, что этот ученый успел внести вклад во многие области языкознания. Выдающийся полиглот, Е. Д. Поливанов занимался многими языками, интересовали его и вопросы языковой теории.
Е. Д. Поливанов принадлежал к Петербургской школе и был учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ. Окончив Петербургский университет как специалист по общему языкознанию, он еще в первые годы своей деятельности увлекся японским языком, в то время мало изученным. Еще до революции, будучи совсем молодым ученым, Евгений Дмитриевич совершил несколько поездок в Японию, во время которых он, как признавали потом ведущие японские лингвисты, впервые выяснил характер японского ударения и разъяснил его японским коллегам; тогда же он впервые в мировой науке описал ряд японских диалектов и подготовил их сравнительную фонетику и грамматику. Впоследствии им была издана грамматика японского языка (в соавторстве) с первым очерком японской фонологии. Проработав ряд лет (1921–1926 и 1929–1937) в Средней Азии, Е. Д. Поливанов систематически изучал самые разнообразные языки этого региона: узбекский, казахский, бухарско-еврейский (семитская семья), дунганский (близок к китайскому). Ему также принадлежат грамматика китайского языка, исследования по корейскому, мордовскому, чувашскому языкам, по русистике, славистике, индоевропеистике. Он активно изучал родственные связи ряда неиндоевропейских языков, в частности, японского. Свой богатый опыт работы со многими языками Е. Д. Поливанов обобщил в книге «Введение в языкознание для востоковедных вузов» (к сожалению, вышел лишь первый том, включающий общее введение и очерк фонетики и фонологии; второй том был написан, но не был издан и утерян); книга переиздана в 1991 г. в составе тома его работ «Труды по восточному и общему языкознанию».
Активную научную деятельность Е. Д. Поливанов совмещал, особенно в первые послереволюционные годы, с общественной и политической деятельностью. Восприняв, как он сам позже признавал, от своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ интернационализм и стремление к защите прав малых языков, Е. Д. Поливанов принял революцию и активно участвовал в гражданской войне и переустройстве общества; в частности, благодаря знанию многих языков он успешно выполнил в конце 1917 г. задание перевести и опубликовать секретные договоры царского правительства с другими государствами; зная китайский язык, он организовал отряд красных китайцев. Позже Е. Д. Поливанов принимал участие в работе по языковому строительству, прежде всего по созданию алфавитов и литературных языков для народов Средней Азии. Этой деятельностью он занимался до конца жизни. Последним делом Е. Д. Поливанова стало создание дунганского алфавита, принятого в 1937 г., накануне его ареста и гибели.
Е. Д. Поливанов не мог согласиться с установлением монопольного господства «нового учения о языке» Н. Я. Марра, ненаучность которого он хорошо понимал. Если другие видные языковеды молчали или на словах выступали за марровское учение, то Е. Д. Поливанов попытался бороться и выступил в феврале 1929 г. в Коммунистической академии с докладом, где убедительно выявил недоказанность или ошибочность марровских построений.
Его доклад впервые опубликован лишь в 1991 г. в указанном выше томе. После него Е. Д. Поливанов потерял возможность работать в Москве, где в 1926–1929 гг. фактически возглавлял московское языкознание, и был вынужден вернуться в Среднюю Азию, где марристы продолжали его преследовать. Ему удалось в 1931 г. выпустить книгу «За марксистское языкознание», где он вновь выступил против марризма. После этого травля Евгения Дмитриевича развернулась с новой силой и он навсегда потерял возможность печататься в Москве и Ленинграде. Иногда удавалось что-то опубликовать малым тиражом в Средней Азии (книги «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» и «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам», проект дунганского алфавита), а также за рубежом, в изданиях Пражского лингвистического кружка, с которым он был тесно связан через посредство Р. Якобсона. Но многое пропало или же до сих пор не издано.
Для научного подхода Е. Д. Поливанова характерны большая теоретичность, стремление к системному подходу и к выявлению причинно-следственных отношений в языке, сохранение психологизма, представление о возможности и необходимости сознательного вмешательства в язык и языковой политики, попытки связать лингвистику с практикой. В любой его работе, даже посвященной конкретным вопросам конкретного языка, присутствует общелингвистическая проблематика.
Многое в концепции В. Д. Поливанова шло от его учителя, в частности, психологическое понимание фонемы и фонологии. Он устойчиво сохранял, в отличие от Л. В. Щербы, термин «психофонетика», см. название первой его большой книги, изданной в 1917 г.: «Психофонетические наблюдения над японскими диалектами»; такие же идеи он высказывал до конца жизни. Сохранял он психологический подход и в связи с изучением изменений в языке. Отрыв лингвистики от говорящего человека, свойственный большинству структуралистов, был неприемлем для Е. Д. Поливанова. Он никогда не ограничивался изучением языка «в самом себе и для себя».
Один из вопросов, постоянно занимавших ученого, — вопрос о причинах языковых изменений. Как уже упоминалось, этот вопрос не мог быть решен наукой XIX в., и ее неспособность выявить причины описывавшихся ею звуковых и семантических переходов стала одним из оснований для смены лингвистической парадигмы в начале XX в. Однако большинство направлений структурализма, сосредоточившись на синхронных исследованиях, вообще сняло данный вопрос с повестки дня. Некоторое исключение здесь составляли лишь пражцы, а также французские структуралисты. С другой стороны, марристы и некоторые другие языковеды, прежде всего в СССР, выдвинули научно явно не обоснованные концепции о том, что изменения в языке прямо выводятся из изменений в экономике и политике. Е. Д. Поливанов, споря с такой упрощенной точкой зрения, выдвигал более разработанную концепцию причинно-следственных отношений в языковом развитии. Этому вопросу посвящено несколько его публикаций. Эти статьи, как и ряд других его важных работ, вошли в посмертный сборник «Статьи по общему языкознанию», вышедший в 1968 г.
Е. Д. Поливанов вслед за Ф. де Соссюром отмечал объективное противоречие в развитии языка. С одной стороны, для нормального функционирования язык должен быть стабилен: «В эволюции языка вообще, в виде общей нормы, мы встречаемся с коллективным намерением подражать представителям копируемой языковой системы, а не видоизменять ее, ибо в противном случае новому поколению грозила бы утрата возможности пользоваться языком как средством коммуникации со старшим поколением». С другой стороны, «изменения — это неизбежный спутник языковой истории и… на протяжении более или менее значительного ряда поколений они могут достигнуть чрезвычайно больших размеров». В обычных условиях «на каждом отдельном этапе языкового преемства происходят лишь частичные, относительно немногочисленные изменения», а принципиально значительные изменения «мыслимы лишь как сумма из многих небольших сдвигов, накопившихся за несколько веков или даже тысячелетий».
Почему происходят эти сдвиги? Е. Д. Поливанов пишет об этом: «Тот коллективно-психологический фактор, который всюду при анализе механизма языковых изменений будет проглядывать как основная пружина этого механизма, действительно, есть то, что, говоря грубо, можно назвать словами: „лень человеческая“ или — что то же — стремление к экономии трудовой энергии». Об этой причине говорил и учитель Е. Д. Поливанова И. А. Бодуэн де Куртенэ, но Евгений Дмитриевич рассматривал ее более детально. При этом экономия трудовой энергии имеет свои пределы, определяемые потребностью слушающего: «минимальная трата произносительной энергии» должна быть «достаточной для достижения цели говорения»; при слишком большой экономии речь может стать невнятной и непонятной. Слово «изнашивается» в произношении, а младшее поколение «усваивает… уже „изношенный“ в звуковом отношении скороговорочный дублет слова и само уже начинает сокращать („изнашивать“) его далее». Помимо звуковой редукции происходят упрощения грамматических форм, замена нерегулярных форм на регулярные и т. д., хотя потребности понятности для слушающего везде ограничивают «лень» говорящего.
Что же касается социально-экономических факторов, то они также влияют на языковые изменения, но не прямо, а косвенно: «экономическо-нолитические сдвиги видоизменяют контингент носителей (или так называемый социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его эволюции». Изменение социального субстрата может иметь разный характер: возникновение или прекращение контактов между языками, распадение языкового коллектива или объединение разноязычных коллективов (например, при изменении государственных границ), усвоение языка завоевателей, освоение литературного языка носителями диалектов и т. д. В частности, говоря об изменениях в языках народов СССР после революции, Е. Д. Поливанов указывал, что говорить о какой-либо «языковой революции» (как это делали марристы) нет оснований, однако произошли значительные изменения в социальном субстрате: «Самое главное, что мы находим в языковых условиях революционной эпохи, это — крупнейшее изменение контингента носителей (т. е. социального субстрата) нашего стандартного (или так называемого литературного) общерусского языка… бывшего до сих пор классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции (эпохи царизма), а ныне становящегося языком широчайших — ив территориальном, и в классовом, и в национальном смысле — масс, приобщающихся к советской культуре». Е. Д. Поливанов включал в этот процесс как освоение литературного языка носителями русских диалектов и просторечия, так и распространение его среди нерусского населения. Правильно указав на приобретение русским языком «бесклассового характера», Е. Д. Поливанов сделал следующий прогноз: «Через два-три поколения мы будем иметь значительно преображенный (в фонетическом, морфологическом и прочих отношениях) общерусский язык, который отразит те сдвиги, которые обусловливаются переливанием человеческого моря — носителей общерусского языка в революционную эпоху» (нечто похожее предсказывал и Л. В. Щерба, который считал, что нелитературной форме польты принадлежит будущее). Этот прогноз однако не оправдался: стабилизирующее влияние русских литературных норм оказалось слишком сильным даже через два-три поколения.
Однако если такого сдвига в языке не произошло у нас, это не значит, что сдвиги не происходили в иных условиях. Как указывал Е. Д. Поливанов, «не надо рассматривать общую линию пройденной… эволюции как вполне беспрерывный ход процесса постепенных изменений… Наоборот, весьма многое в этой цепи последовательных видоизменений принадлежит к процессам или „сдвигам“ мутационного или революционного характера». Такие мутации или революции происходят именно при резком сдвиге социального субстрата.
Как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, Е. Д. Поливанов признавал возможность смешения и скрещения языков (хотя, разумеется, в отличие от Н. Я. Марра не отрицал и возможности их расхождения). Такие процессы, имеющие причиной смену социального субстрата, он называл гибридизацией (в случае схождения неродственных языков) и метизацией (в случае вторичного схождения родственных языков). По мнению Е. Д. Поливанова, «в случае слияния двух разнородных в языковом отношении коллективов в новый, экономически обусловленный коллектив… потребность в перекрестном языковом общении… обязывает к выработке единого общего языка (т. е. языковой системы) взамен двух разных языковых систем». Современная наука однако трактует такого рода процессы иначе, ближе к точке зрения А. Шлейхера и младограмматиков: сохраняется один из языков, другой исчезает, хотя какие-то его элементы вошли в язык-победитель (ср. концепцию субстрата в ее традиционном виде).
Более подробно Е. Д. Поливанов изучал процессы изменений в фонологических системах. Здесь он различал постепенные эволюционные изменения, не влияющие на изменение фонологической системы, и «мутационные», неизбежно дискретные изменения, при которых меняется система фонем (ср. формулировку В. Брёндаля о выделении дискретных, мутационных изменений как свойстве новой лингвистики XX в.). «Мутационные» изменения могут быть результатом как быстрых скачков в результате смены социального субстрата, так и длительного накопления эволюционных изменений, связанных с «ленью» говорящих. Наиболее существенны изменения в системе, при которых меняется число элементов системы. К ним относятся конвергенции, когда несколько фонем объединяются в одну, и дивергенции, когда фонема расщепляется на две или более. Конвергенционные и дивергенционные сдвиги всегда имеют характер скачка: некоторое поколение говорящих перестает осознавать некоторое различие или наоборот, начинает его ощущать; никаких промежуточных ступеней здесь быть не может. Конвергенции и дивергенции Е. Д. Поливанов стремился изучать не как изолированные процессы в духе традиционной исторической лингвистики, а как связанные между собой системные изменения. Конвергенция некоторых фонем может создать условия для дивергенции других фонем и наоборот. Впервые в мировой науке на материале японского и некоторых других языков ученый рассмотрел процессы цепочечных изменений в фонологических системах, при которых следствие одного изменения становится причиной другого; впоследствии подобные исследования проводили на разнообразном материале другие лингвисты; в частности, фонологи Московской школы выявили, как в истории русского языка падение редуцированных гласных повлияло на другие изменения фонологической системы.
Е. Д. Поливанов стремился создать общую теорию языкового развития, которую называл лингвистической историологией. В ней он старался совместить идеи крупного русского историка Н. И. Кареева (от него шел сам термин «историология») с положениями диалектического материализма (в частности, процесс мутационных изменений в результате накопления экономии трудовой энергии трактовался как пример перехода количества в качество). Однако цельную теорию ученый создать не успел, выдвинув лишь ряд общих принципов и разработав ее фрагмент — теорию фонологических конвергенций и дивергенций.
Общественная ситуация в СССР ставила вопрос о языковом планировании и сознательном вмешательстве в развитие многих языков; такое вмешательство в меньшей степени относилось к русскому языку, уже обладавшему развитой и всеобъемлющей языковой нормой. Однако многие другие языки были развиты значительно меньше, часто не обладая разработанной нормой или даже письменностью. В 20—30-е гг. в СССР развернулась интенсивная работа по разработке литературных норм и алфавитов, получившая название языкового строительства, в ней приняли участие многие видные советские лингвисты, в том числе и Е. Д. Поливанов. Как и другие участники языкового строительства, он вслед за своим учителем И. А. Бодуэном де Куртенэ был горячим сторонником равноправия больших и малых языков, возможности для каждого гражданина пользоваться всегда, когда он считает это нужным, своим родным языком. Однако было очевидно, что языки страны находятся на разном уровне развития и необходимо сознательное форсирование развития ряда языков.
Как выше уже упоминалось, по вопросу о сознательности и бессознательности языкового развития существовали разные точки зрения. На одном полюсе находились ученые вроде Ф. Де Соссюра, считавшие изменения в языке целиком бессознательными, на другом полюсе — некоторые деятели языкового строительства и еще в большей степени непрофессионалы вроде марристов, допускавшие любые сознательные изменения в языке. Позиция Е. Д. Поливанова, как и И. А. Бодуэна де Куртенэ и пражцев, была здесь наиболее разумной и реалистичной.
С одной стороны, Е. Д. Поливанов отмечал «бессознательный, помимо вольный характер внесения языковых новшеств»; «языковые новшества не только помимовольны, но и незаметны для тех, кто фактически осуществляет их». Есть исключения вроде «потайных жаргонов» у «людей темных профессий», сознательно изменяющих язык, чтобы он был непонятен для непосвященных. Но эта сознательность — не общее правило. В ответ на попытки изменять языки административным путем Е. Д. Поливанов в книге «За марксистское языкознание» замечал: «Для того чтобы в языке произошло то или иное фонетическое… или морфологическое… изменение, совершенно недостаточно декретировать это изменение, т. е. опубликовать соответствующий декрет или циркуляр. Можно, наоборот, даже утверждать, что если бы подобные декреты или циркуляры даже и опубликовывались бы… ни один из них не имел бы буквально никакого результата… и именно потому, что родной язык выучивается (в основных своих элементах) в том возрасте, для которого не существует декретов и циркуляров».
С другой стороны, Е. Д. Поливанов не считал, что сознательное вмешательство в языковое развитие абсолютно невозможно. Он подчеркивал, что оно необходимо там, где это не противоречит указанным выше закономерностям. Самый очевидный случай такой необходимости — графика и орфография: «От рационализации графики зависит громадная экономия времени и труда начальной школы, успехи ликвидации неграмотности, а следовательно, вообще все дело культуры данной национальности». К тому времени, когда Е. Д. Поливанов писал эти слова, уже был накоплен значительный опыт создания десятков новых письменностей и орфографических реформ, в том числе и для русского языка. Это было реальным, поскольку письму человек обучается вполне сознательно в школе. Далее, возможны и реально происходили после революции сознательные изменения в словаре, поскольку «формулировка словаря — более чем какого-либо элемента языковой системы — принадлежит также и взрослому возрасту».
Культурные изменения всегда приводят к появлению новых реалий и новых понятий, а вслед за этим и обозначений этих реалий и понятий. Наконец, вполне сознательный процесс — формирование литературной нормы, в том числе нормы фонетической и грамматической. При этом в области фонетики и грамматики «никаких специфических новшеств» не вводится (такие новшества появляются бессознательно), но происходят результаты «возобладания одного диалекта данного языка — в качестве литературного диалекта — над другими». Отметим, что в чисто лингвистическом плане Е. Д. Поливанов всегда подчеркивал равноправность литературного языка и диалектов; при сопоставлении японских диалектов он рассматривал в одном ряду с ними и литературный язык в качестве «токийского диалекта». Однако социально литературный язык и диалекты не равноправны. Выбор опорного диалекта при создании литературного языка, включение того или иного грамматического показателя или даже той или иной фонемы в литературную норму и т. д. — все это может быть результатом сознательного отбора нормализаторов языка. Однако и тут сознательное вмешательство не беспредельно, оно должно считаться с объективно сложившимися факторами. Например, Е. Д. Поливанов долгое время боролся с возобладавшими в 20-е гг. идеями формировать литературную норму узбекского языка на основе кишлачных (сельских) диалектов. Такая точка зрения основывалась на том, что эти диалекты лучше сохранили исконно тюркские черты и литературный язык на их основе был бы понятнее для других тюркских народов. Но Е. Д. Поливанов указывал, что диалект деревни не может из-за своей недостаточной престижности возобладать над диалектом города. И действительно, в итоге он оказался прав: с 30-х гг. узбекская литературная норма в соответствии с его предсказаниями начала основываться на городских диалектах, прежде всего ташкентском как столичном, хотя городские диалекты сильно изменились под влиянием иранских языков. Е. Д. Поливанову принадлежит много публикаций по теории и практике языкового строительства, многое в них актуально и сегодня.
В целом Е. Д. Поливанову всегда был свойствен активный подход к своему объекту исследований, стремление связать теорию с практикой. С этим связано даже предложенное им разграничение основных лингвистических дисциплин. Согласно предложенной им в книге «За марксистское языкознание» классификации, лингвистика состоит из изучения прошлого (историологии), изучения настоящего и изучения будущего, прогностики. В связи с этим Е. Д. Поливанов писал: «Лингвист, таким образом, слагается: 1) из реального строителя (и эксперта в строительстве) современных языковых (и графических) культур, для чего требуется изучение языковой современной действительности, самодовлеющий интерес к ней и — скажу более — любовь к ней; 2) из языкового политика, владеющего (хоть и в ограниченных, пусть, размерах) прогнозом языкового будущего опять-таки в интересах утилитарного языкового строительства (одной из разновидностей „социальной инженерии“ будущего); 3) из „общего лингвиста“, и в частности лингвистического историолога (здесь, в „общей лингвистике“, и лежит философское значение нашей науки); 4) из историка культуры и конкретных этнических культур». Здесь помимо стремления связать науку с практикой мы видим и развитие общих тенденций науки его эпохи (четкое разграничение синхронии и диахронии), и стремление выйти за пределы лингвистики первой половины XX в. Если лингвистика, изучающая настоящее, и лингвистика, изучающая прошлое, тогда уже были достаточно развиты, то прогноз языкового будущего, как и изучение проблем, связывающих язык и культуру, находились в зачаточном состоянии. Сам Е. Д. Поливанов во многих своих работах старался выявить тенденции развития языков в будущем; как уже отмечалось, не все его прогнозы подтвердились, но сама постановка данной проблемы была важной и перспективной.
Е. Д. Поливанов был человеком большого таланта, очень необычным, производившим большое впечатление на всех, кто его знал. Его друг, писатель и литературовед В. Б. Шкловский писал много лет спустя: «Поливанов был обычным гениальным человеком. Самым обычным гениальным человеком». Однако слишком многого он не успел сделать.
Н. Ф. ЯковлевНаряду с Е. Д. Поливановым другим крупным советским ученым, активно участвовавшим в языковом строительстве, был Николай Феофанович Яковлев (1892–1974). Он принадлежал к Московской школе, со студенческих лет был хорошо знаком с Н. С. Трубецким, учившимся в Московском университете на несколько лет раньше его, и с Р. О. Якобсоном, учившимся немного позже. Как и Е. Д. Поливанов, он активно участвовал в революции и принял новый строй. С 20-х гг. он стал ведущим теоретиком и практиком языкового строительства в СССР. Органом, осуществлявшим работу по языковому строительству, был существовавший в 1925–1937 гг. Всесоюзный центральный комитет нового алфавита, все годы его существования Н. Ф. Яковлев был председателем его Технографической комиссии и фактическим научным руководителем всех работ. К деятельности по составлению алфавитов были привлечены также Е. Д. Поливанов и ряд других видных советских лингвистов тех лет: тюркологи Н. К. Дмитриев (1898–1954) и К. К. Юдахин (1890–1975), монголист H. Н. Поппе (1897–1991), финно-угровед Д. В. Бубрих (1890–1949), кавказовед и иранист Л. И. Жирков (1885–1963) и др. В основном это были молодые тогда ученые, по взглядам близкие к структурализму, безусловно интересовавшиеся системным синхронным анализом современных языков, в особенности в области фонологии, тогда самой передовой и развивающейся дисциплины. На высоком научном уровне было составлено около восьмидесяти алфавитов для языков народов СССР на латинской основе; одни из них создавались непосредственно Н. Ф. Яковлевым или при его участии, другие — при том или ином влиянии его идей и рабочих приемов. В конце 30-х гг. по решению сверху латинские алфавиты были заменены на кириллические, в составлении новых алфавитов на новой графической основе Н. Ф. Яковлев также принимал участие.
Диапазон научных интересов Н. Ф. Яковлева был несколько уже, чем у Е. Д. Поливанова, но тоже достаточно широк. Он также много публиковался по вопросам теории и практики языкового строительства. Помимо этого специальной областью его исследований были кавказские языки, а сферой теоретических интересов — фонология. В 30—40-е гг. им были написаны пять фундаментальных грамматик кавказских языков, три из которых, адыгейская (совместно с Д. Ашхамафом), кабардинская и чеченская, были изданы, а абхазская и ингушская до сих пор не опубликованы. В отличие от других видных советских лингвистов его времени, Н. Ф. Яковлев оказался подвержен влиянию марризма, с которым боролся в области создания алфавитов, но который принял в ряде вопросов, прежде всего в трактовке языковой истории. Судьба Е. Д. Поливанова и Н. Ф. Яковлева, наиболее активно из крупнейших отечественных лингвистов поддержавших советский строй, оказалась при этом строе наиболее драматичной, хотя и по-разному. Н. Ф. Яковлев не был арестован, но после осуждения марризма был в 1951 г. как «неразоружившийся маррист» уволен с работы и вскоре заболел. После этого его творческая деятельность прервалась и последние 23 года жизни он находился из-за тяжелой болезни вне науки.
Как теоретик языкознания Н. Ф. Яковлев наиболее интересен своими работами по фонологии, написанными в начальный период его деятельности, в 20-е гг. К сожалению, главная его теоретическая работа тех лет не издана и, по-видимому, не сохранилась. Его деятельность как фонолога была тесно связана с конструированием алфавитов. Это был двусторонний процесс: фонологическая теория создавала базу для создания алфавитов (именно фонологи, а не фонетисты были лучше всего приспособлены для алфавитной деятельности), а богатый материал языков народов СССР предоставлял факты для развития теории. Как признавал впоследствии Р. Якобсон, структурно-фонологические концепции Н. Ф. Яковлева появились в печати на несколько лет раньше, чем аналогичные концепции Н. Трубецкого и самого Р. Якобсона, начиная с 1923 г. Среди опубликованных работ Н. Ф. Яковлева по теории фонологии особо выделяется статья «Математическая формула построения алфавита», впервые напечатанная в 1928 г. в первом выпуске сборника «Культура и письменность Востока», издававшегося Всесоюзным центральным комитетом нового алфавита (статья переиздана в хрестоматии А. А. Реформатского «Из истории отечественной фонологии»).
В статье ставится вопрос о том, какая наука о языке может помочь в практическом деле создания алфавитов. Здесь мало что могли дать как традиционное историческое языкознание, так и уже существовавшая фонетика, использовавшаяся, в частности, в диалектологии. Диалектологи, как указывает Н. Ф. Яковлев, «стремясь как можно точнее изучить на слух, а частью также с помощью особых фонетических аппаратов, все богатство звуковых оттенков, какое несет в себе индивидуальное живое произношение, в первую очередь интересовались вопросом о том, чтобы создать возможно более богатую и точную систему научной транскрипции». Однако такой подход обладал слишком большой различительной силой, поскольку «количество звуковых оттенков… всегда больше того числа звуков, которые различает в своей речи каждый неискушенный в фонетических исследованиях говорящий». А именно последнее различение и важно для создания практической письменности. Примером непонимания сущности проблемы оказался упоминавшийся уже алфавит Н. Я. Марра, представлявший собой крайне сложную транскрипцию, неудобную для пользователей.
В то же время создание алфавитов, как указывает Н. Ф. Яковлев, должно основываться на научной базе: «Только тогда можно говорить о научно обоснованном построении алфавита, когда теоретическая лингвистика сумеет дать необходимые элементы и даже формулы для решения этого вопроса так же, как теоретическая механика дает их для постройки инженерных сооружений». Как и Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев признавал сферу графики и орфографии открытой для сознательного вмешательства.
Данной научной базой является структурная фонология. Н. Ф. Яковлев пишет: «Решение вопроса о научном построении практического алфавита требует прежде всего известного пересмотра положений теоретической фонетики. Всякому теоретическому исследователю фонетики известен тот факт, что в каждом данном живом диалекте ученый может вскрывать по существу неограниченное количество звуковых отличий… В сущности нет никакого предела количеству звуков в языке, если исследователь подходит к этому вопросу только с точки зрения физико-акустической, т. е. если он воспринимает звуки вне всякого отношения к социальной языковой их функции, вне отношения звуков к значимым элементам языка». Н. Ф. Яковлев отметил, что впервые на существование в языке ограниченного количества фонем указали И. А. Бодуэн де Куртенэ и его ученики. «Указанные исследователи не объяснили, однако, лингвистической сущности данного явления, его социальной основы, сводя дело к психологическому акту, к явлениям индивидуального сознания каждого отдельного говорящего». Ссылаясь на раннюю работу Л. В. Щербы 1912 г., где тот еще исходил из психологической концепции фонемы, Н. Ф. Яковлев заявляет: «Я вполне присоединяюсь к выводам проф. Л. В. Щербы, что в каждом языке существует строго ограниченное количество звуков — „фонем“, однако, в отличие от последнего, я даю этому факту чисто лингвистическое толкование. Именно — фонемы выделяются, по моему мнению, не потому, что они создаются каждым отдельным говорящим, но они потому и сознаются говорящими, что в языке как в социально выработанной грамматической системе эти звуки выполняют особую грамматическую функцию… Мы должны признать фонемами те звуковые отличия, которые выделяются в речи как ее кратчайшие звуковые моменты в отношении к различению значимых элементов языка».
Такая точка зрения весьма сходна с пражской. А писал это Н. Ф. Яковлев, и уже не в первый раз, за год до публикации «Тезисов Пражского лингвистического кружка» и почти за десятилетие до написания «Основ фонологии» Н. Трубецкого. Однако столь развернутого, как у Трубецкого, изложения фонологической теории Н. Ф. Яковлев так и не дал.
Очевидно, что «эти-то звуки-фонемы во все времена и у всех народов, применявших звуковую систему письма, и клались в основу буквенного обозначения, изобретатели их алфавитов интуитивно определяли количество фонем данного языка и каждую фонему обозначали особым знаком — буквой». Этот факт уже отмечался в данной книге там, где речь шла о лингвистических традициях, и Н. Ф. Яковлев был одним из первых, кто это заметил. Букв всегда значительно меньше, чем применяемых для того же языка транскрипционных знаков. Тот же подход, что был у изобретателей уже существующих алфавитов, должен быть и у лингвиста, конструирующего алфавиты, но количество букв уже определяется не интуитивно, а осознанно, на основе научной теории.
Далее автор переходит к выделению собственно «математической формулы построения алфавита». Он указывает, что всегда принципиально возможен алфавит, в котором отношение между буквой и фонемой взаимно однозначно, однако для многих языков число букв можно минимизировать, если там многие фонемы противопоставлены по одному и тому же признаку. Н. Ф. Яковлев исходил из принципа, используемого в русском алфавите, где вместо особых букв для твердых и мягких фонем используются сопряженные с ними пары букв для гласных (a-я, у-ю и др.). В результате выводится формула:
А = С + Г — С' + Г' + 1,
где А — общее число букв, С — число согласных фонем, Г — число гласных фонем. С' — число согласных фонем, противопоставленных по твердости-мягкости, Г' — число сочетающихся с ними парных вариантов гласных Кроме того, необходима одна буква (мягкий знак) для разграничения твердых и мягких фонем не перед гласными. В других случаях, во-первых, вместо твердости-мягкости может быть какой-то другой признак, во-вторых, в каких-то случаях может быть целесообразным экономить на гласных за счет согласных, поэтому формула в общем виде выглядит так:
А = С + Г ± С' ± Г' + 1.
Н. Ф. Яковлев далее прилагает эту формулу к ряду языков разного фонологического строя, где эта формула дает ту или иную экономию.
Для современного читателя, привыкшего к сложным математическим моделям языка, арифметическая формула Н. Ф. Яковлева выглядит примитивной, однако в 1928 г. вопрос о применении даже такой математики к гуманитарным наукам еще выглядел дискуссионным (тремя годами позже и Е. Д. Поливанов одну из статей в книге «За марксистское языкознание» озаглавил «И математика может быть полезной», хотя и там речь идет о достаточно простой математике). Н. Ф. Яковлев вполне справедливо считал, что «гуманитарные дисциплины, принципиально не отличаясь от естественно-исторических наук, допускают применение математических формул и способны послужить теоретической базой для создания специальных прикладных гуманитарных дисциплин». Однако, безусловно, «любая формула требует предварительного исчисления реальных величин, получаемых с помощью исследования соответствующих конкретных объектов». Например, если формула — фонологическая, требуется предварительное знание фонологии языка. Математика всегда — лишь вспомогательное средство.
В отличие от идей Н. Трубецкого и Р. Якобсона, идеи Н. Ф. Яковлева не получили известности за пределами страны, где были высказаны. В то же время они прямо повлияли на формирование концепции советских лингвистов, в основном бывших несколько моложе Н. Ф. Яковлева. Эта группа лингвистов получила название Московской фонологической школы, хотя ее представители внесли вклад далеко не в одну фонологию.
Московская фонологическая школаКонцепция Московской фонологической школы в основных своих чертах сложилась в начале 30-х гг., прежде всего в стенах недолге просуществовавшего и закрытого по требованию марристов Научно-исследовательского института языкознания в Москве; однако в печати идеи школы в основном были высказаны позже: в 40-е и даже в 50-е гг. В состав школы вошла группа молодых лингвистов, в большинстве работавших в упомянутом институте. Это были Петр Саввич Кузнецов (1899–1968), Александр Александрович Реформатский (1900–1978), Рубен Иванович Аванесов, впоследствии член-корреспондент АН СССР (1902–1982), Владимир Николаевич Сидоров (1903–1968). Все они получили образование в МГУ уже в послереволюционное время, их учителями были ученые фортунатовской школы, в частности, Д. Н. Ушаков. К ним присоединился и бывший старше по возрасту, но активно начавший заниматься лингвистикой в это же время Алексей Михайлович Сухотин (1888–1942).
Все эти ученые занимались не только фонологией. П. С. Кузнецов — автор книг по истории русского языка и русской диалектологии, работ по проблемам теории грамматики. А. А. Реформатский знаменит выполненным на очень высоком научном уровне учебником «Введение в языковедение», выдержавшим четыре издания. У Р. И. Аванесова немало работ по произносительным нормам русского языка, долгое время он возглавлял работы по русской диалектологии в нашей стране. В. Н. Сидорову принадлежит одно из лучших описаний русской морфологии.
А. М. Сухотин активно участвовал под руководством Н. Ф. Яковлева в разработке алфавитов, он также известен как переводчик на русский язык книг Ф. де Соссюра и Э. Сепира. Однако наибольшее теоретическое значение имели их работы по фонологии, где в 30—40-е гг. все указанные языковеды выступали с единых позиций. В 50-е гг. с несколько иными взглядами начал выступать Р. И. Аванесов, см. его изданную в 1956 г. книгу «Фонетика современного русского литературного языка». Остальные основатели школы продолжали отстаивать свою точку зрения до конца жизни, их идеи были продолжены фонологами следующего поколения (М. В. Пановым, В. К. Журавлевым и др.).
Фонологи Московской школы бесспорно принимали такие идеи соссюровской лингвистики, как разграничение языка и речи и «понимание языка как системы „значимостей,“ (соотносящихся со всей системой)»; именно это называл крупнейшими достоинствами книги Ф. де Соссюра ее переводчик А. М. Сухотин. В то же время А. М. Сухотин, как и его коллеги, не принимал идеи о несистемности диахронии и подчеркивал, что Ф. де Соссюр «в самый термин „фонема“ вкладывает недостаточно ясное содержание и не делает всех вытекающих выводов».
В области фонологии данные ученые развивали идеи Н. Ф. Яковлева, большое влияние на их концепцию также оказал Н. Трубецкой. Главными их оппонентами были Л. В. Щерба и его ученики, исходившие из слишком «физикалистской» и недостаточно функциональной, по мнению Московской школы, концепции. Как пишет А. А. Реформатский в связи с различиями позиций Ленинградской и Московской школ, «в этих двух направлениях речь идет о разных предметах: в Ленинградской школе — о звуковом типе реальных звучаний в речи без учета роли данных явлений в морфеме, а в Московской школе — о „подвижном элементе морфем“, о единице, получающей „языковую ценность“ и „рассматриваемой лингвистически“ без всякой оглядки на „звуковой тип“». Для Московской школы первые гласные в словах вода и воды относятся к одной фонеме, а русские и и ы представляют собой, несмотря на заметные фонетические различия, варианты одной фонемы. Как указывал А. А. Реформатский, разное понимание фонемы тесно связано с той или иной областью применимости лингвистики. Например, для техники связи подходит ленинградское понимание фонемы, но для конструирования алфавитов нужна именно московская фонологическая концепция, ср. морфологический принцип русской орфографии.
Наиболее четко и компактно фонологическая концепция Московской школы была изложена в статье П. С. Кузнецова «Об основных положениях фонологии», впервые опубликованной в журнале «Вопросы языкознания», 1959, № 2 (статья перепечатана в упомянутой выше хрестоматии А. А. Реформатского). Здесь П. С. Кузнецов предлагает аксиоматический подход к выделению основных лингвистических и, в частности, фонологических понятий, следуя за К. Бюлером (указывая при этом, что аксиоматика К. Бюлера «не является аксиоматикой в строгом смысле слова»). В соответствии с аксиоматическим подходом выделяются первичные, считающиеся заранее заданными понятия: для фонологии это язык и речь в соссюровском смысле, а также слово, значение слова, морфема, значение морфемы; заранее задано и множество языков и диалектов. При таком подходе позиции П. С. Кузнецова неожиданно сближаются с весьма далекой концепцией З. Харриса, допускавшего возможность морфологического анализа, независимого от фонологии, хотя никем реально такой анализ не проводился.
К числу первичных неопределяемых понятий у П. С. Кузнецова также относится фонетическое (не фонологическое!) понятие звука речи. Автор статьи исходит из допущения о том, что текст уже сегментирован на звуки (Московская школа в целом больше занималась парадигматикой фонем, чем их синтагматикой, и не выработала столь детальных процедур сегментации, какие есть у Н. Трубецкого или дескриптивистов).
Следующее понятие, уже требующее определения, — это понятие звука языка: «Звуком языка называется множество звуков речи, частью тождественных, частью близких друг другу в артикуляционно-акустическом отношении, которые встречаются в самых различных речевых потоках, в составе самых различных значимых единиц (слов, морфем)». То есть звук языка — это типизированный звук речи, множество звуков речи, различия между которыми вообще не значимы для лингвистики. В какой-то степени звук языка сопоставим с фонемой по Л. В. Щербе. Как указывает П. С. Кузнецов, обобщение звуков речи в звуке языка может основываться как на показаниях прибора или ощущениях лингвиста с «тонким в лингвистическом отношении слухом», так и на «ощущении говорящих на данном языке». Таким образом, и Московская школа не вполне отказывалась от учета мнения говорящего. Однако оно было нужно лишь для выделения звука языка, который еще не фонема и относится к фонетике, а не фонологии.
В отличие от звука языка фонема — собственно фонологическая единица, «каждый язык или диалект обладает определенным конечным числом отличных друг от друга фонем». Согласно П. С. Кузнецову, «каждая фонема представляет собой некоторый класс звуков речи… фонемы и звуки языка могут представлять собой классы взаимно пересекающиеся». Как и для пражцев, для П. С. Кузнецова выделение фонем основано на их участии в смыслоразличении: «Принадлежность различных звуков речи к одной фонеме определяется не артикуляторно-акустической близостью их… а положением звуков речи в морфеме». Далее предлагается весьма разработанная процедура, на основании которой можно отождествлять в качестве разновидностей одной фонемы звуки, занимающие одинаковое место в морфеме независимо от позиции последней, см. упоминавшиеся выше примеры типа вода — воды; наличие же минимальных пар и здесь используется как критерий включения звуков в разные морфемы.
Фонемы и звуки языка могут совпадать между собой в том случае, если фонемы не имеют позиционных вариантов. Однако возможны, а для такого языка, как русский, и типичны пересечения фонем и звуков языка. Первые гласные в русских словах вода и трава — одинаковые звуки языка, но разные фонемы, ср. воды, но травы. Среди вариантов фонемы допускается и нулевой: костный (фонетически коснъй), ср. кость. Но принадлежность звука к фонеме может быть неясной, как в первом гласном слова собака. Такая неясная группа именовалась в Московской фонологической школе гиперфонемой, в данном примере — гиперфонема а-о.
В данной статье надо отметить и спор с уже существовавшим положением Р. Якобсона, Г, Фанта и М. Халле о фонеме как пучке дифференциальных признаков (о нем ниже, в главе о Р. Якобсоне). П. С. Кузнецов считал, что система таких признаков — «существенная категория фонологии, но устанавливать ее для данного языка можно лишь тогда, когда определена система фонем этого языка и отношения между ними».
Развитие типологии в СССР. И. И. МещаниновВклад в науку внесли не только противники марризма или лингвисты, игнорировавшие его, но и ученые, в той или иной степени принадлежавшие к марристскому лагерю. Особенно это относилось ко второй половине 30-х гг. и к 40-м гг., когда после смерти Н. Я. Марра в 1934 г. его последователи старались как-то примирить его учение с наукой и избавиться от явной фантастики. Особо здесь следует назвать ближайшего сотрудника Н. Я. Марра и его преемника по руководству советским языкознанием академика Ивана Ивановича Мещанинова (1883–1967).
И. И. Мещанинов принадлежал к поколению А. М. Пешковского и Л. В. Щербы, однако выдвинулся как языковед значительно позже, к 1930-м годам. Он не имел специального лингвистического образования, сменил несколько научных специализаций (юрист, историк, археолог) и окончательно сосредоточился на языкознании уже когда ему было далеко за сорок лет. Долгое время он работал под руководством Н. Я. Марра, испытал влияние его идей. Его первые лингвистические публикации представляли собой популяризацию «нового учения о языке». Однако после смерти учителя И. И. Мещанинов в значительной степени отошел от его взглядов. В это время появляются три наиболее важные его книги: «Общее языкознание» (1940), «Члены предложения и части речи» (1945) и «Глагол» (1949), оказавшие заметное влияние на советскую лингвистику того времени. После выступления И. В. Сталина против марризма в 1950 г. И. И. Мещанинов и его книги подверглись ожесточенной критике, ученый лишился своего руководящего положения в науке. Он продолжал работать, но его публикации 50—60-х гг. не были столь значительны, как упомянутые выше книги. Три главных труда И. И. Мещанинова были переизданы в 70—80-е гг., введение к книге «Общее языкознание» включено в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Первоначальной идеей, обусловившей направление научных поисков И. И. Мещанинова, была возрожденная Н. Я. Марром идея стадиального развития языков, отражающего развитие человеческого мышления. Но во времена В. фон Гумбольдта стадии искали в морфологии (результатом стало выделение флективных, агглютинативных и изолирующих языков). К XX в. уже окончательно стало ясно, что выделенные первыми типологами действительно существенные различия между языками никак не связаны с этапами развития мышления и что изолирующий китайский язык ничуть не примитивнее флективного латинского. Н. Я. Марр выдвинул идею поиска стадий в синтаксисе, которую пытался реализовать И. И. Мещанинов. Но логика научного исследования привела ученого к постепенному отказу от идей стадиальности. Эти идеи занимают ведущее место в его публикациях 30-х гг., менее значимы в «Общем языкознании» и почти исчезают в книгах, изданных после войны. Их место занимает разработка проблем синтаксической типологии, ранее мало изученных. И. И. Мещанинов может считаться одним из основателей синтаксической типологии наряду с Э. Сепиром, оказавшим на него несомненное влияние своими концепциями. Помимо них И. И. Мещанинов развивал идеи, выдвинутые немецким исследователем кавказских языков А. Дирром (1867–1930).
И. И. Мещанинов в большей степени, чем многие другие лингвисты первой половины XX в., стремился учитывать материал как можно большего числа языков. В предисловии к книге «Общее языкознание» он подверг резкой критике «индоевропейское общее языкознание», тяготеющее до сих пор над мыслью научного работника. Слишком большую ориентацию на индоевропейские языки и их особенности он отмечал у Ф. де Соссюра и даже у Э. Сепира, активно использовавшего материал индейских языков. Во всех своих книгах И. И. Мещанинов активно использовал наравне с данными русского, французского, немецкого языков материал языков иного строя, особенно языков народов СССР: кавказских, тюркских, монгольских, языков крайнего северо-востока Азии (так называемых палеоазиатских). Важно его заключение о том, что многие привычные для европейца явления, в частности, так называемый номинативный строй предложения (см. ниже) — лишь типологическая особенность некоторых языков мира; в других же языках синтаксический строй может быть совсем другим. Правда, там, где И. И. Мещанинов сохранял стадиальные представления, и у него индоевропейские языки оказывались самыми продвинутыми.
В книге «Общее языкознание» автор сводит свою задачу к рассмотрению на разнообразном языковом материале проблемы «двух основных единиц речи» — слова и предложения. Подчеркивается, что эти две единицы неразрывно связаны: «слово практически не существует вне предложения» (хотя и может рассматриваться изолированно, например, в словаре), а «предложение, взятое без слов», невозможно вообще. В связи с этим выделяются два основных раздела лингвистики: лексика и синтаксис (наряду с фонетикой, которой И. И. Мещанинов специально не занимался). Лексика изучает форму и содержание слова, включая в себя помимо лексической семантики и словообразование. Синтаксис изучает форму и содержание предложения, включая в себя помимо традиционной синтаксической проблематики также и синтаксическое словоизменение (формы падежа, лица, числа и т. д.). При таком подходе морфология как особая область лингвистики не выделяется и оказывается излишней. И. И. Мещанинов указывал, что не всякое сочетание слов относится к синтаксису, а в слове помимо лексического может быть и синтаксическое содержание: не образующие предложение сочетания слов типа синяя материя — единицы лексики, а глагольная форма вроде Идет по семантике — законченное предложение. Между лексикой и синтаксисом нет непроходимый грани: «языковой строй в различных языках не однообразен, к тому же он в историческом ходе развития меняется, в результате чего получается качественная перестройка его типологических показателей. То, что было лексемою, может при измененном строе речи стать синтаксемою и т. д.».
В центре внимания типологических построений И. И. Мещанинова — синтаксические конструкции, прежде всего способы обозначения субъекта и предиката. Ученый не придавал особо большого значения различиям между флективными, агглютинативными и изолирующими языками: во всех этих языках предложения состоят из слов, а различия строя сводятся в основном к технике оформления синтаксических отношений, не затрагивая семантику. Значительно более существенным он считал среди традиционных разграничений выделение инкорпорирующих языков, поскольку здесь принципиально иное соотношение основных единиц речи: инкорпоративный комплекс — одновременно слово и предложение, он не может быть отнесен к какой-либо части речи. И. И. Мещанинов был против отождествления инкорпорирущих языков с самой примитивной стадией языкового развития, однако у него все же инкорпорация рассматривается как явление стадиально более раннее, чем предложение, состоящее из слов; согласно И. И. Мещанинову в ходе исторического развития инкорпоративные комплексы распадаются на слова, обратного же процесса не происходит. В то же время отмечается, что ни один из известных языков не может считаться стопроцентно инкорпорирующим: везде кроме слов-предложений встречаются и обычные слова с признаками частей речи. Выделяются последовательно инкорпорирующие языки, где возможны комплексы, охватывающие все предложение (чукотский), и частично инкорпорирующие языки, где предложение как минимум двучленно, состоя из подлежащего и сказуемого, каждое из которых может быть инкорпоративным комплексом (нивхский). В языках последнего типа части речи почти не отличаются от членов предложения.
Если же предложение в том или ином языке состоит из слов, то его строй, включающий в себя и форму, и значение, тоже может быть различным. И. И. Мещанинов выделил три основных строя такого типа: поссесивный (притяжательный), эргативный и номинативный (и еще два более редких строя, на которых мы останавливаться не будем).
При поссесивном строе (отмеченном в алеутском языке, индейском языке немепу и «пережиточно» в абхазском) одинаковым образом обозначаются предикативное отношение (между субъектом и предикатом) и притяжательное отношение (между обладателем и обладаемым), части речи мало дифференцированы, глагольные формы образуются от именных основ. При эргативном строе, ранее выделенном А. Дирром и рассмотренном И. И. Мещаниновым прежде всего на кавказском материале, по-разному строятся переходные и непереходные предложения: субъект непереходного предложения оформляется так же, как объект переходного, а субъект переходного иначе (например, другим падежом). Наконец, при номинативном строе, свойственном, в частности, индоевропейским языкам Европы, имеется привычная для нас структура, где субъект обозначен подлежащим, предикат — сказуемым, а объект — дополнением.
Для развития синтаксической типологии важна была сама идея о многообразии синтаксического строя языков и неуниверсальности номинативного строя. Важным было и противопоставление номинативного и эргативного строя, сохранившееся в отечественной и мировой лингвистике до настоящего времени (идеи об особом поссесивном строе были оставлены довольно скоро). Существенным был и отказ от свойственных типологам XIX в. представлений о жесткой принадлежности каждого языка к определенному типу: И. И. Мещанинов подчеркивал, что в конкретных языках могут существовать разные конструкции и не всегда ясно, какой строй преобладает.
Однако И. И. Мещанинов в данной книге пытался распределить выделенные им конструкции по стадиям. С его точки зрения, наиболее архаичны после инкорпоративных комплексов поссесивные конструкции, поскольку в последних «фраза тождественна или близка именной форме». Эргативная конструкция стадиально выше, поскольку в ней уже есть глагольная форма, но с точки зрения индоевропейской речи она «представляет по сравнению с нею несомненный стадиальный архаизм», так как «в эргативном построении получался разрыв между смысловым значением фразы и ее выражением в предложении… Глагол указывает на действующее лицо, тогда как само действующее лицо сохранило форму косвенного падежа». Стадиальный компонент концепции И. И. Мещанинова нельзя было доказать, и он оказался наиболее уязвим для критики.
Рассуждения об «архаизме» эргативной конструкции отражали и неполный отход И. И. Мещанинова от европоцентризма, с которым он все время старался бороться. Он сохранял в качестве универсальных традиционные понятия субъекта и предиката, считал, что в каждом языке, где есть глагол, он «указывает на действующее лицо». Однако сами понятия субъекта и предиката в традиционном объеме представляют собой перенос в область семантики синтаксических свойств соответственно подлежащего и сказуемого в языках номинативного строя. Отказавшись от традиционных попыток подгонять описание синтаксиса в любом языке под номинативную схему, И. И. Мещанинов еще не преодолел представление об этой схеме как о некотором эталоне, наиболее естественным образом связывающем форму с семантикой. Однако и такой неполный отказ от европоцентризма был шагом вперед для своего времени.
В связи с этим встает и другой вопрос, окончательно не разрешенный и в современной лингвистике: является ли, например, различие номинативного и эргативного строя чисто формальным или же здесь присутствуют различия в семантике или даже различия в языковом представлении о мире (признание последней точки зрения вовсе не обязательно означает принятия стадиальности: разные языковые картины мира могут рассматриваться и как равноправные). Ученые, развивавшие в отечественной науке традиции И. И. Мещанинова, как и (не вполне четко и последовательно) он сам, исходят из тесной связи такого рода различий в строе с семантикой. Однако такая точка зрения остается дискуссионной.
В книге «Члены предложения и части речи» И. И. Мещанинов продолжил изучение проблемы слова и предложения в разных языках, почти совсем отказавшись от стадиальных схем. В центре его внимания здесь — соотношение лексики и синтаксиса в смысле, указанном выше, прежде всего соотношение синтаксических классов — членов предложения с лексическими классами — частями речи. Эти два понятия тесно связаны: «Лексический состав языка различается по своему смысловому значению и семантика слова влияет на его использование в качестве того или иного члена предложения. Использование же слова в роли определенного члена предложения оказывает, в свою очередь, влияние на закрепление за словом особых формальных различий, выделяющих слова в самом лексическом составе в особые группы. Такие лексические группировки, характеризуемые и по семантике, и по формальной стороне, именуются частями речи». То есть части речи обязательно должны иметь какие-то формальные (прежде всего морфологические) признаки, по которым можно было бы судить об основной синтаксической функции слова. Такая функция может и не быть единственной: существительные специализированы на роли подлежащего, но могут быть дополнениями или определениями, глаголы специализированы на роли сказуемого, но могут играть и другие роли и т. д. Чтобы говорить, например, о существовании в языке глагола, надо найти в этом языке класс слов, обладающих тем или иным формальным признаком, выделяющим сказуемое. Сами эти признаки (грамматические категории, обладающие той или иной семантикой) однако не универсальны и в разных языках могут быть различны.
На основе данной концепции И. И. Мещанинов предложил классификацию способов выражения синтаксических отношений, встречающихсй в языках мира. Помимо традиционно выделяемых согласования, управления и примыкания рассматриваются и способы, ранее не включавшиеся в классификацию. В качестве одного из способов рассматривается и инкорпорация. В книге также сделана попытка рассмотрения систем частей речи в разноструктурных языках. Согласно И. И. Мещанинову, «основные принципы деления по частям речи» универсальны, но конкретные системы могут быть очень различны в разных языках или в том же самом языке на разных этапах исторического развития. «Даже выделение глагола не везде ясно в одинаковой степени. В одних языках глагол выделяется среди остального состава слов, в других — для такого выделения нет еще достаточных данных». Сравнение систем частей речи, как и сравнение типичных для тех или иных языков способов выражения синтаксических отношений, дает основание для классификации языков, которую строил И. И. Мещанинов.
Важное значение для своего времени имела выдвинутая в книге концепция понятийных категорий, в которой были развиты идеи датского лингвиста О. Есперсена. Это некоторые смысловые компоненты общего характера, которые, согласно И. И. Мещанинову, «не описываются при помощи языка, а выявляются в нем самом, в его лексике и грамматическом строе»; этими категориями «передаются в самом языке понятия, существующие в данной общественной среде». С одной стороны, понятийные категории не существуют вне языка и обязаны иметь какое-то языковое выражение. С другой стороны, это выражение может быть самым разнообразным и не только грамматическим, но и лексическим. К числу понятийных категорий относятся субъект и предикат, выявляемые в синтаксической структуре предложения, деление на мужчин и женщин, отражаемое в грамматической категории рода, и т. д.
Вопрос о понятийных категориях после книги И. И. Мещанинова вызвал дискуссии в отечественном языкознании. Противники этой концепции вполне справедливо отмечали нечеткость данного понятия, возможность понимания понятийных категорий просто как перенесенных в сферу семантики формальных категорий (например, субъекта как «семантического дублета» подлежащего). И все-таки для своего времени концепция понятийных категорий имела положительное значение. Многим направлениям лингвистики первой половины XX в. было свойственно сосредоточение внимания на языковой форме в ущерб семантике. А данная концепция была одной из первых, пусть еще несовершенных, попыток показать автономность семантики, наличия у нее своих закономерностей, отличных от формальных; важно было и акцентирование внимания на синонимии ряда лексических явлений с грамматическими, на выполнении лексикой и грамматикой в ряде случаев тех же или сходных функций.
В книге «Глагол» И. И. Мещанинов специально остановился на типологии признаков, выделяющих в языках мира эту важнейшую часть речи. Одна из основных тем книги — вопрос о выражении в языках мира традиционно выделявшихся в лингвистике глагольных категорий: лица, числа, времени, вида, наклонения, залога. Рассматривая материал разнообразных языков, ученый пришел к выводу о том, что эти категории, кроме залога, не универсальны. Им была опровергнута привычная для европейской лингвистики точка зрения, нашедшая выражение, например, в восходящем к Аристотелю и существующем даже в наши дни определении глагола как класса слов, выражающего идею времени. Могут быть языки без категории времени, без категории наклонения и т. д., что, разумеется, не означает, что соответствующие значения не могут быть выражены в том же языке лексически. Все основные книги И. И. Мещанинова сыграли роль в освобождении отечественной лингвистики от строгого следования европейским схемам, пусть освобождение от этих схем у него было неполным, а рассматриваемый им материал «экзотических» языков не всегда был достоверен.
В 30—40-е гг. идеи И. И. Мещанинова были очень влиятельны в советском языкознании, вокруг него сложилась научная школа. Среди ученых этой школы следует отметить Соломона Давидовича Кацнельсона (1907–1985), автора значительных работ по типологии и теории грамматики. После 1950 г. ученые мещаниновского направления вместе с Н. Я. Марром подверглись ожесточенной критике. Однако если марровские идеи после этого были окончательно оставлены, то данное направление со второй половины 50-х гг. продолжало развиваться. Помимо более поздних работ И. И. Мещанинова и С. Д. Кацнельсона оно выразилось в исследованиях лингвистов нового поколения, прежде всего Георгия Андреевича Климова (1928–1997). В его публикациях 60— 80-х гг. были развиты идеи о построении синтаксической типологии на семантической основе, в частности, в связи с фундаментальными различиями номинативного и эргативного строя.
Литература
Бернштейн С. И. Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского // Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
Хухуни Г. Т. Принципы описательного анализа в трудах А. М. Пешковского. Тбилиси, 1979.
Бархударов С. Г. Вступительная статья // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С. Л. В. Щерба — лингвист-теоретик и педагог. Л., 1982.
Иванов В. В. Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова // Вопросы языкознания, 1957, № 3.
Ларцев В. Г. Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988.
Н. Ф. Яковлев и советское языкознание. М., 1988.
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Николай Феофанович Яковлев, его жизнь и
• труды // Известия РАН, серия литературы и языка, 1994, № 4, № 5.
Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Критика лингвистического структурализмаПосле Первой мировой войны структурализм занял господствующее положение в теоретической лингвистике большинства стран Европы и Северной Америки. В его рамках работали и многие из ученых, прямо не заявлявших о своей принадлежности к структурализму, но тяготевших к выявлению системных отношений в синхронии (показательный пример — Московская фонологическая школа). Такая роль структурализма сохранялась до 50-х гг. XX в. включительно.
Это безусловно не значит, что все языковеды соглашались с основными постулатами структурного подхода. Речь сейчас не идет о концептуальных спорах между разными направлениями внутри структурализма (например, между пражцами и глоссематиками, пражцами и дескриптивистами), о которых говорилось выше. Немалое число ученых вообще считало структурный подход к языку неприемлемым.
Критику структурализма в дохомскианский период, в 20—50-е гг., можно подразделить на три направления. Самую многочисленную группу критиков составляли языковеды, стоявшие на старых, прежде всего младограмматических позициях и упрекавшие структуралистов в «антиисторизме» и «схематизации». Таких ученых было немало среди историков языков и компаративистов, хотя структурный подход постепенно проникал и в эти области. Иногда эти ученые справедливо отмечали неучет структуралистами тех или иных фактов, излишнюю схематизацию материала, игнорирование исключений из правил и пр., но в методологическом плане этими языковедами не было внесено ничего существенно нового по сравнению с младограмматиками. Особенно активно критика структурализма с позиций науки прошлого века велась в СССР после выступления И. В. Сталина по вопросам языкознания в 1950 г. (книги и статьи Ф. П. Филина и др.).
Особое место среди критиков структурализма занимали марристы. Отвергая одновременно как компаративистику, так и структурализм, они во многом критиковали обе научные парадигмы с позиций еще более старых концепций XVIII в. и первой половины XIX в., в которых основное место занимали недоказуемые гипотезы о происхождении языка и языковых стадиях. По ряду вопросов марристы в критике структурализма сближались с описанной выше группой, прежде всего они также считали обязательным свойством лингвистического исследования «историзм». Однако сам Н. Я. Марр главным своим противником считал сравнительно-историческое языкознание, а «описательные» синхронные исследования в отличие от компаративных в СССР никогда не запрещались, что оставляло возможность для развития структурных теорий.
Наконец, встречались и работы, в которых критика структурализма совмещалась с формулированием оригинальных концепций. Находясь вне магистрального пути развития мирового языкознания, они содержали оригинальные идей, которые впоследствии в том или ином виде оказались востребованы наукой. Мы отметим две такие работы: вышедшую в 1929 г. в Ленинграде книгу «Марксизм и философия языка» и появившуюся двенадцатью годами позже в Токио книгу М. Токиэда «Основы японского языкознания».
Лингвистические идеи книги «Марксизм и философия языка»Книга «Марксизм и философия языка» имела необычную судьбу во многих отношениях. После выхода она получила в основном отрицательные отзывы, а затем была прочно забыта. Однако в 1973 г. по инициативе Р. Якобсона она появилась в английском переводе и стала популярной на Западе, ее переводили на многие языки. У нас она не переиздавалась с 1930 до 1993 г., но в самое последнее время появились два ее новых издания и готовится третье.
Сложные проблемы связаны с авторством книги. Ее автором в первом издании обозначен Валентин Николаевич Волошинов (1894–1936). Это был ленинградский ученый широкого профиля, по преимуществу литературовед, к моменту выхода книги — аспирант Ленинградского института литератур и языков Запада и Востока, позднее вплоть до своей ранней смерти — доцент Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Однако в 60-е гг. стало известно, что к авторству книги имел отношение и друг В. Н. Волошинова, известный литературовед, автор популярных книг о Ф. М. Достоевском и Ф. Рабле Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975). Сейчас иногда книгу считают единоличным его сочинением и даже издают под его фамилией. Точное разграничение авторства вряд ли возможно, но все имеющиеся данные дают основание считать книгу сочинением двух авторов. В некоторых отношениях судьба книги схожа с судьбой одного из главных объектов ее критики — «Курса общей лингвистики», как известно, фактически написанного не одним Ф. де Соссюром. Отметим, что ни В. Н. Волошинов, ни М. М. Бахтин не были профессиональными лингвистами и данная книга для обоих — основная публикация по проблемам языка.
Книга состоит из трех частей: философско-методологической (там в основном сосредоточена и проблематика, связанная с марксизмом), историко-лингвистической и конкретно-лингвистической, посвященной проблеме несобственно-прямой речи. Позиция авторов по отношению к развитию мирового языкознания содержится в основном во второй части книги, о которой дальше и будет идти речь. В книге дается краткая история основных лингвистических направлений в европейской и отечественной науке. В отличие от аналогичных очерков, исходивших из структуралистского лагеря, где особенно противопоставлялись друг другу наука XIX в., прежде всего в младограмматическом варианте, и новая, структурная лингвистика (см. рассмотренные выше работы В. Брёндаля и В. Матезиуса), здесь выделяются два иных направления в науке о языке разных эпох, именуемые «индивидуалистическим субъективизмом» и «абстрактным объективизмом».
Первое направление в своих истоках возводится к романтизму, его основателем признается В. Гумбольдт, к нему отнесены, в частности, X. Штейнталь и школа К. Фосслера. Истоки второго направления, более древнего, авторы книги видят еще в античности, далее оно развивалось «на французской почве» (видимо, имеется в виду прямо не названная грамматика Пор-Рояля) и, наконец, получило законченное выражение у Ф. де Соссюра, Ш. Балли, И. А. Бодуэна де Куртенэ и др. Младограмматизм же расценивается как направление, имевшее «по отношению к двум разобранным направлениям, смешанный или компромиссный характер».
Если для В. Брёндаля или В. Матезиуса структурная лингвистика прежде всего отделялась от языкознания XIX в. преимущественным вниманием к синхронному, а не историческому исследованию, то в книге «Марксизм и философия языка» главное различие двух направлений видится в ином. «Индивидуалистический субъективизм», по мнению ее авторов, исходит из четырех следующих «основоположений»:
«1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания… осуществляемый индивидуальными речевыми актами;
2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологи-ческие законы;
3) творчество языка — осмысленное творчество, аналогичное художественному;
4) язык как готовый продукт… как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемым лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию».
А «основоположения» «абстрактного объективизма» определяются так:
«1) Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него.
2) Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.
3) Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.
4) Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют историческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу».
В целом здесь в суммарном виде прежде всего противопоставлены точки зрения К. Фосслера и Ф. де Соссюра (см. особенно конец пункта 4 в характеристике «абстрактного объективизма»: тезис о «чуждости друг другу» системы и истории языка многие соссюрианцы не поддерживали). Но в целом действительно здесь выделены многие существенные характеристики гумбольдтовской традиции, с одной стороны, и структурализма, с другой. Отмечены, в частности, подход к языку как к energeia и как к ergon; рассмотрение языка «изнутри», с учетом позиции носителя языка, и исключительно извне; изучение «индивидуальных актов говорения» и ограничение объекта исследования языком в соссюровском смысле.
Авторы книги «Марксизм и философия языка» до конца не солидаризируются ни с тем, ни с другим направлением, но главный объект их критики — «абстрактный объективизм» в его современном, соссюровском и послесоссюровском виде. Ни по одному из параметров он не оказывается более правым по сравнению с другим направлением.
«Абстрактный объективизм» возводится к «филологизму», который, по мнению авторов книги, «является неизбежной чертою всей европейской лингвистики, обусловленной историческими судьбами ее рождения и развития… Лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности». В связи с этим упоминаются Аристотель и александрийцы. Такое высказывание не вполне точно: как мы упоминали, александрийцы описывали склонение и спряжение не столько в языке Гомера, сколько в койне, тогда еще вполне живом языке. Однако далее помимо задачи толкования текстов на непонятном языке упоминается и другая: «Лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку». Подчеркивается, что две эти задачи, действительно игравшие первостепенную роль при формировании лингвистических традиций, были связаны с овладением «чужим языком»: мертвым языком письменных текстов либо престижным языком культуры, отличным от материнского (вспомним, что античная и арабская традиции развились именно тогда, когда соответственно греческим и арабским языками стали овладевать носители иных языков). Авторы книги несколько переоценивали роль «филологизма» (к тому же к XX в. в основном уже преодоленного) для «абстрактного объективизма», но верно оценивали другую черту, общую для европейской традиции и структурализма: ориентацию на текст как на исходную данность, анализ как основной метод. Текст мог быть классическим памятником или множеством фраз, произнесенных информантом, но в любом случае — это некоторый объект, отделенный и от говорящего, и от самого лингвиста. Структурная лингвистика лишь четко сформулировала такой подход и очистила от традиционной непоследовательности.
Авторы книги подвергают сомнению саму объективность существования языка в соссюровском смысле: «Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка — продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения». Такой «продукт рефлексии» если и имеет какую-то ценность, то только для «расшифровывания чужого мертвого языка и научения ему». Но они не нужны ни носителю языка, ни ученому, ставящему задачу «понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении». Абстрактная языковая система «уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций».
По мнению авторов книги, из всего многообразия проблем, связанных с языком, «абстрактный объективизм» выделяет лишь одну проблему — «критерий правильности». Эта проблема имеет лишь педагогическое значение: данный критерий нужен, когда речь идет об обучении языку. Но «нормально критерий правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т. п. Язык в процессе его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения».
«Абстрактный объективизм» критикуется за многое: за неучет реальных процессов говорения и слушания, за вырывание языковых явлений из реального контекста, единственно важного для носителей языка, за неспособность оперировать более чем рамками отдельного предложения («построение же целого высказывания лингвистика предоставляет ведению других дисциплин — риторике и поэтике»), за отрыв языковой системы от процесса ее становления и т. д. Присутствует и традиционное для противников структурализма обвинение последнего в «неисторизме», хотя, как уже говорилось, перенос внимания на синхронию не считается в книге основополагающей чертой данного направления, а возможность строго синхронного подхода к речи в «Марксизме и философии языка» как раз допускается. В книге нет термина «семантика», однако подчеркивается особое внимание «абстрактного объективизма» к языковой форме, особенно звуковой, при неспособности изучать «идеологическое наполнение» языка. Если отвлечься от иных терминов, речь здесь идет об игнорировании семантики в структурализме.
По сути все обвинения в адрес «абстрактного объективизма» и прежде всего структурализма сводятся к одному большому: он не может ответить на многие вопросы, связанные с «человеческим фактором» в языке. И действительно, в рамках структурализма (как, впрочем, и предшествовавших ему направлений) не удавалось построить ни полноценной семантики, ни лингвистики речи, ни разработанной социолингвистической теории, ни методов анализа текста, ни многого другого. От некоторых задач (скажем, от социолингвистики) большинство структуралистов отвлекались сознательно, от других, как от семантики в европейском структурализме, не отказывались, но структурные методы объективно мало что могли здесь дать. В этом смысле критика В. Н. Волошинова — М. М. Бахтина была вполне серьезной.
Тем не менее их подход был несомненно максималистским. Сужение объекта исследования в структурализме дало возможность создать теорию оппозиций, дистрибуционный анализ и многое другое, без чего мы уже не можем представить себе лингвистику сейчас, какими бы устаревшими сейчас ни казались многие методологические положения структурализма. И ответить на те вопросы, которые ставила книга «Марксизм и философия языка», можно было лишь имея хоть какой-то ответ на вопрос «Как устроен язык?», на котором сосредоточились структуралисты. Кроме того, некоторые структуралисты выходили за рамки «абстрактного объективизма», достаточно назвать учение об актуализации у Ш. Балли, функциональный подход у пражцев. У В. Н. Волошинова — М. М. Бахтина верно отмечены многие недостатки структурного подхода к языку, но полное его отрицание или даже ограничение его применимости изучением мертвых языков не были продуктивными решениями.
«Индивидуалистический субъективизм» оценивается в книге гораздо выше: «Индивидуалистический субъективизм прав в том, что единичные высказывания являются действительною конкретною реальностью языка и что им принадлежит творческое значение в языке… Совершенно прав индивидуалистический субъективизм в том, что нельзя разрывать языковую форму и ее идеологическое наполнение. Всякое слово идеологично и всякое применение языка — связано с идеологическим изменением». Школа К. Фосслера вообще оценивается в книге намного выше соссюрианства, одно из главных ее преимуществ видится в том, что «школа Фосслера интересуется вопросами пограничными». Пограничные между лингвистикой и другими науками вопросы, исключавшиеся из ведения лингвистики структуралистами, особо интересовали авторов книги, как уже говорилось, не лингвистов по преимуществу. Эти пограничные вопросы, в частности, понятие темы высказывания и особенностей несобственно прямой речи, составляют основной предмет позитивной части книги.
«Индивидуалистический субъективизм» критикуется не за то, что это «субъективизм», а за то, что он «индивидуалистичен», что он «игнорирует и не понимает социальной природы высказывания и пытается вывести его из внутреннего мира говорящего». Также говорится и о стремлении обоих лингвистических направлений исходить из монологического высказывания, игнорируя диалог.
Книга «Марксизм и философия языка» появилась не ко времени. В 1929 г. у «абстрактного объективизма» еще много было резервов развития, тогда как школа К, Фосслера, на которую в книге возлагаются наибольшие надежды, скоро сошла на нет. Еще более четверти века задача разработки собственно лингвистических процедур языкового анализа оставалась приоритетной, обособление лингвистики от других наук было более важным, чем задача интеграции лингвистики с другими науками. Для решения многих вопросов, которые ставятся в книге, тогда еще не пришло время. И неудивительно, что многие такие вопросы в ней в большей степени ставятся, чем решаются. Также неудивительно, что книгу надолго забыли.
Однако после формирования генеративизма ее тематика стала вновь актуальной. Отказ от рассмотрения языка «в себе и для себя» и, если угодно, возврат к «индивидуалистическому субъективизму» у Н. Хомского дал возможность вновь обратиться и к «социальной природе высказывания» и к «речевому взаимодействию», долго не изучавшимся. Лингвистика текста, прагматика, изучение дискурса — все это имеет прямое отношение к проблематике книги. И о ней закономерно вспомнили.
Мотоки Токиэда. Школа языкового существованияДругое заслуживающее внимание выступление против структурализма появилось несколько позже в стране с совершенно иными традициями. Как уже говорилось, с конца XIX в. в Японии произошел синтез национальной лингвистической традиции с идеями европейского языкознания. При этом ввиду последовательно синхронного характера традиционной японской науки о языке там не нашли отзвука идеи исторической и особенно сравнительно-исторической лингвистики, зато очень быстро японские ученые освоили структурные методы изучения языка; как уже упоминалось, японский язык стал первым, на который перевели книгу Ф. де Соссюра. Идеи Ф. де Соссюра, Ш. Балли и др. повлияли на ряд японских ученых, из которых наиболее крупным был Синкити Хасимото (1882–1945).
Однако влияние структурализма вызвало критику со стороны ряда ученых в Японии, в том числе со стороны профессора Токийского университета Мотоки Токиэда (1900–1967). Это был видный специалист по общему и японскому языкознанию, автор изданных уже в послевоенные годы фундаментальных грамматик современного и старописьменного японских языков, работ по стилистике, социолингвистике, истории японского языкознания и др. Его основная работа по теории языка «Кокугогаку-гэнрон» («Основы японского языкознания») впервые была издана в 1941 г. и ввиду большой популярности многократно переиздавалась (в 1973 г. вышло уже двадцать восьмое ее издание). Фрагменты книги опубликованы в русском переводе в хрестоматии «Языкознание в Японии», М., 1983, с. 85—110.
М. Токиэда исходил из принципиального отличия объекта естественных наук от объекта лингвистики. Если в естественных науках «объект находится перед наблюдателем как отделенный от него предмет», то с языком это не так. Мы можем наблюдать лишь звуки и письменные знаки, но «конкретный языковой опыт приобретается только тогда, когда мы, услышав некоторые звуки, вспоминаем некоторый смысл или же выражаем некоторые идеи в звуках. Это же следует сказать и о письме». М. Токиэда подчеркивал, что язык — не материал для говорения, то есть — не абстрактная система, а субъективная деятельность, осуществляющая говорение, слушание, письмо и чтение. Этими идеями ученый перекликается с гумбольдтовской традицией, однако он постоянно указывал на свое следование японской лингвистической традиции XVII–XIX вв.
М. Токиэда считал, что «язык не существует… вне человека, который пытается его описать; он существует как духовный опыт самого наблюдателя». Это относится не только к его родному языку, но и к древнему и иностранному: везде исследователь может изучать лишь тот язык, который он знает и в который он вжился. Здесь он безусловно исходил из традиционного опыта японских ученых, почти исключительно занимавшихся толкованием древних текстов и описанием языка этих текстов.
М. Токиэда разграничивал две точки зрения на язык: позицию субъекта и позицию наблюдателя. Позиция субъекта — позиция носителя языка; помимо практической деятельности эта позиция предусматривает и определенное осознание языка: мы отделяем в языке правильное от ошибочного, красивое от некрасивого, престижное от непрестижного. Позиция наблюдателя связана с изучением, анализом, описанием языка. Подход к языку с двух позиций различен: литературный язык и диалекты могут быть равноценны с точки зрения наблюдателя, но они различаются по престижности для субъекта; варианты одной фонемы не осознаются и не различаются субъектом, но наблюдатель может обнаруживать тот факт, что они имеют фонетические различия. Разграничение двух позиций обнаруживает некоторое сходство с выделением двух точек зрения на язык у А. М. Пешковского.
В связи с различием двух позиций японский языковед пишет и о различии двух направлений в языкознании. В идеях Ф. де Соссюра он вполне справедливо увидел попытку последовательно описывать язык с позиции наблюдателя. Как и авторы книги «Марксизм и философия языка», М. Токиэда ставит под сомнение объективность существования языка в соссюровском смысле: «Нужно считать, что langue, выделенный Соссюром, не сам язык и не чисто психическое явление, а нейрофизиологический процесс… Если мы отвлеклись от предшествующего и последующего процесса, речь уже утратила языковые свойства. Таким образом, какую бы часть языка мы ни взяли, в ней нет ничего, что не было бы непрерывно возникающим процессом. Явления непрерывно возникающего процесса — это и есть язык. Естественнонаучный структуралистский анализ, игнорирующий свойства этих явлений, конструирует предметы, далекие от сущности изучаемых объектов. Концепция langue у Соссюра, таким образом, построена на ошибочных методологических основаниях». Согласно М. Токиэда, не существует ничего, кроме языковой деятельности, и нельзя считать объектом исследования некую систему, изолированную от этой деятельности. Подход, для которого, как в естественных науках, существует только позиция исследователя, по мнению М. Токиэда, не может быть оправдан.
Этому подходу противопоставлен другой, который, в частности, автор данной книги обнаруживает в традиционной японской науке о языке. Главный постулат этого подхода формулируется так: «Точка зрения наблюдателя возможна только тогда, когда имеет своей предпосылкой точку зрения субъекта». Далее М. Токиэда пишет: «Чтобы Б, находясь в позиции наблюдателя, мог иметь своим объектом язык лица А, он должен толковать его с позиции субъекта, вновь его субъективно пережить, а затем только перейти на позицию наблюдателя, следя при этом за своим собственным опытом». Главный и по существу единственный метод лингвистического исследования интроспекция (в описанном выше широком смысле, включая и вживание в чужой язык). К интроспекции могут быть добавлены разве что еще мало развитые непосредственные исследования языковых механизмов мозга, однако, например, описание языка с помощью информанта (прямо не упоминаемое в книге), согласно М. Токиэда, не научно.
Различие двух подходов М. Токиэда иллюстрирует на примере понятия фонемы. Структурализм рассматривает фонему как семью звуков или абстрактный звук; если же исходить из позиции субъекта, то фонемы «считаются понятийными звуками или признаками-указателями, разделяющими звуки языка». Выступая против структурализма Ф. де Соссюра и Ш. Балли (других структуралистов М. Токиэда, видимо, не знал; любопытно, что именно с этими же двумя учеными по преимуществу полемизируют и авторы книги «Марксизм и философия языка» японский языковед фактически здесь спорит не столько со структуралистами, сколько со сторонниками так называемого «физикалистского» подхода к фонеме, тогда как структуралисты (по крайней мере, большинство европейских) именно и подходили к фонемам с точки зрения смыслоразличения, то есть как к «понятийным звукам». Реально наиболее близкой концепция М. Токиэда оказывается к психологическим концепциям И. А. Бодуэна де Куртенэ и Б. Д. Поливанова.
Авторы книги «Марксизм и философия языка» и М. Токиэда (никогда не знавшие друг о друге) в чем-то исходят из прямо противоположных позиций: первые отрицают филологический, толковательный подход к языку, а М. Токиэда именно его считал основой научного языкознания (при широком понимании такого подхода, распространяя его и на современные устные тексты). Однако в критике структурализма они сходятся: они отвергают статичный подход к языку как к системе в отрыве от говорящего от него человека. В обеих книгах критикуется отход лингвистики XX в. от антропоцентризма, попытка рассматривать язык целиком со стороны как чисто объективное явление. Разница однако в том, что В. Н. Волошинов — М. М. Бахтин такую попытку считали исконным свойством науки о языке, исключая лишь гумбольдтовскую традицию, а М. Токиэда видел в этом отход от того, что исконно было заложено в лингвистической традиции прежних веков; пожалуй, последняя точка зрения исторически вернее.
М. Токиэда последовательно отстаивал подход к языку, который в американской лингвистике примерно тех же лет пренебрежительно назывался менталистским (кстати, в защиту ментализма выступали и японские структуралисты, далекие по взглядам от М. Токиэда; крайний антиментализм, связанный с отказом от семантики, не был принят в Японии, как и в большинстве европейских стран). Как и книга «Марксизм и философия языка», книга «Основы японского языкознания» выдвигала максималистскую программу, вообще отрицавшую ценность структурного подхода (при этом при конкретном анализе японского материала ее автор совсем не избегал использования ряда идей критикуемых им авторов, особенно Ш. Балли). Но очень примечательны такие слова М. Токиэда: «Многие наблюдатели намерены описывать язык объективно, но фактически своей неосознанной толковательной деятельностью они предварительно проходят через позицию субъекта; если же в теории этого не признают, правильное понимание толковательной деятельности теряет свое значение, а предпосылки языкового исследования часто оказываются искаженными». Такое искажение стало особенно заметным у лингвистов, пытавшихся довести до логического завершения «абстрактный объективизм», особенно у З. Харриса. Послехомскианская лингвистика пришла к реабилитации интроспекции как метода (см. особенно работы А. Вежбицкой), хотя, конечно, нельзя считать, что все в науке о языке основано только на ней.
Из выдвинутой М. Токиэдой концепции языка как процесса вытекает, что необходимым элементом лингвистического исследования должно быть изучение конкретных ситуаций и, следовательно, социальных и психологических характеристик, влияющих на речевую деятельность. Вполне закономерно, что из данной концепции, обогащенной идеями американской социологии и психологии (но не лингвистики!), выросла сформировавшаяся вскоре после войны школа языкового существования, занявшая в Японии 50—80-х гг. господствующее положение в языкознании; сам М. Токиэда принимал активное участие в разработке теоретических положении этой школы. Из всех ведущих школ мировой лингвистики японская школа языкового существования наиболее последовательно занимается лингвистикой речи в соссюровском смысле (хотя ей, разумеется, приходится опираться на уже существующие описания языковой системы).
Иногда школу языкового существования определяют как школу японской социолингвистики, но ее подход шире: она изучает любые условия функционирования речевой деятельности, прежде всего конкретную обстановку каждого речевого акта. Но, безусловно, в отличие от М. Токиэда теоретики языкового существования (М. Нисио, Т. Сибата и др.) более всего интересуются не психологическими, а социальными предпосылками речевой деятельности, в первую очередь характером коммуникации, типами общения между собеседниками, принятыми в обществе и обусловленными социальными причинами. С точки зрения данной школы слова, предложения и т. д. — лишь абстракции лингвиста, на деле существуют лишь устный или письменный текст и обстановка, в которой он производится или воспринимается. Отрывки из сочинений лингвистов школы языкового существования включены в упомянутую хрестоматию «Языкознание в Японии».
Указанное направление более всего известно массовыми обследованиями функционирования языка, охватывающими большое количество информантов. Получены данные о том, например, сколько в среднем слов произносит японец того или иного возраста, пола и социального положения, сколько времени в день он пишет, какова средняя длина произносимых им предложений и т. д. Собран большой и интересный фактический материал, хорошо разработана методика его сбора, но теоретическое осмысление полученных результатов часто оказывается недостаточным.
Литература
Алпатов В. М. Книга «Марксизм и философия языка» и теория языкознания // Вопросы языкознания, 1995, № 5.
Алпатов В. М. Предисловие // Языкознание в Японии. М., 1983.
Неверов С. В. Социально-языковая практика современной Японии. М., 1982 (книга посвящена школе языкового существования).
Французская лингвистика 40—60-х годов
Л. Теньер., Э. Бенвенист., А. МартинеФранция в течение всего XX в. продолжала и продолжает оставаться одним из ведущих центров мировой науки о языке. На развитие французской лингвистики сильное влияние оказали идеи Ф. де Соссюра и Ш. Балли, в то же время французские ученые выдвинули ряд оригинальных идей. Прежде всего следует отметить таких крупных ученых, как Л. Теньер, Э. Бенвенист и А. Мартине, расцвет деятельности которых пришелся уже на послевоенное время.
Старшим по возрасту из них был Люсьен Теньер (1893–1954). Как и Ф. де Соссюр, он был сравнительно мало известен при жизни и получил признание уже после смерти. Л. Теньер учился у А. Мейе и Ж. Вандриеса, слушал лекции К. Бругмана и А. Лескина. Однако он, как и многие другие лингвисты его поколения, принял основные постулаты структурализма и в основном занимался синхронными исследованиями. Главной областью его интересов была славистика: в частности, он много занимался русским языком. Среди его наиболее известных работ — «Малая грамматика русского языка» (1934) и посмертно изданный «Малый словарь русского языка». Л. Теньер несколько раз был в СССР и активно использовала в своих работах идеи отечественных языковедов. Несмотря на ряд прижизненных публикаций по общей лингвистике, Л. Теньер был в основном известен лишь как славист и работал в провинциальных университетах, не считавшихся крупными лингвистическими центрами: сначала в Страсбурге, потом в Монпелье. Его главный труд «Основы структурного синтаксиса» остался после его смерти в рукописи, и лишь в 1959 г. его удалось издать при участии Р. Якобсона. Но и после публикации книги она казалась многим стоящей в стороне от главных проблем современного языкознания. Однако о середины 60-х гг. «Основы структурного синтаксиса» приобрели значительную популярность, а проблематика книги оказалась очень актуальной. Труд Л. Теньера несколько раз переиздавался и был переведен на другие языки, в том числе в 1988 г. был издан русский перевод.
Книга Л. Теньера целиком посвящена теории синтаксиса. В целом до 50-х гг. XX в. синтаксис не принадлежал к наиболее развитым областям языкознания. Меньшая разработанность синтаксиса по сравнению с морфологией была свойственна европейской науке начиная с античности, а в раннем структурализме отставание синтаксиса стало еще заметнее: строгие исследовательские процедуры структурной лингвистики было легче вырабатывать на более простом и обозримом материале фонологии и морфологии. Поворот к синтаксису стал наблюдаться лишь к концу 50-х гг. (то есть после написания книги, но до ее публикации), прежде всего в позднем американском дескриптивизме (в частности, в ранних, «дореволюционных» работах Н. Хомского). Однако американский подход к синтаксису во многом отличался от теньеровского. Американские исследования тех лет еще характеризовались духом антиментализма и игнорирования семантики, основное внимание уделялось построению формальных схем. Господствующим подходом был анализ по непосредственно составляющим. Этот анализ основан на последовательном бинарном членении предложения на имеющие линейную протяженность компоненты — составляющие. Такой анализ был жестко ориентирован на языки со строгим порядком слов типа английского.
Подход Л. Теньера, казавшийся несовременным в годы популярности грамматик непосредственно составляющих, был принципиально иным. Французский лингвист не отказывался ни от семантики, ни от ментализма; в его книге постоянны ссылки на психологию говорящих. В «Основах структурного синтаксиса» много графических схем и «деревьев», но нет попыток построить какие-либо формализованные математические модели. Л. Теньера интересовала содержательная сторона дела.
Если многие лингвисты, в том числе и структуралисты, «растворяли» синтаксис в морфологии, то Л. Теньер старался изучать синтаксис последовательно с точки зрения его собственных закономерностей; наоборот, многие морфологические явления он рассматривает сквозь призму синтаксиса (такой подход им, возможно, был воспринят от некоторых русских лингвистов, в частности, А. А. Шахматова). Главное понятие синтаксиса, согласно Л. Теньеру, синтаксическая связь; с выделения этого понятия начинается книга: «Каждое слово предложения вступает с соседними словами в определенные связи, совокупность которых составляет костяк, или структуру, предложения. Эти связи ничем не выражаются. Но они необходимо обнаруживаются сознанием говорящих, без чего ни одно предложение не было бы понятным». Например, предложение Alfred parle «Альфред говорит» «состоит не из двух элементов: 1) Alfred и 2) parle, а из трех: 1) Alfred, 2) parle, 3) связь, которая их объединяет и без которой не было бы предложения… Построить предложение — значит вдохнуть жизнь в аморфную массу слов, установив между ними совокупность синтаксических связей. И обратно, понять предложение — значит уяснить себе совокупность связей, которые объединяют входящие в него слова».
Синтаксическая связь понимается Л. Теньером как отношение зависимости между словами. Для отечественной традиции такой подход кажется очевидным и чуть ли не единственно возможным. Однако иначе строится синтаксис непосредственно составляющих, отличный от синтаксиса Л. Теньера (часто именуемого синтаксисом зависимостей) в двух существенных отношениях. Во-первых, составляющие — не обязательно слова: предложение в наиболее обычном варианте синтаксиса непосредственно составляющих делится на группу подлежащего (подлежащее с его определениями) и группу сказуемого, куда входят наряду со сказуемым дополнения и обстоятельства вместе со всеми зависимыми от них членами; затем каждая из групп делится на части, также не обязательно равные словам, и т. д.; в качестве минимальных составляющих некоторые дескриптивисты выделяли даже не слова, а морфемы. Во-вторых, в отличие от американских лингвистов Л. Теньер строго разделял структурный и линейный порядок слов. «Структурный порядок слов — это порядок, в котором устанавливаются синтаксические связи»; данный порядок — это порядок от главного члена предложения к зависимому, он не обязан совпадать с линейным порядком. Для синтаксиса непосредственно составляющих несущественно, какая из составляющих главная, а какая — зависимая, но важен линейный порядок, поскольку составляющая должна быть (всегда или в качестве общего правила) непрерывной. Для языков со свободным порядком слов вроде русского синтаксис зависимостей, не смешивающий структурный порядок с линейным, оказывается рациональнее.
Для изображения в наглядном виде структурного порядка Л. Теньер предложил графический способ, в соответствии с которым каждая синтаксическая связь изображается линией, идущей от главного члена к зависимому. Такие схемы (стеммы) в западной лингвистике нередко называют «графами Теньера», однако сам французский ученый отмечал, что аналогичный способ изображения синтаксических структур давно применялся в советской учебной литературе. Действительно, в нашей стране он известен любому школьнику. Однако Л. Теньер связал данный способ наглядного представления синтаксических связей с научной теорией.
Разграничение двух видов порядка, согласно Л. Теньеру, имеет важное методологическое значение: «Говорить на данном языке — значит уметь преобразовывать структурный порядок в линейный. Соответственно понимать язык — это быть в состоянии преобразовывать линейный порядок в структурный… Именно усилие, которое приходится затратить на преодоление трудностей, возникающих при преобразовании структурного порядка в линейный, и лежат в основе „энергейи“, которую так тонко почувствовал В. Гумбольдт». Здесь, может быть, есть некоторая переоценка роли синтаксиса в процессах говорения и слушания, однако в этих словах есть немалая доля истины. Хотя процессы порождения и восприятия не сводятся к синтаксическим, но, скажем, морфологические структуры обычно функционируют в речи в виде готовых блоков, тогда как синтаксические играют при порождении и восприятии значительно более важную роль.
Синтаксическая связь, согласно Л. Теньеру, всегда определяет зависимость одного слова от другого. В связи с этим он отказался от традиционной трактовки предложения как структуры с двумя центрами: подлежащим и сказуемым. Центром обычного (не назывного) предложения он считал «глагольный узел», то есть сказуемое вместе с зависимыми от него членами предложения. Сказуемое Л. Теньер именовал «глаголом», такое неразличение морфологических и синтаксических понятий можно считать недостатком его концепции. Однако важно то, что ученый рассматривал сказуемое («глагол») как вершину предложения, а подлежащее — как один из зависимых от него членов. Такая точка зрения встречалась издавна, однако в первой половине XX в. была мало распространенной (исключая, может быть, Японию). Однако после публикации книги Л. Теньера она стала достаточно популярной, поскольку имеет немало аргументов в свою пользу, как формальных (особенно для языков, где нет согласования между подлежащим и сказуемым, а таких большинство), так и в первую очередь семантических. По поводу синтаксической семантики Л. Теньер пишет: «Глагольный узел… выражает своего рода маленькую драму. Действительно, как в какой-нибудь драме, в нем обязательно имеется действие, а чаще всего также действующие лица и обстоятельства». На уровне же структурного синтаксиса действию, «актерам» и обстоятельствам соответствуют сказуемое («глагол»), актанты и сирконстанты. Актанты и сирконстанты непосредственно подчинены глаголу, актанты — существительные или их эквиваленты, сирконстанты — наречия или их эквиваленты. Подлежащее — лишь наиболее важный (первый) актант. Несмотря на некоторое смешение синтаксической и морфологической терминологии, а также синтаксиса и семантики, Л. Теньер предложил четкую концепцию, позволяющую единым образом описывать синтаксические структуры языков различного строя, связывая эти структуры с семантическими.
Разные глаголы присоединяют к себе разное число актантов. Число актантов, которыми глагол способен управлять, Л. Теньер по аналогии с химией назвал валентностью глагола. Выделяются глаголы нуль-валентные, одновалентные, двухвалентные, трехвалентные. При этом даже при одинаковой валентности характер актантов может быть различным, в связи с этим вводится понятие диатезы. Как пишет Л. Теньер, «если действие подразумевает наличие двух актантов, мы можем рассматривать его по-разному, в зависимости… от направления, в котором оно переходит от одного актанта к другому». Диатезой в книге именуется способ такого рассмотрения: для двухактантных (двухвалентных) глаголов выделяются активная, пассивная, возвратная, взаимная диатезы. При активной диатезе действие распространяется от первого актанта ко второму, при пассивной — от второго к первому, при возвратной — первый актант одновременно является вторым, при взаимной — каждый из актантов одновременно играет активную и пассивную роль. Различные диатезы могут быть выделены и для трехвалентных глаголов, где, в частности, выделяется особая каузативная диатеза, где помимо деятеля и объекта действия еще имеется инициатор действия, соответствующий первому актанту (глаголы типа кормить). Каузативная диатеза может быть и у двухвалентных глаголов, где есть лишь деятель и инициатор (глаголы типа катить). Понятие диатезы представляет собой обобщение традиционного понятия залога.
Недостаток концепции Л. Теньера состоял в нечетком разграничении синтаксиса и семантики, понятие актанта оказывалось недифференцированным. Позднее лингвисты, развивавшие идеи Л. Теньера (А. А. Холодович в СССР и др.), стали разграничивать семантические актанты (участники действия, играющие те или иные роли) и синтаксические актанты (соответствующие члены предложения). При таком понимании диатеза определяется как тип соответствия между семантическими и синтаксическими актантами. Другим развитием данной концепции является известная концепция падежной грамматики Ч. Филлмора (США), где дается детальная классификация семантических ролей, имеющих то или иное выражение в структуре предложения.
Наряду с выделением наиболее простых синтаксических структур (глагол с актантами и сирконстантами) в книге Л. Теньера рассматриваются явления, усложняющие структуру предложения: юнкции (сочинительные конструкции) и трансляции, при которых один элемент предложения превращается в другой. Понятие трансляции определяется очень широко. Сюда относится как преобразование слов из одной части речи в другую, так и использование слов в «нетипичной» для них синтаксической роли, например, существительного в позиции определения. Особо рассматриваются случаи неполной трансляции, при которой преобразованное слово сохраняет некоторые исходные синтаксические свойства, например, причастие, функционирующее как прилагательное, но не потерявшее в ряде языков некоторых глагольных свойств.
Хотя богатый иллюстративный материал книги Л. Теньера в основном взят из французского и других европейских языков, в ней затрагиваются и типологические проблемы. Главным параметром для синтаксической типологии Л. Теньер предлагал считать соотношение между структурным и линейным порядком слов. Выделяются центростремительные языки, для которых характерно положение зависимого слова перед главным, и центробежные языки, где зависимое слово располагается преимущественно после главного. Помимо этого выделяются «строгие» языки, где тот или иной тип проводится последовательно, и «умеренные» языки, где можно говорить лишь о тенденции к центростремительности и центробежности. Строго центробежны семитские языки, языки банту, австронезийские, умеренно центробежны романские и кельтские, умеренно центростремительны славянские, германские, китайский, строго центростремительны уральские, алтайские, дравидийские. Помимо типологии в книге неоднократно проводится сопоставительный анализ того, как в разных языках выражается то или иное смысловое задание.
Книга Л. Теньера, по достоинству оцененная лишь в 60-е гг., стала одним из самых крупных исследований по структурному синтаксису, долго менее развитому по сравнению со структурной фонологией и структурной морфологией. Многие предложенные французским ученым термины («актант», «валентность», «диатеза» и др.) прочно вошли в научный оборот, а многие его идеи, часто разработанные в книге еще недостаточно четко, были в дальнейшем развиты учеными разных школ. Среди последователей Л. Теньера особо надо назвать представителей так называемой ленинградской синтаксической школы в нашей стране, созданной в 60-е гг. видным японистом, кореистом и теоретиком синтаксиса Александром Алексеевичем Холодовичем (1906–1977).
Другим крупнейшим французским структуралистом был Эмиль Бенвенист (1902–1976). Это был ученый весьма широкого кругозора и спектра интересов, занимавшийся синхронией и диахронией, лингвистической теорией и анализом конкретных языков. В отличие от не слишком известного при жизни Л. Теньера Э. Бенвенист был широко известен и популярен, после А. Мейе и Ж. Вандриеса он был признанным главой французской лингвистики, он также долгое время занимал пост секретаря Парижского лингвистического общества. В то же время он не создал влиятельной научной школы и занимал обособленное место в лингвистике своего времени, до конца не примыкая ни к одному из основных направлений структурализма.
Ученик А. Мейе, Э. Бенвенист более всего занимался индоевропеистикой. Здесь он старался синтезировать традиции науки XIX в. с идеями структурализма. Во всех компаративных работах он стремился к системному анализу. Среди его исследований такого рода более всего известны работы по исторической семантике и этимологии, где Э. Бенвенист пытался реконструировать фрагменты картин мира древних индоевропейских народов. Из его многочисленных публикаций на эту тему особенно известен изданный в 1970 г. двухтомный труд «Словарь индоевропейских социальных терминов». Немало у Э. Бенвениста и работ по конкретным индоевропейским языкам и группам языков, особенно по иранским и индоарийским. Ряд компаративных и исторических работ ученого, в том числе книги «Индоевропейское именное словообразование» и «Очерки по осетинскому языку», переведен на русский язык. Много занимался Э. Бенвенист и историей языкознания, анализ становления и развития тех или иных концепций и понятий занимает большое место и в его работах общетеоретического характера.
Если в области индоевропеистики ученому принадлежит более десятка книг, то по общему языкознанию он публиковал лишь сравнительно краткие статьи, в большинстве вошедшие в изданный в 1966 г. сборник. Многие статьи сборника вместе с некоторыми публикациями по индоевропеистике составили книгу, изданную в 1974 г., незадолго до смерти автора, по-русски под названием «Общая лингвистика». Э. Бенвенист никогда не стремился создать какую-либо цельную и всеобъемлющую лингвистическую теорию или даже теорию какого-либо из языковых ярусов (как это делал Л. Теньер для синтаксиса). В своих статьях он ограничивался анализом отдельных, однако всегда очень важных и значительных проблем.
Как и другие французские структуралисты, Э. Бенвенист находился под значительным влиянием идей Ф. де Соссюра. В своей речи, произнесенной в Женевском университете по случаю 50-летия со дня смерти автора «Курса общей лингвистики», Э. Бенвенист говорил о нем: «Ныне нет лингвиста, который не был бы хоть чем-то ему обязан. Нет такой общей теории, которая не упоминала бы его имени». Подчеркивая то, что идеи Ф. де Соссюра сохраняют актуальность и спустя полвека, французский ученый в то же время отмечал: «Сегодня мы воспринимаем Соссюра совсем иначе, чем современники». Именно благодаря Ф. де Соссюру, по мнению Э. Бенвениста, «лингвистика стала фундаментальной наукой среди наук о человеке и обществе, одной из самых активных как в теоретических изысканиях, так и в развитии метода». Естественно, при этом Э. Бенвенист давал собственную интерпретацию соссюровского наследия, особо выделяя в нем в качестве главной идеи и центрального пункта принцип дуализма: «Язык, с какой бы точки зрения он ни изучался, всегда есть объект двойственный, состоящий из двух сторон, из которых одна существует лишь в силу существования другой». Перечисляются дуализмы такого рода у Ф. де Соссюра, среди которых дуализмы артикуляторно-акустический, звука и значения, индивида и общества, языка и речи, материального и несубстанционального, парадигматики и синтагматики, тождества и противопоставления, синхронического и диахронического и т. д.
Выводя всю современную лингвистику из Ф. де Соссюра (в юбилейной речи лишь вскользь упомянуты И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. В. Крушевский), Э. Бенвенист отмечал нечеткость и неразработанность ряда соссюровских положений, стараясь преодолеть эти недостатки. В ранней (1939) статье «Природа языкового знака» (единственный текст Э. Бенвениста, включенный в хрестоматию В. А. Звегинцева) он анализировал тезис о произвольности знака. Не отвергая, разумеется, этот тезис, Э. Бенвенист уточняет его, поскольку у Ф. де Соссюра он сформулирован недостаточно строго: «Присущая языку случайность проявляется в наименовании как звуковом символе реальности и затрагивает отношение этого символа к реальности. Но первичный элемент системы — знак — содержит означающее и означаемое, соединение между которыми следует признать необходимым, поскольку, существуя друг через друга, они совпадают в одной субстанции. Понимаемый таким образом абсолютный характер языкового знака требует в свою очередь диалектической необходимости постоянного противопоставления значимостей и составляет структурный принцип языка». То есть знак произволен с точки зрения именования внеязыковой действительности, но отношение между двумя сторонами знака и между знаками в системе никак не произвольно.
Говоря о последующем развитии структурной лингвистики, Э. Бенвенист достаточно критически относился как к глоссематике, так и к дескриптивизму. Не без оснований он отмечал, что глоссематика «представляет собой скорее построение логической „модели“ языка и свод определений, чем средство исследования языковой действительности». С дескриптивной лингвистикой Э. Бенвенист вполне соглашался в одном существенном пункте, говоря о необходимости отвергнуть «все априорные взгляды на язык» и исходить «непосредственно из своего объекта». Как и Л. Блумфилд, он отвергал всякую зависимость лингвистики от истории или психологии; единственным «образцом для подражания», согласно Э. Бенвенисту, могут быть математика и другие дедуктивные науки. Однако французский лингвист считал недостаточным свойственное дескриптивистам стремление ограничить исследование процедурами сегментации и дистрибуционного анализа. При таком подходе «лингвист занимается, по существу, только речью, которую он молчаливо приравнивает к языку… Схемы дистрибуции, как бы строго они ни были установлены, не образуют структуры. Здесь нам дается, по существу, лишь метод записи и членения материала, применяемый к языку, который представлен рядом устных текстов и семантики которого лингвист, как предполагается, не знает… Сегментация высказывания на дискретные элементы ведет к анализу языка не более, чем сегментация вселенной ведет к созданию теории физического мира… Возможны различные типы описания и различные типы формализации, но все они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, язык, наделен значением, что именно благодаря этому он и есть структура и что это — основное условие функционирования языка среди других знаковых систем». При дескриптивистском подходе нельзя ни понять развитие языковых систем, ни «сотрудничать с другими науками, изучающими человека и культуру».
Таким образом, наряду с требованием изучать язык строго в лингвистических категориях Э. Бенвенист не мог не выдвигать и идею о сотрудничестве лингвистики с гуманитарными науками. Последняя идея в послевоенные годы приобретала все более важное значение. Э. Бенвенист считал важной и психологическую значимость понятий структурной лингвистики: «Было экспериментально показано, что фонемы, то есть различительные звуки языка, представляют собой психологическую реальность и говорящий без труда может осознать их, ибо, воспринимая звуки, он в действительности идентифицирует фонемы». В связи с этим к древнейшим предшественникам структурной лингвистики он наряду с Панини относил и создателей алфавитных письменностей — «стихийных фонологов», чьи имена в большинстве не дошли до нас.
В целом взгляды Э. Бенвениста ближе к пражской школе, в частности, для него также важно понятие функции: «Форма получает характер структуры именно потому, что все компоненты целого выполняют ту или иную функцию»; «Языковая форма — не единственное, что подлежит анализу: необходимо параллельно рассматривать и функцию языка». Сопоставляя процедуры анализа у дескриптивистов и пражцев, Э. Бенвенист отмечает при некоторых сходствах и различия, которые оценивает в пользу пражцев: «Понятия равновесия системы и тенденций системы, которые Трубецкой добавил к понятию структуры… доказали свою плодотворность».
В ряде случаев идеи Э. Бенвениста имеют переклички с идеями Э. Сепира при том, что последнее имя не упоминается им. В связи с вопросом о функции в языке и о связи языка и общества Э. Бенвенист писал: «Язык представляет собой наивысшую форму способности, неотъемлемой от самой сущности человека, — способности к символизации». Под такой способностью понимается «способность представлять объективную действительность с помощью „знака“ и понимать „знак“ как представителя объективной действительности и, следовательно, способность устанавливать отношение „значения“ между какой-то одной и какой-то другой вещью». Ср. идеи Э. Сепира о символизации опыта как важнейшей функции языка. Символизация связывает язык с культурой, которая, являясь человеческой средой, в то же время представляет собой «мир символов, объединенных в специфическую структуру, которую язык выявляет во внешних формах и передает».
Проблема символизации подводила Э. Бенвениста к редко привлекавшей структуралистов проблеме языка и мышления. Этому вопросу посвящена одна из наиболее интересных его статей «Категории мысли и категории языка» (1958). Здесь ученый стремился рассмотреть старую проблему на основе опыта, накопленного структурной лингвистикой.
Э. Бенвенист подчеркивал, что «мыслительные операции независимо от того, носят ли они абстрактный или конкретный характер, всегда получают выражение в языке… Содержание должно пройти через язык, обретя в нем определенные рамки. В противном случае мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как „содержание“, отличное от той формы, которую придает ей язык. Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику». Итак, распространенная и в XIX в. точка зрения о невозможности мышления без языка получает у Э. Бенвениста достаточно последовательное выражение.
В то же время, согласно Э. Бенвенисту, отношения мысли и языка не симметричны и язык нельзя считать лишь формой мысли. Если язык может быть описан вне всякой связи с мышлением, то мышление нельзя описать в отрыве от языка. В связи с этим автор статьи спорит с многовековой традицией, идущей от Аристотеля, согласно которой мышление первично относительно языка, поскольку оно обладает общими, универсальными категориями, отличными от специфических для каждого отдельного языка языковых категорий. К числу таких категорий со времен Аристотеля относили субстанцию, количество, время и т. д.
Для опровержения такой точки зрения Э. Бенвенист разбирает особенности подхода Аристотеля и показывает, что все эти категории так или иначе оказываются категориями древнегреческого языка, на котором писал философ и который только он и учитывал. В системе общих аристотелевских категорий находят отражение система частей речи этого языка (различие имен, в том числе прилагательных, глаголов, наречий), набор грамматических категорий (залог, время), существование особых языковых единиц, в частности, глагола бытия, выполняющего также функцию связки. Как показывает Э. Бенвенист и в других своих публикациях, логика Аристотеля представляет собой упрощенный древнегреческий синтаксис. Разумеется, Э. Бенвенист не считает все эти явления специфическими лишь для древнегреческого языка. Он отмечает общеиндоевропейский характер многих из них, в результате чего данные категории, как правило, есть и во французском языке, отдаленно родственном древнегреческому. Однако эти категории вовсе не обязаны иметь место во всех языках. В связи с этим приводится пример из языка эве (Западная Африка, современные Того и Бенин), где привычному для европейца единому глаголу бытия соответствует пять совершенно различных глаголов.
Итак, «многообразие функций глагола „быть“ в греческом языке представляет собой особенность индоевропейских языков, а вовсе не универсальное свойство или обязательное условие для каждого языка». То же, по мнению Э. Бенвениста, относится и к другим «общим категориям». Тем самым нет категорий мышления, а есть лишь категории языка, которые, разумеется, могут быть более или менее распространенными, но нет оснований, по мнению Э. Бенвениста, считать какие-то из них эталонными. Поэтому равно неверно считать и что мысль независима от языка, используя последний лишь как свое орудие, и что в системе языка присутствует «слепок с какой-то „логики“, будто бы внутренне присущей мышлению».
Разумеется, Э. Бенвенист не отрицает роль мысли в познании и освоении внешнего мира. Он пишет: «Неоспоримо, что в процессе научного познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры… Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка. Но возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности, поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка». Тем самым Э. Бенвенист различает две разные вещи: способность человеческой мысли познавать действительность с достаточной степенью адекватности и отмеченное еще В. фон Гумбольдтом влияние родного языка на познание мира, в том числе на его категоризацию. Сейчас в связи с этим разграничивают научную картину мира, выразимую на любом языке (по крайней мере, потенциально), и так называемую наивную картину мира, закрепленную в языке. Безусловно, разделить эти две картины и отграничить общие закономерности мышления от особенностей, связанных с тем или иным языком, крайне сложно; наука не имеет для этого достаточно разработанной теории. Данная проблематика также связывает Э. Бенвениста с Э. Сепиром.
Как ни относиться к проблематике, связанной с языковыми картинами мира, которую Э. Бенвенист затрагивал вслед за В. фон Гумбольдтом, Э. Сепиром и Б. Уорфом, нельзя не отметить важность поднятого им вопроса о степени универсальности привычных для нас грамматических и семантических категорий. Традиционный европоцентризм, стремление считать языковыми универсалиями типологические особенности языков Европы были естественны, пока другие языки были изучены слишком мало, см., например, позицию авторов «Грамматики Пор-Рояля». Однако расширение эмпирической базы науки о языке заставляет скептически относиться не только к идеям об универсальности категории времени для глагольной морфологии или категории подлежащего для синтаксиса, но и к концепциям универсальных семантических («логических», «понятийных») категорий, отражаемых в каждом языке. Из этого однако не следует, что вообще никаких семантических универсалий не существует. Поиск таких универсалий начал активно развиваться примерно в те же годы, в какие Э. Бенвенист писал данную статью; см. раздел о Р. Якобсоне.
В связи с этим в статье «Новые тенденции в общей лингвистике» Э. Бенвенист наряду с развитием лингвистической теории отметил и еще одну важную особенность языкознания XX в., нередко как бы остававшуюся в тени. Как пишет ученый, «горизонты лингвистики раздвинулись». Количество изученных языков резко возросло по сравнению с XIX в. Сам этот факт имеет большое значение для лингвистики: «Теперь уже не поддаются так легко, как прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка или типа языков в универсальные свойства языка вообще… Все типы языков приобрели равное право представлять человеческий язык. Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться „первоначальными“… Индоевропейский тип языков отнюдь не представляется больше нормой, но, напротив, является скорее исключением». Когда «горизонты раздвинулись», то ряд проблем вроде стадий или разграничения «примитивных» и «развитых» языков просто потерял значение, некоторые проблемы перестали быть актуальными, например, происхождение языка, поскольку стало ясно, что ни один существующий язык не может дать об этом никакой информации. А такие проблемы, как языковые универсалии, типология, методы описания языков, встали после расширения эмпирической базы исследований принципиально по-иному.
И, как указывал Э. Бенвенист, «лингвистика имеет два объекта: она является наукой о языке и наукой о языках. Это различение, которое не всегда соблюдают, необходимо: язык как человеческая способность, как универсальная и неизменная характеристика человека, не то же самое, что отдельные, постоянно изменяющиеся языки, в которых она реализуется». Здесь Э. Бенвенист выдвигает важные идеи, близкие тем, которые до него выдвигал Г. О. Винокур. Французский ученый при этом вполне справедливо указывает, что большинство лингвистических работ посвящено языкам, однако «бесконечно разнообразные проблемы, связанные с отдельными языками, объединяются тем, что на определенной ступени обобщения всегда приводят к проблеме языка вообще».
Э. Бенвенист внес вклад в решение многих других теоретических проблем. В статье «Уровни лингвистического анализа» он выдвинул критерии, на основе которых следует разграничивать уровни (ярусы) языка и их описывать. Он занимался также проблемами теории синтаксиса, глагольных категорий, местоимений, отличия человеческого языка от «языков» животных и др. Идеи Э. Бенвениста продолжают оставаться актуальными и в наши дни.
Третий виднейший представитель французского структурализма — Андре Мартине (р. 1908). Этот ученый в течение многих лет возглавлял Институт лингвистики при Парижском университете (Сорбонне). После Э. Бенвениста он стал наиболее влиятельным и известным среди французских языковедов. За долгую жизнь он написал немало значительных работ, прежде всего по вопросам общего языкознания. Наиболее известны его книга «Принцип экономии в фонетических изменениях» (1955), первые шесть глав которой, содержащие изложение общей теории, изданы по-русски в 1960 г., и общетеоретический труд «Основы общей лингвистики» (1960), целиком переведенный на русский язык в третьем выпуске «Нового в лингвистике». Первая глава этого труда включена в хрестоматию В. А. Звегинцева.
Книга «Принцип экономии в фонетических изменениях» является одной из наиболее значительных в мировом структурализме работ по диахронии. Развивая идеи А. Сеше и Н. Трубецкого, А. Мартине решительно отказывался как от тезиса Ф. де Соссюра о несистемности диахронии, так и от точки зрения Л. Блумфилда, согласно которой «причины фонетических изменений неизвестны». Для А. Мартине диахронная лингвистика не должна ограничиваться описанием звуковых изменений, как это обычно делали младограмматики; необходимо объяснение этих изменений, выявление их причин. Здесь А. Мартине продолжал исследование проблематики, до него наиболее подробно рассматривавшейся в отечественном языкознании, прежде всего И. А. Бодуэном де Куртенэ и Е. Д. Поливановым. Но если последние интересовались и внутренними, и внешними причинами звуковых изменений, то А. Мартине лишь вскользь отмечает внешние причины (смену языка носителями, массовые заимствования) и сосредоточивает внимание на внутренних процессах, связанных, с преобразованием фонологических систем.
Как и Э. Бенвенист, А. Мартине достаточно скептически относится к выявлению «универсальных и не знающих исключений „законов“». Он претендует лишь на «обобщение определенного опыта», стремясь показать, как могут происходить системные изменения в том или ином языке. При этом он подчеркивает, во-первых, необходимость структурного подхода к звуковой стороне языка, без которого нельзя понять какие-либо диахронические закономерности, во-вторых, обязательность учета звуковой субстанции. А. Мартине всегда был против понимания фонемы как чисто оппозитивной сущности, выдвигавшегося глоссематиками; только принимая во внимание реальные акустические и/или артикуляторные признаки фонем, можно объяснить процесс изменения этих признаков, влекущий за собой изменение всей системы. Вслед за Р. Якобсоном А. Мартине выделил дифференциальные признаки фонем, отделяя их от признаков, не влияющих на фонемное выделение. В то же время А. Мартине спорил с Р. Якобсоном, жестко сводившим все фонологические оппозиции к двоичным. Действительно, для объяснения диахронических процессов во многих случаях целесообразнее выделять не два класса фонем, противопоставленных по одному признаку, а целые ряды, или «цепочки» фонем, в которых может происходить сдвиг в том или ином направлении.
В основу своей концепции А. Мартине кладет принцип языковой экономии, или, что то же самое, «принцип наименьшего усилия». Этот принцип до него выделял И. А. Бодуэн де Куртенэ, подробно его изучал Е. Д. Поливанов, идеи которого, возможно, были восприняты А. Мартине через Р. Якобсона. Однако французский лингвист понимает этот принцип максимально широко: «Можно считать, что языковая эволюция вообще определяется постоянным противоречием между присущими человеку потребностями общения и выражения и его стремлением свести к минимуму свою умственную и физическую деятельность. В плане слов и знаков каждый языковой коллектив в каждый момент находит определенное равновесие между потребностями выражения, для удовлетворения которых необходимо все большее число все более специальных и соответственно более редких единиц, и естественной инерцией, направленной на сохранение ограниченного числа более общих и чаще употребляющихся единиц. При этом инерция является постоянным элементом, и мы можем считать, что она не меняется. Напротив, потребности общения и выражения в различные эпохи различны, поэтому характер равновесия с течением времени изменяется. Расширение круга единиц может привести к большей затрате усилий, чем та, которую коллектив считает в данной ситуации оправданной. Такое расширение является неэкономичным и обязательно будет остановлено. С другой стороны, будет резко пресечено проявление чрезмерной инерции, наносящей ущерб законным интересам коллектива».
Развитие такого рода процессов А. Мартине показывает на примере фонологии. Каждая фонема реализуется в виде множества звуков, обладающих теми или иными дифференциальными признаками. Под давлением либо одного, либо другого из указанных выше факторов это множество звуков меняется, что может затронуть и дифференциальные признаки. При этом возможны «изменения, не затрагивающие системы», «изменения в отношениях между единицами», не меняющие количество фонем, но изменяющие систему в целом, и изменения, увеличивающие или уменьшающие число фонем. Изменения первого типа (например, приобретение всем рядом мягких согласных шипящей артикуляции при отсутствии каких-либо иных изменений) «в действительности встречаются крайне редко. Более того, в тех случаях, когда нам кажется, что мы обнаружили подобное изменение, более тщательный структурный анализ чаще всего показывает, что на самом деле причины рассматриваемого изменения кроются в системе». Обычно же изменения в артикуляции звуков приводят к той или иной перестройке системы. В книге подробно описываются процессы перестройки систем, появления новых фонем и исчезновения былых фонемных различий. Показано, как те или иные изменения могут быть обусловлены системным фактором. Например, нередко, если в системе образуется «пустое место», оно через какое-то время заполняется. При этом может происходить «цепочечный сдвиг», когда место исчезнувшей фонемы заполняется новой фонемой, образовавшейся из другого источника; новое «пустое место» в свою очередь заполняется чем-то третьим и т. д. Отметим, что многие из этих процессов до А. Мартине изучал Е. Д. Поливанов, см. его теорию конвергенций и дивергенций, выделение «цепочечного сдвига» на материале японских диалектов и др. Теоретические положения А. Мартине анализируются на материале разных языков Европы во второй, не переведенной на русский язык части книги.
Общетеоретические взгляды А. Мартине нашли полное отражение в книге «Основы общей лингвистики». Общий подход этого ученого до некоторой степени напоминает подход, свойственный в другую историческую эпоху А. Мейе: мы имеем не столько изложение каких-либо новых взглядов, сколько некоторое подведение итогов, выделение более или менее последовательной концепции, объединяющей идеи различного происхождения, очищенные от крайностей. При этом однако А. Мартине явно по-разному относится к разным направлениям структурализма. Всегда он решительно не принимал глоссематику, видя в ней лишь «умозрительные построения», которые «отличаются наибольшей независимостью по отношению к своему объекту»; не раз в своих публикациях он настаивал на том, что «теория Ельмслева — это башня из слоновой кости, ответом на которую может быть лишь построение новых башен из слоновой кости» (полемическая статья А. Мартине против Л. Ельмслева, написанная с большим блеском, опубликована в первом выпуске «Нового в лингвистике»). Далек А. Мартине и от дескриптивизма, особенно в его крайнем варианте. Он никогда не принимал ни общей для глоссематики и дескриптивизма тенденции к «изоляционизму» лингвистики, ни характерного для дескриптивизма отказа от рассмотрения значения. Французский лингвист (как и его старший коллега Э. Бенвенист) отвергал наиболее крайние проявления структурализма, в наибольшей степени рвавшие с традицией.
В концепции А. Мартине можно видеть те или иные черты, сближающие его, как и Э. Бенвениста, с рядом других направлений лингвистики первой половины XX в. Безусловно, многое у него идет непосредственно от Ф. де Соссюра, начиная с разграничения языка и речи. В отличие от Р. Якобсона он сохраняет даже принцип линейности означающего (выделяя, впрочем, нелинейные элементы языка: ударение, интонацию). В то же время его понимание языка и речи заметно отличается от соссюровского: «Речь представляет собой лишь конкретизацию языковой организации»; такая точка зрения близка той, которую высказывал один из пражцев Й. Коржинек. В связи с этим, критикуя идею, согласно которой язык и речь «обладают независимыми организациями», А. Мартине отрицает возможность создания особой лингвистики речи. Полностью сохраняется у него идущее от Ф. де Соссюра понимание языка как коллективного явления.
Во многом в книге А. Мартине можно видеть и продолжение традиций социологического подхода к языку, свойственного А. Мейе, Ж. Вандриесу и другим французским ученым первой половины XX в. Довольно скептически относясь к возможности познать свойства языка через изучение механизмов человеческого мозга, он считает более перспективным рассматривать язык «в качестве одного из общественных институтов». Подчеркивается, что именно это обусловливает разнообразие человеческих языков несмотря на универсальность ряда языковых свойств. Он пишет о языке, «идентичном в отношении своих функций, но находящем настолько различные проявления в разных человеческих коллективах, что его функционирование оказывается возможным лишь в пределах данной языковой общности».
Весьма значительное сходство можно видеть между взглядами А. Мартине и пражцев. Как и пражцы, он отмечал звуковой характер языка, отказываясь рассматривать язык как систему чистых отношений. Как и пражцы, он наряду со структурным подходом к языку выделял функциональный. Как и пражцы, он среди функций языка на первое место ставил коммуникативную: «Французский язык прежде всего есть инструмент, посредством которого осуществляется взаимопонимание среди людей, говорящих по-французски». Коммуникативная функция является и главной причиной языковых изменений (об этом А. Мартине писал и в другой своей книге). Также выделяются функция языка как «основания для мысли» и эстетическая функция. Вероятно, от Р. Якобсона идет у А. Мартине сопоставление языка с кодом, а речи с сообщением. Влияние пражцев видно у А. Мартине и в использовании им понятия оппозиции, разработанного Н. Трубецким, и в более конкретном подходе к выделению и классификации языковых единиц.
Как и Э. Бенвенист, А. Мартине затрагивал и проблематику, сближающую его с Э. Сепиром. Он активно спорит с «довольно наивной, но широко распространенной» концепцией, согласно которой любой язык является «номенклатурой», то есть перечнем слов, обозначающих те или иные фрагменты действительности; «по этой концепции различия в языках сводятся к различиям в обозначениях». Однако язык не есть средство обозначения заранее расчлененной действительности, он сам и членит действительность, причем разные языки делают это по-разному: «Фактически каждому языку соответствует своя особая организация данных опыта. Изучить чужой язык — не значит привесить новые ярлычки к знаковым объектам. Овладеть языком — значит научиться по-новому анализировать то, что составляет предмет языковой коммуникации». Таким образом, и А. Мартине рассматривает проблему языковой картины мира. Как и Э. Бенвенист, не отрицая общих свойств языка, он обращает главное внимание на особенности, несовпадающие признаки языков как в означаемом, так и в означающем. Такой акцент на языковых различиях, может быть, главная черта, сближающая А. Мартине с дескриптивистами, от которых он в целом далек.
Говоря об общих свойствах человеческого языка, А. Мартине стремится выделить некоторый единый, наиболее значимый признак, из которого могут быть выведены другие. Таким признаком он считает так называемое двойное членение языка. Сам термин «двойное членение», получивший широкую известность благодаря Р. Якобсону и А. Мартине, восходит к выдающемуся советскому финно-угроведу Д. В. Бубриху, выше упоминавшемуся в связи с языковым строительством; сама же проблематика, связанная с двойным членением, впервые начала исследоваться систематически И. А. Бодуэном де Куртенэ. Речь идет о том, что, во-первых, «любой результат общественного опыта» может быть последовательно расчленен на единицы, обладающие формой и значением, вплоть до морфемы; во-вторых, звуковая форма морфемы может быть далее расчленена на более мелкие незначимые единицы — фонемы. Отметим, впрочем, особую терминологию А. Мартине, получившую затем распространение во французской лингвистике: морфему в обычном смысле он называет «монемой», а термин «морфема» понимает более узко, относя к нему лишь грамматические морфемы, прежде всего аффиксы. Вне двойного членения лежат ударение и интонация.
На основе принципа двойного членения А. Мартине дает определение языка: «Любой язык есть орудие общения, посредством которого человеческий опыт подвергается делению, специфическому для данной общности, на единицы, наделенные смысловым содержанием и звуковым выражением, называемые монемами; это звуковое выражение членится в свою очередь на последовательные различительные единицы — фонемы, определенным числом которых характеризуется каждый язык и природа и взаимоотношения которых варьируются от языка к языку», Сам автор этого определения выделяет три его главных пункта: язык как орудие общения, его звуковой характер и двойное членение. Такое определение, разумеется, специфично для А. Мартине, однако оно в целом выделяет те свойства языка, на признании которых могло бы сойтись большинство направлений европейского структурализма (кроме, безусловно, глоссематики).
По мнению А. Мартине, который, как отмечалось выше, против выявления «универсальных и не знающих исключений „законов“», помимо данных трех пунктов и «не существует собственно звуковых явлений, которые не изменялись бы от языка к языку». Проблема универсалий при таком подходе фактически снимается с повестки дня.
Идеи Л. Теньера, Э. Бенвениста и А. Мартине безусловно оказали значительное влияние на развитие языкознания во Франции и в других странах. Особо следует отметить значение их работ, прежде всего «Основ структурного синтаксиса» Л. Теньера, для развития отечественной лингвистики 60—80-х гг.
Литература
Гак В. Г. Л. Теньер и его структурный синтаксис // Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
Звегинцев В. А. Структурная лингвистика и теория экономии А. Мартине // Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
Звегинцев В. А. Предисловие к книге А. Мартине «Основы общей лингвистики» // Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1965.
Ежи КуриловичК числу видных представителей лингвистического структурализма относится и такой своеобразный ученый, как польский языковед Ежи Курилович (1895–1978). Он не принадлежал ни к одному из ведущих направлений лингвистики XX в. и занимал особое место. Как и другие польские ученые его поколения, он находился под влиянием идей И. А. Бодуэна де Куртенэ, имел связи с Пражским лингвистическим кружком. С последним его сближал интерес к социальному фактору в языке, к изучению причин языковых изменений. Но в то же время Е. Курилович в отличие от других ученых Восточной Европы испытал влияние глоссематики, печатался в изданиях Копенгагенской школы.
Лингвистическая деятельность Е. Куриловича продолжалась более полувека (в основном в Польше, но в предвоенные и послевоенные годы он оказался на некоторое время в СССР и печатался в советских изданиях). Наиболее крупные по объему его работы посвящены сравнительно-историческому языкознанию. Он, в частности, занимался реконструкцией индоевропейского ударения; именно он подтвердил историческую реальность (хотя и не в полном объеме) ларингальной гипотезы Ф. де Соссюра. Есть у Е. Куриловича и работы по семитским языкам. В то же время он писал и по вопросам общей лингвистики. Его статьи теоретического характера собраны в книге, изданной в Польше в 1959 г., а затем в 1962 г. в СССР в русском переводе под названием «Очерки по лингвистике». Статья «Лингвистика и теория знака» из этой книги включена в хрестоматию В. А. Звегинцева.
С глоссематикой Е. Куриловича сближало, в частности, представление о построении лингвистики в качестве системы аксиом по образцу математики. В статье «Структура морфемы» (1938) он писал: «Современное языкознание, опираясь на замечательные традиции Бодуэна де Куртенэ и де Соссюра, пытается создать свою собственную аксиоматику, которая позволила бы исследователям механически сводить даже специальный с виду и детальный вопрос к элементарным понятиям и утверждениям, чтобы с самого начала и до конца работы ясно представлять себе и ее предпосылки и конечную цель». См. также в упомянутой статье «Лингвистика и теория знака» (1949) идеи о том, что семиология (теория знака) «должна занимать такое же место, какое занимает физика по отношению к естественным наукам. Различные теоремы лингвистики должны представлять собой результат применения семиологии к конкретному частному случаю знаковой системы — к человеческому языку». Аксиоматический подход к языку сближал Е. Куриловича и с К. Бюлером. В то же время Е. Курилович был вынужден признать, что «даже лингвистика… еще не имеет… отчетливой иерархии своих аксиом». Свести целиком науку о языке к системе аксиом и теорем, допускающей затем «механическое» применение к решению любой проблемы, как показало дальнейшее развитие лингвистики, невозможно. Однако попытки такого подхода к лингвистике не были бесплодны, показав границы применимости такого рода формальных методов.
Также сближал Е. Куриловича с глоссематикой постоянный интерес к проблеме общих свойств разных планов и уровней языка. В самых разных по тематике статьях сборника «Очерки по лингвистике» он затрагивал в разных аспектах проблему общих закономерностей фонологии и семантики, фонологии и грамматики. В статье «Лингвистика и теория знака» подчеркивается общность таких понятий, как противопоставление (оппозиция), нейтрализация, маркированность — немаркированность и др. Важно и указание на закон, который так формулируется Е. Куриловичем: «Чем уже сфера употребления, тем богаче содержание (смысл) понятия; чем шире употребление, тем беднее содержание понятия… Обобщение и специализация значения слова, суффикса и т. д. тесно связаны с расширением и сужением его употребления. Аналог этого закона существует и в звуковой системе». Приводится пример такого аналога: соотношение между глухими и звонкими в ряде языков (русском, польском, немецком). Глухость здесь — не положительное качество, а отсутствие звонкости, следовательно, содержание звонкого богаче, чем соответствующего глухого. В то же время в этих языках данное противопоставление нейтрализуется в конце слова, где могут быть лишь глухие, то есть «сфера употребления глухих превосходит сферу употребления звонких».
В той же статье подчеркивается, в частности, структурное сходство столь, казалось бы, разноплановых единиц, как слог и предложение: роль гласного в слоге сходна с ролью сказуемого в предложении, роль подлежащего — с ролью начальной группы согласных, классификации гласных и согласных аналогичны классификации слов по частям речи и т. д. В этой и других статьях проводятся параллели между фонемой, а также ее вариантами, и морфемой, а также ее вариантами, между словом и предложением.
В то же время Е. Курилович в отличие от глоссематиков не сводил язык целиком к системе чистых отношений, подчеркивая, в частности, особую роль социального фактора. В статье «Лингвистика и теория знака» он писал: «Социальный фактор, который с первого взгляда кажется внешним по отношению к системе языка, в действительности органически связан с ней. Расширение употребления знака внутри системы является лишь отражением расширения его употребления в языковом коллективе… Сфера употребления знака внутри системы соответствует сфере его употребления в языковом коллективе. Иначе говоря, чем обобщеннее (беднее) содержание знака, тем шире сфера его употребления говорящими; чем специальнее (богаче) содержание, тем уже сфера употребления не только внутреннего (= внутри системы), но и внешнего (в языковом коллективе)». См. также такое высказывание в статье «Структура морфемы»: «Факт произношения в польском языке а суженного может не играть смыслоразличительной роли, но он релевантен для общественной характеристики говорящего; со стороны же говорящего он может быть показателем равноправного, интимного отношения к собеседнику». Итак, Е. Курилович четко осознавал, что сосредоточение внимания лингвиста на смыслоразличительной роли фонем может быть необходимым на определенном этапе исследования, однако оно вовсе не дает исчерпывающего описания. Для полноценного функционирования языка в обществе играют роль не только дифференциальные признаки, но и многие другие.
Е. Курилович подчеркивал и роль социального фактора в языковой диахронии. В статье «О природе так называемых „аналогических“ процессов» (1949), рассмотрев механизм языковых изменений по аналогии, он пришел к следующему итоговому выводу: «Конкретная грамматическая система позволяет увидеть, какие „аналогические“ изменения в ней возможны… Однако лишь социальный фактор… определяет, осуществятся ли эти возможности и если да, то в какой мере… Изменения, предусмотренные „аналогией“… не являются необходимостью. Поскольку лингвистика вынуждена считаться с этими двумя различными факторами, она никогда не может предвидеть будущих изменений. Наряду с взаимозависимостью и иерархией языковых элементов внутри данной системы лингвистика имеет дело с исторической случайностью (в социальной структуре). И хотя общая лингвистика склоняется скорее к анализу системы как таковой, конкретные исторические проблемы могут решаться удовлетворительно лишь с учетом обоих факторов одновременно». В начале XX в. именно неспособность традиционной исторической лингвистики объяснить причины того, что тот или иной язык развивался именно так, а не иначе, послужила одной из причин перехода от сравнительно-исторического языкознания к структурализму. Однако и структурная лингвистика не смогла это сделать, на что четко указал польский ученый. Методами структурной лингвистики можно самое большее отсеять из множества потенциально возможных вариантов некоторые, абсолютно запрещаемые устройством системы. Выбор же между многими потенциально возможными вариантами развития обусловлен причинами, выяснение которых выходит за пределы внутренней лингвистики в терминологии Ф. де Соссюра. См., например, такой упоминаемый Е. Куриловичем фактор, как «движение от подражаемого говора к подражающему»: какой из говоров и диалектов окажется более престижным, какому начнут подражать носители других говоров и диалектов, изменяя свои системы, — этот вопрос определяется не внутриструктурными, а прежде всего социальными причинами.
Ежи Курилович не принадлежал к числу лингвистов, стремившихся к полному и связному изложению своей лингвистической теории.
Как пишет В. А. Звегинцев, «его теоретические статьи иногда производят впечатление этюдов, не имеющих общего значения». Однако все его работы, даже посвященные очень конкретным вопросам, тесно связаны с общими проблемами лингвистики, отражают четкую и продуманную концепцию, пусть не во всех пунктах изложенную. Свои теоретические положения Е. Курилович всегда подкреплял анализом фактического материала (не выходя, правда, почти никогда за пределы индоевропейских языков). Многие его идеи продолжают сохранять актуальность.
Роман ЯкобсонРоман (Роман Осипович) Якобсон (1896–1982) был одним из крупнейших лингвистов XX в. Уроженец России, он работал в различных странах, прежде всего в Чехословакии и США. В ранний период своей долгой деятельности он был одним из ведущих представителей Пражского лингвистического кружка, позднее в его трудах отразился новый этап развития структурализма, выявившийся после Второй мировой войны.
Р. О. Якобсон родился в Москве и жил здесь до 1920 г. Он окончил гимназию при Лазаревском институте восточных языков, а затем Московский университет, где его учителями были видные представители фортунатовской школы: Д. Н. Ушаков, H. Н. Дурново, М. Н. Петерсон. В студенческие годы он дружил с Н. Ф. Яковлевым, бывшим несколько старше, и со своим ровесником Г. О. Винокуром. Впоследствии при всех уточнениях и видоизменениях своих концепций Р. Якобсон подчеркивал принадлежность к Московской школе. Особо он выделял в связи с этим идеи Ф. Ф. Фортунатова о том, что язык — орудие для мышления и что «не только язык зависит от мышления, но и мышление, в свою очередь, зависит от языка». Интересы начинающего ученого не ограничивались лингвистикой. Вместе с Н. Ф. Яковлевым он занимался полевыми исследованиями фольклора и этнографии. Много он уже в те годы сделал в области изучения поэтического языка. В 1916 г. Р. О. Якобсон стал одним из основателей Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), где сотрудничал с Е. Д. Поливановым и начинавшими свою деятельность видными литературоведами Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым, В. Б. Шкловским. В связи с исследованиями по поэтике он сблизился с крупнейшими русскими поэтами той эпохи В. В. Маяковским и В. В. Хлебниковым. Первые его публикации в основном посвящены поэтике.
В 1920 г. Р. Якобсон уехал в Чехословакию, где прожил почти два десятилетия; до 30-х гг. он продолжал сохранять тесные связи со своими друзьями — литературоведами и лингвистами, оставшимися в СССР. В то же время он установил научные контакты с чешскими структуралистами и с Н. Трубецким; переписка Н. Трубецкого и Р. Якобсона, ныне опубликованная, показывает, как концепции двух крупных ученых развивались и менялись под влиянием друг друга. Р. Якобсон стал одним из основателей Пражского лингвистического кружка и одним из авторов его программных «Тезисов», рассматривавшихся выше. Его научные работы чехословацкого периода в основном посвящены фонологии, в том числе диахронной, структурной морфологии, теории языковых контактов и союзов, а также поэтическому языку. Особую известность получила его большая статья «К общему учению о падеже», изданная в 1936 г. (включена в однотомник его «Избранных работ» на русском языке). Здесь ученый на материале русской падежной системы применил к морфологии и грамматической семантике разработанный для фонологии теоретический аппарат пражской лингвистики, в частности, теорию оппозиций. В статье предпринята попытка выявить общие значения каждого из русских падежей и семантические признаки, на основе которых падежи противопоставлены друг другу.
В марте 1939 г. Чехия была оккупирована фашистской Германией. Р. Якобсон как еврей был вынужден перейти на нелегальное положение, а затем покинуть страну. После недолгого пребывания в скандинавских странах он в 1941 г. переехал в США, где прожил до конца жизни. Р. Якобсон работал в ведущих американских университетах и научно-исследовательских центрах: сначала в Колумбийском университете, затем с 1949 г. до выхода в отставку в 1967 г. — в Гарвардском, а с 1957 г. также в Массачусетском технологическом институте. Годы, которые ученый провел в США, характеризовались значительным увеличением интереса к СССР сначала как к союзнику по антигитлеровской коалиции, затем как к противнику в «холодной войне»; однако до 40-х гг. славистика в США была развита слабо. Р. Якобсон возглавил становление американской славистики и советологии, подготовил значительное количество специалистов. С 50-х гг. и до конца своих дней Р. Якобсон имел очень большой авторитет как в американской, так и в мировой науке и как славист, и как теоретик языкознания. Он сыграл значительную роль как в знакомстве американских лингвистов с европейской науке о языке, так и во введении в активный оборот мировой лингвистики идей русских и советских ученых. С конца 50-х гг. Р. Якобсон неоднократно бывал в СССР и много общался со своими советскими коллегами. У нас в разные годы было издано более тридцати его статей, а в 1985 г. вышел том его «Избранных работ». Все это однако лишь небольшая часть обширного наследия ученого.
В ранний период своей деятельности Р. Якобсон разделял основные положения пражской теории, совмещая структурный и функциональный подходы к языку. Как и другие пражцы, он был сторонником достаточно широкого подхода к языку, имевшего однако свои пределы. Например, он, как и большинство структуралистов 20—40-х гг., был решительным противником психологизма в лингвистике, в частности, в фонологии. В лекции, прочитанной в 1942 г., уже в США, он писал: «Наследие „психофонетики“, пусть в скрытой форме, но еще живо… Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем в сознании говорящего. Как это ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы, больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким образом, бьются над вопросом, ответ на который, естественно, выходит за рамки лингвистики».
В то же время пражская фонологическая концепция, разработанная прежде всего Н. Трубецким, была далее развита Р. Якобсоном. По собственным свидетельствам последнего, во многом концепция дифференциальных признаков была результатом его последних дискуссий с Н. Трубецким в 1937–1938 гг. Уже в 1938 г. Р. Якобсон успел доложить Пражскому кружку свои идеи о возможности сведения фонем к комбинациям двоичных различительных (дифференциальных) признаков. Окончательно концепция сформулирована в известной работе, изданной в 1952 г. и выполненной Р. Якобсоном в соавторстве с американским лингвистом (также выходцем из России) М. Халле и крупным шведским специалистом по акустике речи Г. Фантом; по-русски эта работа «Введение в анализ речи: Различительные признаки и их корреляты» издана в 1962 г. во втором выпуске сборника «Новое в лингвистике». Здесь последовательно каждая из известных в языках мира фонем трактуется как «пучок дифференциальных признаков» Каждый из этих признаков в системе того или иного языка противопоставляет одни фонемы другим (один и тот же признак может в одном языке противопоставлять фонемы, в другом нет, в последнем случае он оказывается не дифференциальным и, следовательно, не фонологичным). С одной стороны, концепция дифференциальных признаков стала реализацией идей Ф. де Соссюра об описании языка целиком через структурные свойства, через различия. С другой стороны, дифференциальные признаки — не чисто оппозитивные сущности, каждый из них имеет положительное акустическое значение (здесь важно было содействие в работе акустика Г. Фанта). Многие из выделенных признаков являются уточненными коррелятами традиционных звуковых признаков, давно известных (гласность — согласность, распавшаяся на два признака: гласность — негласность и согласность — несогласность; звонкость — глухость и др.), некоторые признаки однако менее очевидны. Сущность фонемы исчерпывается дифференциальными признаками, тогда как соответствующие фонемам реальные звуки обладают также рядом других признаков, которые однако не имеют отношения к фонологии.
В пределах данной концепции впервые для одного из ярусов языка была предложена универсальная система единообразного описания, не зависящего от особенностей конкретного языка. Система дифференциальных признаков в разных языках, разумеется, может не вполне совпадать, однако общий набор признаков один и тот же для всех языков мира, хотя какие-то из признаков могут в части языков отсутствовать. Дальнейшее привлечение ранее не известного материала может только добавить к известным примерно двум десяткам дифференциальных признаков какие-то новые. Аналогичные идеи Р. Якобсон старался распространить на другие ярусы языка, примером чему служит упомянутая выше статья о русских падежах, где строились дифференциальные признаки грамматического значения. Однако ввиду слишком сложной структуры построить сколько-нибудь универсальную систему дифференциальных признаков для морфологии или семантики не удалось.
Последующее развитие лингвистической теории заставило Р. Якобсона в ряде пунктов пересмотреть ряд теоретических постулатов, свойственных раннему структурализму и часто прямо восходящих к Ф. де Соссюру. В этом отношении важно выступление Р. Якобсона на первом международном симпозиуме «Знак и система языка» в Эрфурте (ГДР) в 1959 г. Данное выступление, как и рассматриваемые ниже статьи Р. Якобсона «Значение лингвистических универсалий для языкознания» и «Лингвистика и теория связи», включено в хрестоматию В. А. Звегинцева. Здесь ученый подверг пересмотру ряд положений Ф. де Соссюра, так или иначе принимавшихся структуралистами межвоенных, а иногда и первых послевоенных лет.
Р. Якобсон, в частности, отмечает неточность обоих выделенных Ф. де Соссюром основных свойств знака — произвольности и линейности. Говорить о произвольности нельзя ни в отношении значительного количества производных и сложных слов, где связь слов с общим корнем никак не произвольна, ни в связи с морфонологическим строением языковых единиц, поскольку правила распределения фонем в корнях и аффиксах разных типов далеко не произвольны. Наконец, и в отношении простых (корневых) слов (которые безусловно в первую очередь имел в виду Ф. де Соссюр) проблема не столь очевидна, как это казалось основателю структурализма, а вопрос о звуковом символизме требует серьезного рассмотрения.
Другой же соссюровский принцип — линейности означаемого — вообще не может быть принят при концепции дифференциальных признаков: фонема — пучок признаков, выступающих одновременно; здесь Р. Якобсон предлагает аналогию с аккордами в музыке. Так же и выделенную Ф. де Соссюром синтагматику языка не следует понимать только как отношение элементов, расположенных во временной последовательности: можно говорить и о синтагматике одновременных элементов, в том числе тех же дифференциальных признаков фонем. Тем самым, по мнению Р. Якобсона, «целый ряд соссюровских положений об основных принципах строения языка утрачивает силу».
Р. Якобсон подверг критике и еоссюровское противопоставление синхронии и диахронии; здесь, впрочем, подобную точку зрения пражцы и близкие к ним лингвисты вроде Г. О. Винокура высказывали задолго до 1959 г. Р. Якобсон, суммируя данный подход, пишет: «Стало ясно, сколь опасна непроходимая пропасть между этими областями и как велика необходимость заполнить эту пропасть. Соссюровское отождествление противопоставления „синхрония — диахрония“ с противопоставлением „статика — динамика“ оказалось ошибочным, поскольку в действительности синхрония отнюдь не статична: изменения совершаются непрерывно и входят составной частью в синхронию. Действительная синхрония динамична; статичная синхрония — это абстракция, необходимая лингвисту для определенных целей, а согласованное с фактами, исчерпывающее синхронное описание должно последовательно учитывать его динамику. В течение некоторого отрезка времени оба элемента любого изменения — его исходная точка и его окончательная фаза — одновременно наличествуют в речи одного и того же языкового коллектива. Эти элементы сосуществуют как стилистические варианты».
В связи с этим Р. Якобсон делает важный вывод, далеко не сводящийся к проблеме сосуществования архаичных и «продвинутых» систем: «Представление о языке как о совершенно однородной, монолитной системе является слишком упрощенным. Язык — это система систем, общий код, включающий различные частные коды». Многие такие «частные коды» принято называть стилями. Пражцам и близким к ним ученым был свойствен интерес к лингвистической стилистике. Однако в 20—40-е гг. они скорее исходили из представления о единой системе языка, из которой в зависимости от функциональной установки отбираются те или иные единицы (так считал, например, Г. О. Винокур); но к 50—60-м гг. стили стали трактоваться в структурной лингвистике (не без влияния дескриптивизма) как особые системы, подъязыки некоторого языка, которые могут описываться самостоятельно.
В докладе ставятся еще два важнейших вопроса: об исследовании языковых значений и об учете в лингвистике позиций говорящего и слушающего. В большинстве направлений структурализма изучение значения оказывалось на заднем плане или даже отбрасывалось вообще (пражцам и советским структуралистам такая точка зрения была свойственна в наименьшей степени). Р. Якобсон призывал к должному учету значения: «Не только означающее, но и означаемое можно исследовать чисто лингвистическими, и притом совершенно объективными, методами». В связи с этим он в качестве такого объективного метода возлагал надежду на компонентный анализ, начало которого можно видеть в выделении сем у В. Скалички. Дальнейшее развитие такого рода методики привело к разложению не только грамматических, но и лексических единиц на семантические компоненты, см. пример, приводимый Р. Якобсоном: «петух — это самец курицы». При этом разложение лексической единицы на компоненты рассматривается Р. Якобсоном как перифразирование, изменение означающего при сохранении смыслового инварианта. Такой подход к семантике получил широкое распространение в 50—70-е гг., в том числе у ряда советских лингвистов. Однако выяснилось, что разные лексические единицы поддаются такому анализу в разной степени. В рамках структурализма полноценную теорию языкового значения так и не удалось построить.
Очень важны идеи Р. Якобсона, связанные с учетом позиций двух участников коммуникации: говорящего и слушающего. Данные проблемы в той или иной мере затрагивались многими лингвистами начиная с младограмматиков, прежде всего в связи с рассмотрением вопроса о причинах языковых изменений; особенно интересен был здесь подход Е. Д. Поливанова, учитывавшийся Р. Якобсоном. Однако большинство структуралистов исключили данную проблематику из рассмотрения как выходящую за рамки внутренней лингвистики. Теперь же Р. Якобсон вновь поставил этот вопрос с учетом сложившихся к 50-м гг. положений теории информации. Он пишет: «Две точки зрения — кодирующего и декодирующего, или, другими словами, роль отправителя и роль получателя сообщений должны быть совершенно отчетливо разграничены. Разумеется, это утверждение — банальность; однако именно о банальностях часто забывают. А между тем оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно по-разному». Р. Якобсон вспоминает в связи с этим методологический принцип дополнительности, сформулированный крупнейшим физиком XX в. Н. Бором (с которым они вели совместный семинар в Массачусетском технологическом институте).
Путь слушателя, как указывает Р. Якобсон, проходит от воспринимаемого текста к смыслу; «для воспринимающего речь характерен неосознанный статистический подход»: пониманию текста способствуют вероятностные характеристики. Говорящий идет обратным путем: от смысла к тексту. Для лингвиста важны оба пути, но недопустимо их смешение: «Так, например, когда лингвист выбирает в качестве исходной точки для своего описания и анализа языка кодирование и поэтому отказывается от статистики и теории вероятностей… то он не должен — если он действует последовательно — исключать значение. Значение можно исключить из рассмотрения, лишь встав на точку зрения декодирующего (слушающего), для которого значение возникает лишь в результате процесса декодирования. Для говорящего же значение является чем-то первичным». При этом, конечно, надо помнить, что вся европейская (в широком смысле) наука о языке от александрийцев до дескриптивистов стояла, как правило, на «точке зрения декодирующего», хотя мало кто исключал из рассмотрения значение; лингвистика, основанная на позиции говорящего, существовала к 1959 г. либо на уровне самой общей постановки проблемы (идеи Л. В. Щербы об «активной грамматике»), либо при рассмотрении некоторых отдельных вопросов, например, вопроса о причинах языковых изменений, где обращали внимание на «лень» именно говорящего. Однако с 60-х гг. моделирование «пути говорящего» получило в лингвистике значительное распространение. В частности, идеи данного выступления Р. Якобсона, несомненно, оказали влияние на создававшуюся в 60—70-е гг. в СССР «модель смысл <=> текст».
В работах Р. Якобсона послевоенных лет отразилось и развитие такого важного направления науки о языке, как лингвистика универсалий. Рассмотрим его опубликованную в 1963 г. статью «Значение лингвистических универсалий для языкознания».
Лингвистическая типология создавалась как дисциплина, изучающая различия между языками. Однако дальнейшее развитие языкознания все более подводило исследователей к проблеме общих языковых свойств. Об этом писал Э. Сепир, интересовались этой проблемой и пражцы. Однако в довоенные годы еще не хватало фактического материала, который стал к концу 50-х — началу 60-х гг. значительно богаче. Систематическое изучение общих свойств языков (универсалий) начала группа американских ученых во главе с Джозефом Гринбергом. В 1961 г. она провела в гарвардском университете конференцию по универсалиям, на которой выступил Р. Якобсон. Большинство докладов конференции издано по-русски в 1970 г. в виде пятого выпуска серии сборников «Новое в лингвистике».
В своем докладе Р. Якобсон отметил, что проблематика универсалий ставилась еще модистами в XIII в., но «лишь сегодня лингвистика имеет в своем распоряжении методологические предпосылки, необходимые для конструирования адекватной универсальной модели». В частности, для фонологии теория дифференциальных признаков как универсальная различительная система дает возможность выявлять не только различия, но и общие свойства языков мира. Универсалии выявлялись не только для фонологии, но и для других ярусов языка, более всего для морфологии и отчасти синтаксиса (прежде всего в области порядка слов), где не было (и нет до сих пор) столь разработанной общей системы описания. В этом случаи универсалии выделялись Дж. Гринбергом и др. целиком индуктивно, на основе просеивания материала по как можно большему числу языков. При этом выделялись безусловные универсалии, не имеющие исключений, и почти-универсалии, в отношении которых зафиксированы отдельные языки, составляющие исключения; те и другие универсалии могут быть неимпликативными (во всех или почти во всех языках существует некоторое явление) и импликативными (во всех или почти во всех языках если есть одно явление, то есть и другое).
Р. Якобсон указывал, что не следует переоценивать важность различия между безусловными универсалиями и почти-универсалиями: «Статистическое единообразие с вероятностью несколько меньшей, чем единица, не менее важно, чем единообразие, вероятность которого равна единице». Он также подчеркивал значение импликативных универсалий, представляющих собой «более богатый инвентарь» по сравнению с более простыми неимпликативными. Им также отмечено, что импликативные универсалии часто связаны с противопоставлениями маркированных и немаркированных членов: если в языке есть маркированный член противопоставления, то есть и немаркированный, но не наоборот.
Р. Якобсон считал, что помимо выделения морфологических, фонологических и пр. универсалий необходимо иметь дело «со всеобщими законами, управляющими отношениями между языковыми единицами различных уровней». Он с большим интересом относился к исследованиям Дж. Гринберга, выявлявшего связь между преобладающим в языке порядком слов и закономерностями его морфологической структуры. Р. Якобсон выдвигал и еще более общие идеи о закономерностях такого рода: «Если рассмотреть, например, фонему и слово в их единстве, то нетрудно прийти к выводу, что чем меньше число фонем и их комбинаций и чем короче слово (словесная модель) в данном языке, тем выше функциональная нагрузка фонем».
Особенно важна, как указывал Р. Якобсон, связь тех или иных универсалий с семантикой. В те годы некоторые из американских исследователей универсалий, прежне всего Уриэль Вайнрайх (1926–1967), стремились наряду с другими выделять и семантические универсалии. Речь шла, в частности, о универсальности для всех языков особого класса местоимений как указательных слов, разграничения первого, второго и третьего лиц в том или ином виде (конечно, не обязательно в виде глагольной категории лица) и др. Но и в области грамматических универсалий Дж. Гринберг и др. решительно отказались от свойственного дескриптивизму принципиального игнорирования языкового значения. Р. Якобсон пишет об этом: «Прав Гринберг, когда он утверждает, что было бы невозможно идентифицировать грамматические элементы в языках с различными структурами без обращения к семантическим критериям. Морфологическая и синтаксическая типология, как и универсальная грамматика, служащая ее основанием, связана прежде всего с „грамматическими понятиями“, в терминологии Сепира». Эти понятия (значения числа, времени и т. д.) должны формально выражаться, но такое выражение может быть разнообразным (аффиксация, чередование и т. д.), а понятия составляют базу для сравнения языков и выделения универсалий. Р. Якобсон указывал и на необходимость различать в лингвистике универсалий грамматические и лексические значения.
Важна и такая обнаруженная Дж. Гринбергом закономерность, как соответствие порядка следования языковых элементов некоторому естественному порядку вещей. Вернее, как отмечает Р. Якобсон, Дж. Гринберг лишь подтвердил на большом языковом материале то, о чем говорил еще основатель семиотики Ч. Пирс: «Порядок следования языковых элементов соответствует последовательности в физическом опыте или последовательности в знании». Это проявляется, в частности, в свойственном почти всем языкам мира в качестве стандартного (доминирующего) порядке «подлежащее — дополнение». Выявлена также тенденция исцользовать нулевые аффиксы для обозначения немаркированных членов противопоставлений, тогда как маркированные члены имеют ненулевое выражение.
Подводя общие итоги развития лингвистики универсалий, Р. Якобсон отмечал общее стремление лингвистики 50—60-х гг. к интеграции ранее независимых друг от друга областей: «Изоляционизм в его различных проявлениях исчезает из языкознания»; «В лингвистике наблюдается переход от традиционного изучения разнообразных языков и языковых семей через систематические типологические обобщения и интегрирование к детализованным исследованиям универсального типа». Лингвистика универсалий связывает между собой не только традиционно обособленные фонологию, морфологию, синтаксис, семантику и т. д., но и лингвистику со смежными науками. В заключение Р. Якобсон заявляет, что «современные лингвисты готовы отбросить апокрифический эпилог, напечатанный крупными буквами издателями „Курса“ Соссюра: „Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя“». Вновь, как и в других статьях, ученый указывает на необходимость сотрудничества с антропологами, психологами, культуроведами.
Лингвистика универсалий особенно активно развивалась в первые годы после упомянутой конференции, то есть в 60-е гг. Помимо США универсалиями много занимались и в других странах, в том числе в СССР. Это направление представляло собой пример отхода от свойственного раннему структурализму изоляционизма, попытку расширить горизонты лингвистики в рамках структурного подхода. В то же время изучение универсалий затруднилось недостаточной разработанностью понятийного аппарата лингвистики, несоизмеримостью многих лингвистических описаний, отсутствием сколько-нибудь единой системы терминов для большинства лингвистических дисциплин (кроме фонологии). Нередко в грамматиках одним термином именуются принципиально разные явления, а разными терминами — однотипные. Все это, конечно, сказывалось на формулировках универсалий. Кроме того, не всегда разграничивались два различных класса явлений: общие универсальные свойства человеческого языка и совпадающие свойства конкретных языковых систем. Большинство исследований касалось второго класса явлений, хотя иногда рассматривался и первый, например, в работах по сопоставлению языка человека с «языками» животных и другими семиотическими системами. Менее популярным изучение универсалий стало с конца 60-х гг. в связи с установлением в США почти монопольного господства генеративной лингвистики. Временно лингвисты сосредоточились на изучении общих свойств языка в отвлечении от свойств конкретных языковых систем, что снизило интерес к индуктивным обобщениям фактов. В 70-е гг. лишь немногие ученые занимались универсалиями в смысле, о котором шла речь выше. Однако проблема остается и сейчас стала вновь привлекать внимание.
Другой тенденцией, свойственной позднему структурализму, стало стремление к математизации лингвистики и ее сближению с точными науками. Эта тенденция достигла максимума в конце 50-х — начале 60-х гг. Во многом она была связана с практическими потребностями. Развитие вычислительной техники, активно начавшееся с 40-х гг. в США, СССР и других странах, поначалу шло без участия лингвистов. Однако вскоре стало ясно, что диалог человека с машиной — не чисто инженерная задача; он не может быть обеспечен без сотрудничества специалистов разного профиля, в том числе и лингвистов. Это требовало еще большего расширения сотрудничества языковедов с представителями иных наук. Помимо психологов или культуроведов надо было искать общий язык с естественниками и инженерами. На пересечении интересов последних с лингвистами развивались новые дисциплины: кибернетика и теория связи. Как всегда чуткий к происходящим в развитии наук процессам, Р. Якобсон посвятил этим проблемам ряд работ, в том числе статью «Лингвистика и теория связи» (1961).
В этой статье Р. Якобсон указывает на многие параллели между лингвистикой и теорией связи. В обоих случаях производятся операции с дискретными единицами. Это относится не только к изучению письменного языка, где такие единицы даны заранее, но и к исследованию устного языка, где лингвист оперирует не реальным непрерывным речевым потоком, а последовательностями фонем, представляющих собой пучки дискретных дифференциальных признаков. В обоих случаях используются двоичные различительные признаки. В обоих случаях значительную роль играет понятие избыточности. В лингвистике, в частности, в фонологии, разграничиваются дифференциальные и избыточные признаки, последние характеризуют единицы, но не играют различительной роли. Как указывает Р. Якобсон, разграничение двух типов признаков вполне объективно и между ними всегда можно провести грань; в то же время лингвист не может совсем исключить избыточные признаки из рассмотрения (как не исключает их из рассмотрения и теория связи). В обоих случаях важнейшее значение имеют понятия кода, кодирования и декодирования. И в теории связи, и в лингвистике «код приводит в соответствие обозначение с его обозначаемым и обозначаемое с его обозначением». При кодировании и декодировании происходит преобразование одного вида информации в другой. Под кодированием Р. Якобсон понимал процесс преобразования смысла в текст говорящим (пишущим), а под декодированием — процесс обратного преобразования слушающим (читающим). Как и в других работах, в данной статье Р. Якобсон подчеркивал различия этих процессов. Наконец, в обоих случаях имеется явление, которое в теории связи называется «шумом». Помехи при восприятии сообщения могут происходить по разным причинам, в частности, из-за различия тех языковых систем, которые лежат в основе сообщения и в основе понимания у слушающего. Р. Якобсон подчеркивал, что понимание восприятия как декодирования — не то же самое, что дешифровочный подход у крайних дескриптивистов типа 3. Херриса. Наоборот, и лингвисты, и теоретики связи к моменту появления статьи все в большей степени понимали необходимость учета значения.
Р. Якобсон указывал на области, требующие сотрудничества двух дисциплин. Это не только прикладные исследования, но и ряд вполне теоретических дисциплин: теория перевода, изучение вероятностей тех или иных явлений и даже стиховедение, к которому еще в 20-е гг. применил статистические методы советский исследователь Б. В. Томашевский (1890–1957).
Особенно важно следующее положение Р. Якобсона: «Обратимый код языка со всеми его переходами от подкода к подкоду и со всеми постоянными изменениями, которые этот код претерпевает, должен быть описан средствами лингвистики и теории связи в результате совместного и внимательного изучения. Понимание динамической синхронии языка, включающей координаты пространства и времени, должно прийти на смену традиционной схеме произвольно ограниченных статичных описаний». Здесь мы видим идею использования точных методов для изучения языковой динамики, моделирования деятельности говорящего и слушающего, отхода от описания языка как статичной, отделенной от говорящего и слушающего системы. Это перекликается с идеями только начинавшей к 1961 г. свое становление генеративной лингвистики.
Р. Якобсон, начавший свою деятельность как видный представитель пражской школы, в последующей своей деятельности, не отказываясь от многих исследовательских принципов структурализма, вышел за те ограниченные рамки, которые накладывались на лингвистику в после-соссюровскую эпоху. От стремления к обособлению лингвистики, к выработке ею собственных исследовательских методов, он перешел к достаточно плодотворным попыткам сблизить науку о языке с различными научными дисциплинами от нейрофизиологии до теории связи. Никогда не забывая о функциях языка, о его роли в процессе общения, он к концу своей деятельности прямо поставил вопрос о необходимости изучения языковой динамики, деятельности говорящего человека. Р. Якобсон не создал и вряд ли стремился создать какую-либо законченную лингвистическую теорию. Однако он много сделал для того, чтобы расширить горизонты лингвистики, поставить многие важные вопросы, ответы на которые науке еще предстоит дать.
Литература
Иванов Вяч. Вс. Лингвистический путь Романа Якобсона // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.
Ноам ХомскийВ 50-е годы наметился кризис структурной лингвистики, в чем-то сходный с кризисом сравнительно-исторического языкознания в начале XX в. Особенно очевидным он стал в науке США, где господствовал дескриптивизм. Безусловно, расширялся круг исследуемых языков, стали обнаруживаться первые успехи в области автоматизации обработки языковой информации (казавшиеся тогда значительнее, чем они были на самом деле). Однако наметился кризис метода. Детально разработанные процедуры сегментации и дистрибуции бывали полезны на определенных шагах фонологического и морфологического анализа, но для решения других проблем эти процедуры мало что давали, а альтернатив у дескриптивной лингвистики не было.
В такой ситуации, как обычно бывает в подобных случаях, наблюдались две точки зрения. Одна из них признавала закономерность сложившейся ситуации. Впоследствии Н. Хомский в начале книги «Язык и мышление» писал, что и он поначалу так думал: «Будучи студентом, я испытывал чувство тревоги по поводу того факта, что, как казалось, основные проблемы в избранной области были разрешены и единственное, что оставалось, это оттачивать и совершенствовать достаточно ясные технические приемы лингвистического анализа и применять их к более широкому языковому материалу». Конечно, далеко не все испытывали по этому поводу чувство тревоги. Многих устраивала возможность работать по установившимся стандартам (точно так же и в начале XX в. большинство компаративистов, занятых конкретными реконструкциями, просто не видели проблемы в том, что теория перестала развиваться). К тому же казалось, что те проблемы, которые еще оставались, скоро будут разрешены с помощью начинавших тогда появляться электронно-вычислительных машин.
Однако те лингвисты, у которых сохранялось «чувство тревоги», все более приходили к выводу о необходимости отойти от догм дескриптивистского подхода. К числу попыток найти ему альтернативу следует рассматривать и упоминавшуюся в предыдущей главе лингвистику универсалий, и поиски в области синтеза дескриптивизма с идеями Э. Сепира (Ч. Хоккетт, Ю. Найда и др.). Даже столь ортодоксальный дескриптивист, как З. Харрис, стремился расширить традиционную проблематику, перенеся исследования в область синтаксиса, для которой явно было недостаточно правил сегментации и дистрибуции. З. Харрис начал разрабатывать еще один класс процедур, получивший название трансформаций. Имелось в виду установление по строгим правилам отношений между формально разными синтаксическими конструкциями, имеющими в той или иной степени общее значение (активная конструкция и соответствующая ей пассивная и т. д.). Такого рода отношения было весьма трудно исследовать в рамках антименталистского подхода дескриптивизма. И, видимо, не случайно, что именно внутри данного ответвления дескриптивной лингвистики сложилась новая научная парадигма.
Ее создателем не только в США, но и за их пределами достаточно единодушно признается американский лингвист Ноам Хомский (Чомски) (р. 1928). Он был учеником З. Харриса, и первые его работы (по фонологии иврита) выполнялись в рамках дескриптивизма. Затем он вслед за своим учителем начал заниматься проблемой трансформаций и в рамках трансформационной теории выпустил свою первую книгу «Синтаксические структуры» (1957), после которой сразу получил широкую известность в своей стране и за рубежом (русский перевод издан в 1962 г. во втором выпуске «Нового в лингвистике»). Уже в этой работе, где автор еще не до конца вышел за рамки дескриптивизма, проявились принципиально новые идеи. В дальнейшем было принято считать исходной точкой появления генеративной (порождающей) лингвистики именно 1957 г., год выхода в свет «Синтаксических структур».
Принципиально новым было даже не столько обращение к проблемам синтаксиса, второстепенным для большинства дескриптивистов, сколько отход от сосредоточения на процедурах описания языка, выдвижение на первый план проблемы построения общей теории. Как уже говорилось, дескриптивисты считали языковые системы с трудом поддающимися общим правилам, универсален для них прежде всего был метод обнаружения этих систем. Не то у Н. Хомского: «Синтаксис — учение о принципах и способах построения предложений. Целью синтаксического исследования данного языка является построение грамматики, которую можно рассматривать как механизм некоторого рода, порождающий предложения этого языка. В более широком плане лингвисты стоят перед проблемой определения глубоких, фундаментальных свойств успешно действующих грамматик. Конечным результатом этих исследований должна явиться теория лингвистической структуры, в которой описательные механизмы конкретных грамматик представлялись бы и изучались абстрактно, без обращения к конкретным языкам». Начиная с этой ранней работы у Н. Хомского выделяется центральное для него понятие лингвистической теории, объясняющей свойства «языка вообще». Это понятие всегда было основополагающим для Н. Хомского при том, что конкретные свойства теории у него сильно менялись на протяжении нескольких десятилетий.
В «Синтаксических структурах» теория понималась еще достаточно узко: «Под языком мы будем понимать множество (конечное или бесконечное) предложений, каждое из которых имеет конечную длину и построено из конечного множества элементов… Основная проблема лингвистического анализа языка состоит в том, чтобы отделить грамматически правильные последовательности, которые являются предложениями языка L, от грамматически неправильных последовательностей, которые не являются предложениями языка L, и исследовать структуру грамматически правильных последовательностей. Грамматика языка L представляет собой, таким образом, своего рода механизм, порождающий все грамматически правильные последовательности L и не порождающий ни одной грамматически неправильной». Однако при этом уже делается важный шаг, резко уводивший концепцию Н. Хомского в сторону от постулатов дескриптивизма: под «грамматически правильными предложениями» понимаются предложения, «приемлемые для природного носителя данного языка». Если для З. Харриса интуиция носителя языка — лишь дополнительный критерий, в принципе нежелательный, но позволяющий сократить время исследования, то Н. Хомский ставит вопрос иначе: «Для целей настоящего рассмотрения мы можем допустить интуитивное знание грамматически правильных предложений английского языка и затем поставить вопрос: какого рода грамматика способна выполнять работу порождения этих предложений эффективным и ясным способом? Мы сталкиваемся, таким образом, с обычной задачей логического анализа некоторого интуитивного понятия, в данном случае — понятия „грамматической правильности в английском языке“ и в более широком плане „грамматической правильности“ вообще».
Итак, задача грамматики не в процедуре открытия речевых регулярностей, а в моделировании деятельности носителя языка. Важно и сосредоточение Н. Хомского на английском языке, сохранившееся и в последующих его работах и составлявшее резкий контраст со стремлением дескриптивистов к охвату все большего числа «экзотических» языков. Речь шла не об интуитивном знании носителя неизвестного или малоизвестного исследователю языка, а об интуиции самого исследователя. Снова лингвист объединялся с информантом и реабилитировалась интроспекция. Впрочем, Н. Хомский исходил из того, что на первом этапе достаточно довольно грубого выделения «определенного числа ясных случаев» несомненных предложений и несомненных «непредложений», а промежуточные случаи должна анализировать сама грамматика. Но, кстати, так обстояло дело и в традиционной лингвистике при выделении слов, частей речи и т. д. На основе интуиции выделяются несомненные слова, которые делятся на несомненные классы, а затем вводятся критерии, позволяющие анализировать не вполне ясные для интуиции случаи (правила слитного и раздельного написания не и ни, трактовка «категорий состояния» по Л. В. Щербе вроде надо и т. д.).
Как подчеркивал Н. Хомский, «множество грамматически правильных предложений не может отождествляться с какой бы то ни было совокупностью высказываний, полученной тем или иным лингвистом в его полевой работе… Грамматика отражает поведение носителя языка, который на базе своего конечного и случайного языкового опыта в состоянии произвести и понять бесконечное число новых предложений». В число грамматически правильных должны попасть не только предложения реально никогда не произносившиеся, но и вообще странные с точки зрения их семантики, хотя не нарушающие грамматические правила предложения. Н. Хомский приводит знаменитый пример Colourless green ideas sleep furiously «Безцветные зеленые идеи спят яростно». Если же изменить порядок слов Furiously sleep ideas green colourless, то мы получим столь же бессмысленное, но грамматически неправильное предложение с нарушенными правилами словопорядка. Следовательно, для выявления грамматической правильности статистические критерии непригодны. Нужны структурные критерии, вводимые, согласно Н. Хомскому, через формальное правило.
В «Синтаксических структурах» Н. Хомский еще исходил из идеи об автономности синтаксиса и его независимости его от семантики, следуя за З. Харрисом. Позднее он пересмотрел это положение.
Новый этап развития концепции Н. Хомского связан с книгами «Аспекты теории синтаксиса» (1965) и «Язык и мышление» (1968). В 1972 г. обе они были изданы по-русски. Первая книга — последовательное изложение порождающей модели, во второй Н. Хомский, почти не пользуясь формальным аппаратом, рассуждает о содержательной стороне своей теории.
Основная цель теории формулируется в «Аспектах теории синтаксиса» примерно так же, как в более ранней книге; «Работа посвящена синтаксическому компоненту порождающей грамматики, а именно правилам, которые определяют правильно построенные цепочки минимальных синтаксически функционирующих единиц… и приписывают различного рода структурную информацию как этим цепочкам, так и цепочкам, которые отклоняются от правильности в определенных отношениях». Но при этом Н. Хомский, по-прежнему претендуя на построение модели деятельности реального носителя языка, уточняет свое понимание этой деятельности, вводя важные понятия компетенции (competence) и употребления (performance).
Н. Хомский указывает: «Лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с идеальным говорящим-слушающим, существующим в совершенно однородной речевой общности, который знает свой язык в совершенстве и не зависит от таких грамматически несущественных условий, как ограничения памяти, рассеянность, перемена внимания и интереса, ошибки (случайные или закономерные) в применении своего знания языка при его реальном употреблении. Мне представляется, что именно такова была позиция основателей современной общей лингвистики, и для ее пересмотра не было предложено никаких убедительных оснований…
Мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим-слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае, описанном в предыдущем абзаце, употребление является непосредственным отражением компетенции. В действительности же оно не может непосредственно отражать компетенцию. Запись естественной речи показывает, сколь многочисленны в ней обмолвки, отклонения от правил, изменения плана в середине высказывания и т. п. Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении… Грамматика языка стремится к тому, чтобы быть описанием компетенции, присущей идеальному говорящему-слушающему».
Разграничение компетенции и употребления имеет определенное сходство с восходящим к Ф. де Соссюру разграничениям языка и речи. И структурная лингвистика занималась выявлением «системы правил» из «данных употребления». Однако Н. Хомский, не отрицая такого сходства, указывает, что компетенция — не то же самое, что язык в соссюровском смысле: если последний — «только систематический инвентарь единиц» (точнее, единиц и отношений между ними), то компетенция динамична и представляет собой «систему порождающих процессов». Если структурная лингвистика с той или иной степенью последовательности отвлекалась от ментализма, то теория, отстаиваемая Н. Хомским, получившая в истории науки название порождающей (генеративной), «является менталистской, так как она занимается обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального поведения».
Как указывает Н. Хомский, «полностью адекватная грамматика должна приписывать каждому из бесконечной последовательности предложений структурное описание, показывающее, как это предложение понимается идеальным говорящим-слушающим. Это традиционная проблема описательной лингвистики, и традиционные грамматики дают изобилие информации, имеющей отношение к структурным описаниям предложений. Однако при всей их очевидной ценности эти традиционные грамматики неполны в том отношении, что они оставляют невыраженными многие основные регулярности языка, для которого они созданы. Этот факт особенно ясен на уровне синтаксиса, где ни одна традиционная или структурная грамматика не идет далее классификации частных примеров и не доходит до стадии формулирования порождающих правил в сколько-нибудь значительном масштабе». Итак, нужно сохранить традиционный подход, связанный с разъяснением языковой интуиции, однако он должен быть дополнен формальным, заимствованным из математики аппаратом, позволяющим выявить строгие синтаксические правила.
Особенно важны для Н. Хомского идеи, выдвигавшиеся учеными XVII — начала XIX вв., от «Грамматики Пор-Рояля» до В. Гумбольдта включительно. Эти ученые, как отмечает Н. Хомский, особо подчеркивали «творческий» характер языка: «Существенным качеством языка является то, что он представляет средства для выражения неограниченного числа мыслей и для реагирования соответствующим образом на неограниченное количество новых ситуаций» (отметим, впрочем, что на это свойство языка обращали внимание и ученые более позднего времени, см. слова Л. В. Щербы об активности процессов говорения и понимания). Однако наука XVII–XIX вв. не имела никаких формальных средств для описания творческого характера языка. Теперь же можно «попытаться дать эксплицитную формулировку существа „творческих“ процессов языка».
Подробнее на концепциях «Грамматики Пор-Рояля» и В. Гумбольдта Н. Хомский останавливается в книге «Язык и мышление». Эта книга представляет собой издание трех лекций, прочитанных в 1967 г. в Калифорнийском университете. Каждая лекция имела заглавие «Вклад лингвистики в изучение мышления» с подзаголовками «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».
Уже в первой лекции Н. Хомский решительно расходится с традицией дескриптивизма и структурализма в целом, определяя лингвистику как «особую ветвь психологии познания». Оставленный в стороне большинством направлений лингвистики первой половины XX в. вопрос «Язык и мышление» вновь был поставлен в центр проблематики языкознания.
Главные объекты критики в данной книге — структурная лингвистика и бихевиористская психология (к тому времени уже преодолевавшаяся американскими психологами). Обе концепции признаются Н. Хомским «неадекватными в фундаментальном отношении». В их рамках невозможно изучать языковую компетенцию. «Умственные структуры не являются просто „тем же самым, только поболее в количественном отношении“, и качественно отличаются» от сетей и структур, разработанных в дескриптивизме и бихевиоризме. И это «связано не со степенью сложности, а, скорее, с качеством сложности». Н. Хомский отвергает сформулированную, по его мнению, Ф. де Соссюром концепцию, «согласно которой единственно правильными методами лингвистического анализа являются сегментация и классификация» и вся лингвистика сводится к моделям парадигматики и синтагматики лингвистических единиц. К тому же Ф. де Соссюр ограничивал систему языка в основном звуками и словами, исключая из нее «процессы образования предложений», что приводило к особой неразработанности синтаксиса у большинства структуралистов.
Н. Хомский, разумеется, не отрицает значения ни «замечательных успехов сравнительной индоевропеистики» XIX в., ни достижений структурной лингвистики, которая «подняла точность рассуждений о языке на совершенно новый уровень». Но для него неприемлема «убогая и совершенно неадекватная концепция языка, выраженная Уитни и Соссюром и многими другими».
Более высоко он оценивает идеи «Грамматики Пор-Рояля» и других исследований XVI–XVIII вв., которые он относит к «картезианской лингвистике» (у Н. Хомского есть даже специальная книга «Картезианская лингвистика», изданная в 1966 г.). Исторически это название не вполне точно, так как термин «картезианский» означает «связанный с учением Р. Декарта», а многие идеи об универсальных свойствах языка появились раньше. Однако главное, разумеется, не в этом. Важно, что и в философии Р. Декарта, и в теоретических рассуждениях лингвистов XVI–XVIII вв. Н. Хомский обнаружил идеи, созвучные собственным.
Универсальные грамматики типа «Грамматики Пор-Рояля» Н. Хомский оценивает как «первую действительно значительную общую теорию лингвистической структуры». В этих грамматиках «на первый план выдвигалась… проблема объяснения фактов использования языка на основе объяснительных гипотез, связанных с природой языка и, в конечном счете, с природой человеческого мышления». Н. Хомский подчеркивает, что их авторы не проявляли особого интереса к описанию конкретных фактов (что применительно к «Грамматике Пор-Рояля» не вполне верно), для них главным было построение объяснительной теории. Отмечается и интерес авторов «Грамматики Пор-Рояля» к синтаксису, нечастый для лингвистики прошлого, преимущественно сосредоточенной на фонетике и морфологии.
Н. Хомский уделяет особое внимание знаменитому анализу фразы Невидимый бог создал видимый мир в «Грамматике Пор-Рояля». По его мнению, здесь в отличие от большинства направлений лингвистики XIX и первой половины XX в. проводилось разграничение поверхностной и глубинной структур, одно из важнейших разграничений в концепции Н. Хомского. В данном примере поверхностная структура, которая «соответствует только звуковой стороне — материальному аспекту языка», представляет собой одно предложение. Однако имеется и глубинная структура, «которая прямо соответствует не звуку, а значению»; в данном примере К. Арно и А. Ланс л о выделяли три суждения — «бог невидим», «бог создал мир», «мир видим»; согласно Н. Хомскому, эти три суждения и есть в данном случае глубинная мыслительная структура. Безусловно, как уже отмечалось в главе о «Грамматике Пор-Рояля», Н. Хомский модернизирует взгляды своих предшественников, однако перекличка идей здесь несомненно есть.
Как пишет Н. Хомский, «глубинная структура соотносится с поверхностной структурой посредством некоторых мыслительных операций, в современной терминологии, посредством грамматических трансформаций». Здесь американский лингвист включил в свою теорию первоначально главный ее компонент, унаследованный от концепции З. Харриса. Далее говорится: «Каждый язык может рассматриваться как определенное отношение между звуком и значением. Следуя за теорией Пор-Рояля до ее логического завершения, мы должны сказать тогда, что грамматика языка должна содержать систему правил, характеризующую глубинные и поверхностные структуры и трансформационное отношение между ними и при этом — если она нацелена на то, чтобы охватить творческий аспект использования языка — применимую к бесконечной совокупности пар глубинных и поверхностных структур».
В связи с идеей о творческом характере языка Н. Хомский использует и близкие ему стороны концепции В. фон Гумбольдта: «Как писал Вильгельм фон Гумбольдт в 1830-х годах, говорящий использует бесконечным образом конечные средства. Его грамматика должна, следовательно, содержать конечную систему правил, которая порождает бесконечно много глубинных и поверхностных структур, связанных друг с другом соответствующим образом. Она должна также содержать правила, которые соотносят эти абстрактные структуры с определенными репрезентациями в звуке и в значении — репрезентациями, которые, предположительно, состоят из элементов, принадлежащих, соответственно, универсальной фонетике и универсальной семантике. По существу, такова концепция грамматической структуры, как она развивается и разрабатывается сегодня. Ее корни следует, очевидно, искать в той классической традиции, которую я здесь рассматриваю, и в тот период были исследованы с некоторым успехом ее основные понятия». Под «классической традицией» здесь понимается наука о языке начиная с Санчеса (Санкциуса), писавшего еще в XVI в., и кончая В. фон Гумбольдтом. Лингвистика же более позднего времени, по мнению Н. Хомского, «ограничивается анализом того, что я назвал поверхностной структурой». Такое утверждение не вполне точно: уже традиционное представление о пассивных конструкциях основывается на идее об их «глубинной» равнозначности активным. В лингвистике первой половины XX в. существовали и концепции, так или иначе развивавшие идеи авторов «Грамматики Пор-Рояля» о «трех суждениях в одном предложении»: таковы упоминавшиеся концепции «понятийных категорий» датского ученого О. Есперсена и советского языковеда И. И. Мещанинова. Тем не менее безусловно лингвистика, сосредоточенная на проблеме «Как устроен язык?», основное внимание уделяла анализу языковой формы, то есть поверхностной структуры, в терминологии Н. Хомского.
Из цитат, приведенных в предыдущем абзаце, видно и то, что Н. Хомский в работах 60-х гг. пересмотрел первоначальное игнорирование семантики. Хотя синтаксический компонент по-прежнему занимал в его теории центральное место, введение понятия глубинной структуры не могло не быть связано с семантизацией теории. Поэтому в грамматику, помимо синтаксических порождающих правил, включаются, с одной стороны, «правила репрезентации» между синтаксисом и «универсальной семантикой», с другой стороны, аналогичные правила в отношении «универсальной фонетики».
В лекции «Настоящее» Н. Хомский обсуждает современное (на 1967 г.) состояние проблемы соотношения между языком и мышлением. Здесь он подчеркивает, что «относительно природы языка, его использования и овладения им могут быть высказаны заранее лишь самые предварительные и приблизительные гипотезы». Система правил, соотносящих звук и значение, которой пользуется человек, пока недоступна прямому наблюдению, а «лингвист, строящий грамматику языка, фактически предлагает некоторую гипотезу относительно этой заложенной в человеке системы». При этом, как уже говорилось выше, лингвист старается ограничиться изучением компетенции, отвлекаясь от других факторов. Как указывает Н. Хомский, хотя и «нет оснований отказываться также от изучения взаимодействия нескольких факторов, участвующих в сложных умственных актах и лежащих в основе реального употребления, но такое изучение вряд ли может продвинуться достаточно далеко, пока нет удовлетворительного понимания каждого из этих факторов в отдельности».
В связи с этим Н. Хомский определяет условия, при которых грамматическую модель можно считать адекватной: «Грамматика, предлагаемая лингвистом, является объяснительной теорией в хорошем смысле этого термина; она дает объяснение тому факту, что (при условии упомянутой идеализации) носитель рассматриваемого языка воспринимает, интерпретирует, конструирует или использует конкретное высказывание некоторыми определенными, а не какими-то другими способами». Возможны и «объяснительные теории более глубокого характера», определяющие выбор между грамматиками. Согласно Н. Хомскому, «принципы, которые задают форму грамматики и которые определяют выбор грамматики соответствующего вида на основе определенных данных, составляют предмет, который мог бы, следуя традиционным терминам, быть назван „универсальной грамматикой“. Исследование универсальной грамматики, понимаемой таким образом, — это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей… Универсальная грамматика, следовательно, представляет собой объяснительную теорию гораздо более глубокого характера, чем конкретная грамматика, хотя конкретная грамматика некоторого языка может также рассматриваться как объяснительная теория».
На основании сказанного выше Н. Хомский сопоставляет задачи лингвистики языка и лингвистики языков: «На практике лингвист всегда занят исследованием как универсальной, так и конкретной грамматики. Когда он строит описательную, конкретную грамматику одним, а не другим способом на основе имеющихся у него данных, он руководствуется, сознательно или нет, определенными допущениями относительно формы грамматики, и эти допущения принадлежат теории универсальной грамматики. И наоборот, формулирование им принципов универсальной грамматики должно быть обосновано изучением их следствий, когда они применяются в конкретных грамматиках. Таким образом, лингвист занимается построением объяснительных теорий на нескольких уровнях, и на каждом уровне существует ясная психологическая интерпретация для его теоретической и описательной работы. На уровне конкретной грамматики он пытается охарактеризовать знание языка, определенную познавательную систему, которая была выработана — причем, конечно, бессознательно — нормальным говорящим-слушающим. На уровне универсальной грамматики он пытается установить определенные общие свойства человеческого интеллекта».
Сам Н. Хомский на всех этапах своей деятельности занимался исключительно построением универсальных грамматик, используя в качестве материала английский язык; вопрос о разграничении универсальных свойств языка и особенностей английского языка его интересовал мало. Однако очень скоро, уже с 60-х гг., появилось большое количество порождающих грамматик конкретных языков (или их фрагментов), в том числе для таких языков, как японский, тайский, тагальский и др. При этом центральным и с трудом поддающимся решению вопросом в этих грамматиках оказался вопрос о том, какие явления того или иного языка следует относить к глубинной структуре, а какие считать лишь поверхностными. Ожесточенные споры на этот счет не давали однозначного результата, однако в их ходе были по-новому или вообще впервые описаны многие явления конкретных языков, в том числе семантические, и впервые объектом систематического внимания лингвистов стало то, что Л. В. Щерба называл «отрицательным языковым материалом»: изучали не только как можно сказать, но и как нельзя сказать.
В главе «Будущее» Н. Хомский вновь возвращается к вопросу об отличии своей концепции от структурализма и бихевиоризма. Для него неприемлем «воинствующий антипсихологизм», свойственный в 20— 50-е гг. XX в. не только лингвистике, но и самой психологии, которая вместо мышления изучала поведение человека. По мнению Н. Хомского, «это подобно тому, как если бы естественные науки должны были именоваться „науками о снятии показаний с измерительных приборов“». Доведя такой подход до предела, бихевиористская психология и дескриптивная лингвистика заложили «основу для весьма убедительной демонстрации неадекватности любого такого подхода к проблемам мышления».
Научный подход к изучению человека должен быть иным, и важнейшую роль в нем играет лингвистика: «Внимание к языку будет оставаться центральным моментом в исследовании человеческой природы, как это было и в прошлом. Любой, кто занимается изучением человеческой природы и человеческих способностей, должен так или иначе принять во внимание тот факт, что все нормальные человеческие индивиды усваивают язык, в то время как усвоение даже его самых элементарных зачатков является совершенно недоступным для человекообразной обезьяны, разумной в других отношениях». Н. Хомский подробно останавливается на вопросе о различии между человеческим языком и «языками» животных и приходит к выводу о том, что это принципиально различные явления.
Поскольку язык — «уникальный человеческий дар», изучать его нужно особым образом, исходя из принципов, выделявшихся еще В. фон Гумбольдтом: «язык в гумбольдтовском смысле» следует определять как «систему, где законы порождения фиксированы и инвариантны, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными». В каждой такой грамматике есть особые правила, специфические для конкретного языка, и единые универсальные правила. К числу последних относятся, в частности, «принципы, которые различают глубинную и поверхностную структуру».
Принципы, определяющие владение человека языком, по мнению Н. Хомского, могут быть применимы и к другим областям человеческой жизни от «теории человеческих действий» до мифологии, искусства и т. д. Однако пока это проблемы будущего, не поддающиеся изучению в той степени, в которой поддается ему язык, для которого уже можно строить математические модели. В целом вопрос «распространения понятий лингвистической структуры на другие системы познания» следует считать открытым.
Н. Хомский связывает проблемы языка с более широкими проблемами человеческого знания, где также центральным является понятие компетенции. В связи с этим он возвращается к сформулированной еще Р. Декартом концепции о врожденности мыслительных структур, в том числе языковой компетенции: «Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик при заданных ограничениях времени и доступа к данным. В то же время эта постулируемая врожденная умственная структура не должна быть настолько содержательной и ограничивающей, чтобы исключить определенные известные языки». Врожденность структур, по мнению Н. Хомского, объясняет, в частности, тот факт, что владение языком в основном независимо от умственных способностей человека.
Конечно, врожденность языковых структур не означает полной «запрограммированности» человека: «Грамматика языка должна быть открыта ребенком на основании данных, предоставленных в его распоряжение… Язык „изобретается заново“ каждый раз, когда им овладевают». В результате «взаимодействия организма с его окружением» среди возможных структур отбираются те, которые составляют специфику того или иного конкретного языка. Отметим, что здесь единственный раз Н. Хомский как-то вспоминает о коллективном функционировании языка, которое сводится лишь к взаимодействию индивида с окружением. Концепция о коллективном характере языка в структурализме (свойственная, правда, европейскому структурализму более, чем американскому) сменилась у Н. Хомского рассмотрением компетенции как индивидуального явления; вопросы же функционирования языка в обществе, речевого взаимодействия, диалога и т. д., специально не рассматриваемые Н. Хомским, попадают в сферу употребления, находящуюся вне объекта порождающей грамматики. Если вспомнить терминологию книги «Марксизм и философия языка», Н. Хомский, возрождая идеи В. фон Гумбольдта, вернулся к «индивидуалистическому субъективизму».
Концепция о врожденности познавательных, в частности, языковых структур вызвала ожесточенные дискуссии у лингвистов, психологов, философов и многими не была принята. В то же время сам Н. Хомский подчеркивал, что исследование овладения ребенка языком (как и мыслительными структурами в целом) — дело будущего; в настоящее же время можно говорить лишь о самых общих принципах и схемах.
В книге говорится также о нерешенных общих вопросах психологии и лингвистики, в частности, об изучении биологических основ человеческого языка. Подводя итоги, Н. Хомский пишет: «Я старался обосновать мысль о том, что исследование языка вполне может, как и предполагалось традицией, предложить весьма благоприятную перспективу для изучения умственных процессов человека. Творческий аспект использования языка, будучи исследован с должной тщательностью и вниманием к фактам, показывает, что распространенные сейчас понятия привычки и обобщения как факторов, определяющих поведение или знание, являются совершенно неадекватными. Абстрактность языковой структуры подтверждает это заключение, и она, далее, наводит на мысль, что как в восприятии, так и в овладении знанием мышление играет активную роль в определении характера усваиваемого знания. Эмпирическое исследование языковых универсалий привело к формулированию весьма ограничивающих и, я думаю, довольно правдоподобных гипотез, касающихся возможного разнообразия человеческих языков, гипотез, которые являются вкладом в попытку разработать такую теорию усвоения знания, которая отводит должное место внутренней умственной деятельности. Мне кажется, что, следовательно, изучение языка должно занять центральное место в общей психологии». При этом однако слишком многое еще остается неясным. В частности, Н. Хомский вполне справедливо отмечал: «Исследование универсальной семантики, играющее, конечно, решающую роль в полном исследовании языковой структуры, лишь едва-едва продвинулось вперед со времени средневековья».
Концепция Н. Хомского развивается уже более тридцати лет и испытала множество изменений и модификаций; по-видимому, этот процесс далеко не завершен (при том, что научные интересы ученого далеко не исчерпываются лингвистикой: Н. Хомский известен также как социолог, отличающийся левыми взглядами). В частности, он постепенно вовсе отказался от занимавших первоначально очень большое место в концепции трансформационных правил. Также достаточно разнообразны идеи и методы сложившихся за три с лишним десятилетия школ и направлений внутри генеративной лингвистики. Тем не менее после так называемой «хомскианской революции» развитие лингвистики как в США, так и (хотя и в несколько меньшей степени) в других странах стало существенно иным по сравнению с предшествующим периодом.
В США работы генеративистского направления, перенявшие не только теоретические идеи, но и особенности формального аппарата Н. Хомского, уже ко второй половине 60-х гг. стали преобладающими. Подобного рода книги и статьи стали в довольно большом количестве появляться и в странах Западной Европы, в Японии и в ряде других стран; это в значительной степени привело к нивелировке различий между национальными школами языкознания (тем более что генеративистские работы очень часто пишутся на английском языке независимо от гражданства и родного языка того или иного автора). Такое положение дел во многом сохраняется до настоящего времени.
Однако влияние «хомскианской революции» оказалось еще более значительным и не сводится только к написанию работ в хомскианском духе. Пример — развитие лингвистики в нашей стране. В СССР в силу ряда причин не получили распространения исследования, выполненные непосредственно в рамках модели Н. Хомского. Однако в более широком смысле и здесь можно говорить о становлении генеративизма начиная с 60-х гг. Наиболее заметным ответвлением новой лингвистической парадигмы стала так называемая модель «смысл текст», разрабатывавшаяся в 60—70-е гг. И. А. Мельчуком и др. В этой модели вовсе не использовался хомскианекий формальный аппарат, трактовка многих проблем языка была совершенно независимой от Н. Хомского и других американских генеративистов, в значительном числе случаев создатели модели развивали традиции русской и советской лингвистики. И тем не менее общий подход был именно генеративистским, а не структуралистским.
В книге «Опыт теории лингвистических моделей смысл текст» (1974) И. А. Мельчук писал: «Язык рассматривается нами как определенное соответствие между смыслами и текстами… плюс некоторый механизм, „реализующий“ это соответствие в виде конкретной процедуры, т. е. выполняющий переход от смыслов к текстам и обратно». И далее: «Это соответствие между смыслами и текстами (вместе с механизмом, обеспечивающим процедуру перехода от смыслов к текстам и обратно) мы и предлагаем считать моделью языка и представлять себе в виде некоторого преобразователя „смысл текст“, закодированного в мозгу носителей».
Если структурализм, как правило, был сосредоточен на решении проблемы «Как устроен язык?», стремился рассматривать свой объект извне, ограничиваясь лишь анализом наблюдаемых фактов, пытался резко отграничить лингвистическую проблематику от нелингвистической, то генеративизм (в широком смысле этого термина) во многом вернулся на более высоком уровне к изучению временно оставленных на предыдущем этапе развития лингвистики проблем. Недаром Н. Хомский так подчеркивал сходство своих идей с идеями А. Арно, К. Лансло и В. фон Гумбольдта. В центр внимания была поставлена проблема «Как функционирует язык?», вновь стали разрабатываться вопросы связи языка и мышления, были реабилитированы интроспекция и языковая интуиция (на практике, впрочем, никогда не отбрасывавшаяся совсем), снова наука о языке стала осознанно антропоцентричной, усилилась тенденция к установлению связей между лингвистикой и смежными дисциплинами, в частности, психологией.
В ряде случаев генеративизм пересмотрел принципы, на которых основывалась не только структурная лингвистика, но и лингвистика более раннего времени. Уже говорилось о том, что с самого начала европейской лингвистической традиции и до структурализма включительно анализ преобладал над синтезом, языковеды в основном стояли на позиции слушающего, а не говорящего. Синтетический подход, идущий от смысла к тексту, получил развитие лишь у индийцев, прежде всего в грамматике Панини. Лишь в генеративной лингвистике такая задача была впервые за два с лишним тысячелетия четко поставлена. С этим определенным образом связано и построение грамматики в виде множества правил, применимых в определенном порядке. Так построена грамматика Панини и так же (явно без непосредственного влияния Панини) стали строиться грамматики Н. Хомского и его последователей. Наряду с привычным типом грамматики, которая выделяет из текста языковые единицы и классифицирует их, сложился новый вид грамматического описания, также имеющий параллели с индийской традицией. Например, в предисловии А. Е. Кибрика к грамматике арчинского языка (Дагестан) о таком описании сказано: «Динамическое описание является действующей моделью языка, которая устанавливает соответствие между смыслом и реально наблюдаемой формой высказывания (или между максимально приближенными к ним, заменяющими их искусственными объектами)».
Еще одна новая черта генеративизма по сравнению с предшествующими парадигмами состоит в переносе центра внимания с фонетики (фонологии) и морфологии, в изучении которых добились наибольших успехов ученые начиная с александрийцев и кончая структуралистами, на синтаксис и семантику, долгое время изученные гораздо слабее. Причем если в раннем генеративизме, в частности, в вышеупомянутых работах Н. Хомского центральным объектом исследования был синтаксис, то постепенно все более ведущим стало изучение семантики. Языковое значение с очень большим трудом поддавалось изучению в дегенеративной лингвистике, и лишь в последние десятилетия лингвисты начинали всерьез продвигаться в изучении языкового значения; в частности, активно развиваются семантические исследования в нашей стране.
После работ Н. Хомского в развитии лингвистики были сняты многие методологические ограничения. А это в свою очередь дало возможность в дальнейшем снять и те ограничения, которые имели место у самого Н. Хомского. Это заметно и в отношении переноса основного внимания на семантические исследования. Это проявилось и в развитии исследований, связанных с общественным функционированием языка (как говорилось выше, совсем не интересовавших Н. Хомского). В последние десятилетия в рамках генеративной лингвистики начали рассматриваться вопросы, связанные с коммуникативным аспектом языка, с проблемой диалога и т. д. Именно с 60-х гг. активно начала развиваться и социолингвистика, до того после пионерских работ Е. Д. Поливанова и др. находившаяся на явной периферии науки. Наконец, после сосредоточения на универсальных процедурах и на английских примерах, свойственного раннему генеративизму, вновь, уже на новом уровне лингвисты обратились к анализу фактов разнообразных языков.
Разумеется, все сказанное никак не означает того, что генеративный подход разрешил все нерешенные проблемы. Наоборот, уже достаточно давно выявились методологические ограничения, свойственные генеративизму (так же, как имелись ограничения и у предшествовавших ему компаративного и структурного методов). Сейчас уже нередко говорят и о кризисе генеративизма. Однако говорить о том, что генеративизм уже стал достоянием истории, по-видимому, рано. Также безусловно генеративизм не привел к прекращению компаративных и структурных исследований, которые также составляют значительную часть написанных за последние десятилетия ценных лингвистических работ.
Наука о языке находится в постоянном развитии. Обо многих процессах последних двух-трех десятилетий пока еще рано говорить в историческом плане.
Литература
Звегинцев В. А Предисловие // Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
Звегинцев В. А. Предисловие // Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
БиблиографияI. Тексты лингвистических сочинений, включенных в курс:
Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, чч. 1–2. М., 1964–1965.
Античные теории языка и стиля. М. — Л, 1936, 2-е изд., СПб., 1996. Раздел «Язык».
Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М., 1990; Грамматика Пор-Рояля. Л., 1991.
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию, тт. 1–2. М., 1963.
Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М. — Л., 1938.
Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
Бюлер К. Теория языка. М., 1993.
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955.
Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике, вып. I. М., 1960.
Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
Трубецкой Н. Основы фонологии. М., 1960.
Блумфилд Л. Язык. М., 1968.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
Поливанов Е. Д. Труды по восточному и общему языкознанию. М., 1991.
Реформатский А, А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Мещанинов И. И. Общее языкознание. М.—Л., 1940; изд. 2-е. М., 1975.
Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945; изд. 2-е. М., 1978.
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929; изд. 3-е (серия «Бахтин под маской», вып. 3). М., 1993.
Токиэда Мотоки. Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983.
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1970.
Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.
Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
II. Учебные пособия по истории языкознания. Книги по истории языкознания[1]:
Томсен В. История языкознания до конца XIX века. М., 1938.
Шор Р. О., Чемоданов Н. С. Введение в языковедение. М., 1945 (глава по истории языкознания).
Венцкович Р. М., Шайкевич А Я. История языкознания (пособие для студентов-заочников), вып. I–VI. М., 1974.
История лингвистических учений. Древний мир. Л, 1980.
История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л, 1981.
История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л, 1985.
История лингвистических учений. Позднее средневековье. СПб., 1991.
Березин Ф. М. История русского языкознания. М., 1980.
Березин Ф. М. История советского языкознания. М., 1981.
Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
Журавлев В. К. Язык. Языкознание. Языковеды. М., 1991.
Robins R. Н. A Short History of Linguistics. Bloomington-London, 1968, 1990.
Current Trends in Linguistics. Vols. 5,13. The Hague-Paris, 1969, 1975.
Ivi?M. Wege der Sprachwissenschaft. M?nchen, 1971.
Sampson G. Schools of Linguistics. Stanford, 1980.
History of Linguistics. Vol. 1. The Eastern Traditions of Linguistics. London-New York, 1994; Vol. 2. Classical and Medieval Linguistics. London-New York, 1994.
Harris R., Taylor T. J. Landmarks in Linguistic Thought. The Western Tradition from Socrates to Saussure. London-New York, 1989.
Приложение 1. Пояснения к указателямК книге прилагается 9 указателей.
Указатели не претендуют на абсолютную полноту; так, указатели 3 и 4 охватывают лишь события, упоминаемые в книге; указатели 5А и 5Б — лишь издания, упоминаемые в книге; указатель в — лишь имена, упоминаемые в книге; указатель 7 — лишь страны, города и университеты, упоминаемые в книге, указатель 8 — лишь языки, упоминаемые в книге, а указатель 9 — лишь основные понятия, затрагиваемые в книге.
В целях компактности в указателях использованы аббревиатуры, отсылающие к тематическим разделам учебника. Так как в ряде случаев главы учебника охватывают ряд тематических разделов (например, глава о французской лингвистике охватывает ряд более дробных разделов; про А. Мартине, Э. Бенвениста, Л. Теньера), то эти разделы пришлось также разграничить и отсылать именно к ним. В приложении 2 приведены все условные обозначения, отсылающие к разделам, и указано постраничное расположение разделов в книге.
Если в текст входит не данный термин, а его деривационный вариант (напр., термин продуктивный, а не продуктивность), то отсылка дана курсивом (в именном указателе такое тоже бывает: ср. гумбольдтовский, соссюровский и т. п.). Если в некотором разделе дается особо подробная информация о предмете, то отсылка выделяется полужирным шрифтом и подчеркиванием.
В указателях используется гнездовой принцип подачи словосочетаний; при этом повторяющиеся слова предыдущей статьи заменяются на символ повтора (~). Единой записью даются термины, отличающиеся лишь специфицирующим компонентом, если это отличие синонимическое (через знак //) иди антонимическое (через знак х).
В предметном указателе некоторые термины снабжены отсылками на близкие по смыслу: синонимы (=), антонимы (х).
При составлении всех указателей использовалась интегрированная информационная среда STARLING, созданная чл. — корр. РАН С.А. Старостиным.

Приложение 2. Условные обозначения разделов
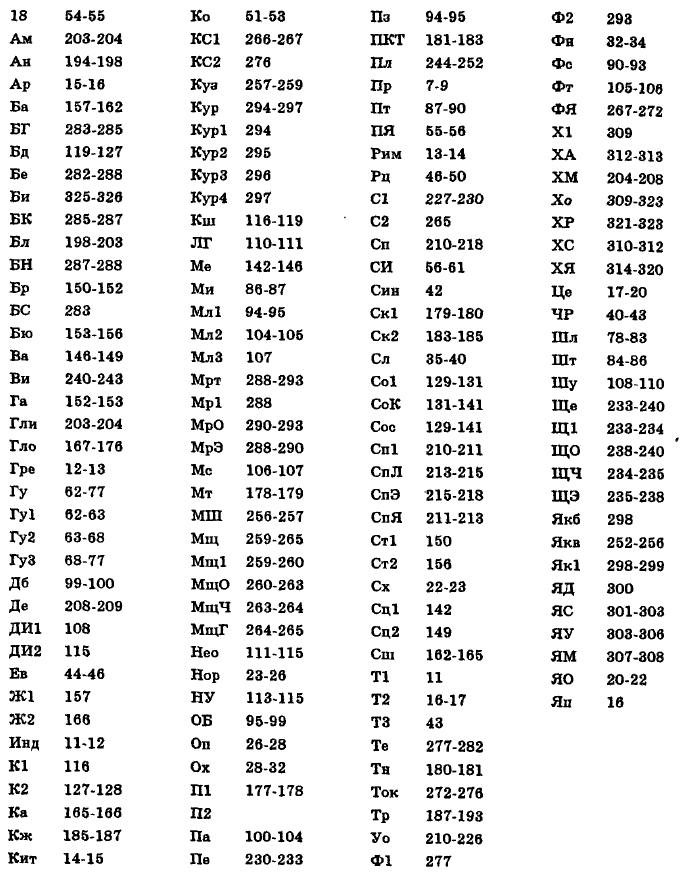
Приложение 3. Биографическая таблица

Приложение 4. Хронологическая таблица событий



Приложение 5. ИсториографияА. Хронология русских переводов зарубежной лингвистики[2]


Б. Посмертные публикации классиков отечественного языкознания

В. Personalia историографов лингвистики[3]

Приложение 6. Именной указатель[4]
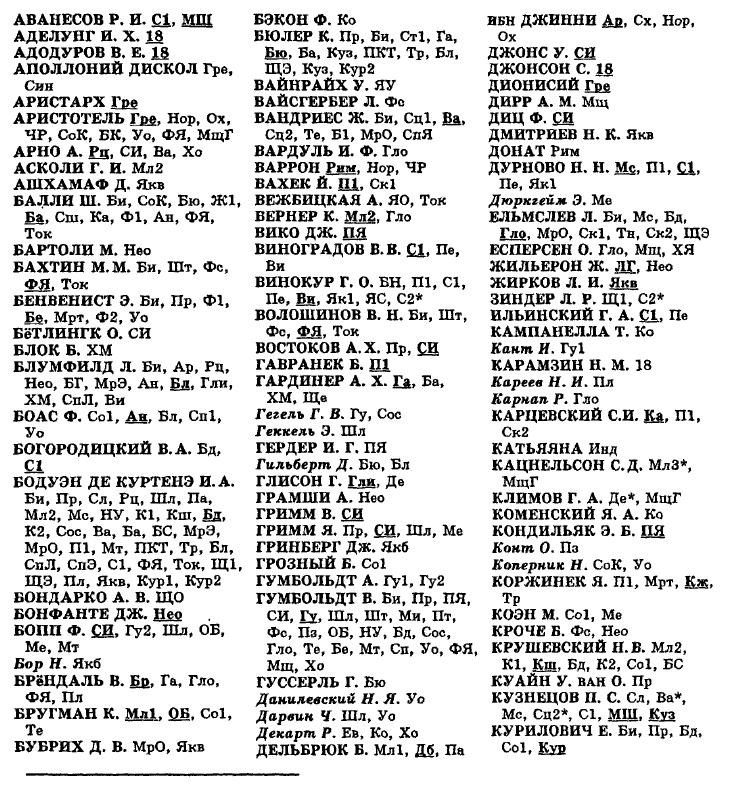

Приложение 7. Указатель центров лингвистической мысли
Приложение 8. Указатель языков

Приложение 9. Предметный указатель




























© B. М. Алпатов, 1998
© C. А. Крылов. Указатели, 1998
Примечания
1В данную библиографию включены лишь отечественные и зарубежные работы, посвященные истории языкознания в целом или истории тех или иных ее этапов. Работы об отдельных направлениях или авторах указаны в конце соответствующих глав.
(обратно)
2Звездочкой помечены сокращенные переводы
(обратно)
3Имеются в виду лица, упоминаемые лишь в связи с их комментариями по поводу истории лингвистики (т. е. об их собственно лингвистических работах речь не идёт).
(обратно)
4Звездочкой обозначены ссылки на библиографич. списки. Имена мыслителей, упоминаемые не в связи с их работами но теории языка, даны курсивом; имена писателей, язык которых изучался лингвистами, не включены; однако упоминаемые в книге имена философов и лингвистов-непрофессионалов (в т. ч. поэтов-стиховедов) включены Я даны прямым шрифтом.
(обратно)Оглавление
Предисловие Лингвистические традиции Становление и развитие основных лингвистических традиций Причины формирования традиций, цели и задачи Языковая основа и отношение к другим языкам Синхрония — диахрония Отношение к норме Требования к описанию языка Охват системы языка Фонетические исследования Грамматика в лингвистических традициях Заключение к главе Литература Европейская лингвистика XVI–XVII вв Грамматика Пор-Рояля Лингвистика XVIII века и первой половины XIX века Становление сравнительно-исторического метода Вильгельм фон Гумбольдт Август Шлейхер Развитие гумбольдтовской традиции Младограмматизм «Диссиденты индоевропеизма» Н. В. Крушевский и И. А. Бодуэн де Куртенэ Фердинанд де Соссюр Антуан Мейе и Жозеф Вандриес Развитие концепции Ф. де Соссюра В. Брёндаль., А. Гардинер., К. Бюлер Женевская школа Глоссематика Пражский лингвистический кружок Дескриптивизм Эдвард Сепир Гипотеза языковой относительности Бенджамена Уорфа Советское языкознание 20—50-х годов Старшее поколение языковедов. А. М. Пешковский Л. В. Щерба Г. О. Винокур Е. Д. Поливанов Н. Ф. Яковлев Московская фонологическая школа Развитие типологии в СССР. И. И. Мещанинов Критика лингвистического структурализма Лингвистические идеи книги «Марксизм и философия языка» Мотоки Токиэда. Школа языкового существования Французская лингвистика 40—60-х годов Л. Теньер., Э. Бенвенист., А. Мартине Ежи Курилович Роман Якобсон Ноам Хомский Библиография Приложение 1. Пояснения к указателям Приложение 2. Условные обозначения разделов Приложение 3. Биографическая таблица Приложение 4. Хронологическая таблица событий Приложение 5. Историография Приложение 6. Именной указатель[4] Приложение 7. Указатель центров лингвистической мысли Приложение 8. Указатель языков Приложение 9. Предметный указатель
Наш
сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального
закона Российской федерации
"Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995
N 110-ФЗ, от 20.07.2004
N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения
произведений
размещенных на данной библиотеке категорически запрешен.
Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.
|
|
Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - электронные книги бесплатно