
|
|
Юрий Александрович Молок
Пушкин в 1937 году

От автораГлавной задачей моей работы является попытка реконструировать сложную художественную ситуацию 1937 года, связанную со 100-летней годовщиной со дня смерти А. С. Пушкина. Этот трагический для русской культуры год, окрашенный драматическими событиями в политической жизни страны, был наполнен мемориальными пушкинскими выставками, конкурсами на новые памятники, новыми иллюстрированными изданиями. Многие из этих проектов остались неосуществленными.
Несмотря на обширную литературу по изобразительной пушкиниане — достаточно вспомнить работы С. Либровича и Э. Голлербаха, А. Эфроса и Б. Терновца, М. Беляева и О. Пини, А. Сидорова и Е. Павловой, не говоря уже о трудах пушкинистов, — до сих пор нет монографической работы, в которой материалы пушкинской иконографии были бы сосредоточены вокруг этой ключевой для русской культуры даты.
Особое значение для нашей темы имеют материалы дискуссий с участием крупнейших деятелей культуры (Ю. Тынянова, Б. Бабочкина, К. Петрова-Водкина, Б. Томашевского и др.) о вопросах создания нового памятника Пушкину в Ленинграде и проблемах воплощения образа поэта в живописи и графике. Эти дискуссии, развернувшиеся в 1936–1937 годах на страницах журналов «Звезда» и «Литературный современник», практически выпали из внимания исследователей, хотя и представляют несомненный интерес для реконструкции историко-культурной ситуации 1937 года. Это и определило сложную структуру книги. Полная научная публикация материалов дискуссий комментируется в отдельных исследованиях, вошедших в монографию, в специально подобранном изобразительном ряде и в научных комментариях и дополнениях.
Дискуссии 1937 года вокруг пушкинских тем в конечном счете составили своего рода литературную программу не осуществленных в свое время проектов. Рассмотрению исторического контекста этих проектов посвящена вводная глава «Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа», в которой затрагивается и проблема статуса художественного наследия в 1930-е годы — именно с этой стороны в ту эпоху резкой критической переоценке были подвергнуты многие достижения старой пушкинианы, начиная с опекушинского памятника Пушкину в Москве, остающегося главным памятником поэту. Его история в советское время также освещена во вводной главе. Другие главы, составляющие раздел «Иконографические этюды», посвящены отдельным монографическим темам. Написанные на основе новых, в ряде случаев неопубликованных материалов, эти главы также соотнесены с 1930-ми годами, с их тенденциями радикального пересмотра художественного наследия.
Особое место в книге занимает собственно иконография. Иллюстрации, специально подобранные для настоящего издания, представляют собой последовательный ряд развития пушкинской иконографии и визуальную параллель авторской концепции. Здесь наряду с известными произведениями репродуцируются малоизвестные, часть из которых публикуется впервые. Вместе с репродукциями художественных произведений печатается также редкая документальная графика и фотографии.
Следует также пояснить, что замысел настоящей книги возник вне прямой связи с пушкинскими юбилеями. Мои первые устные публикации по этой теме относятся еще к 1986 году, когда по приглашению М. Чудаковой я выступил на Третьих тыняновских чтениях с докладом «Памятник Пушкину в толковании Тынянова и в графике 30-х годов», а за полгода до этого принял участие в вечере в Московском Доме художника, названном его куратором, искусствоведом В. Мейландом, «В защиту Пушкина от изобразительного искусства…». (Помнится, один скульптор там же рассказал мне, что среди студентов Художественного института существовало негласное обязательство, нечто вроде клятвы Гиппократа, никогда не рисовать и не лепить Пушкина. Столь массовый и официозный характер приобрел в эти годы юбилейный социальный заказ.)
Возвращение к этой теме в последние годы объясняется не только моим желанием завершить работу[1], но и эпидемией новых памятников, в том числе и Пушкину, особенно заселивших Москву. В этой связи, как мне представляется, небесполезно вспомнить некоторые страницы истории этого явления и порожденной им мифологии.
Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романаСреди коротких заметок Ю. Н. Тынянова, затерянных в старых журналах, есть одна, которая еще не привлекла к себе особого внимания исследователей, да, может быть, и не заслуживала того, если бы не касалась главной темы творчества Тынянова — теоретика и историка литературы, и особенно Тынянова-прозаика. Речь идет о Пушкине, точнее, о памятнике Пушкину — одной из главных идей культуры 1930-х годов, идеи, в обсуждение которой был втянут и Тынянов.
Мы имеем в виду его статью «Движение», опубликованную в пушкинском номере ленинградского журнала «Звезда» (1937. № 1), приуроченном к 100-летию со дня гибели поэта. Открывался номер стихами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которые приобретали здесь несколько другой смысл, чем вкладывал в них поэт, размышляя, подобно Горацию и Державину, о суде потомков в рамках литературной традиции. Авторская исповедь, не публиковавшаяся поэтом при жизни, читалась в те юбилейные годы как риторическая ода уже другого, непушкинского времени, вроде: «Слушайте, товарищи потомки…» В юбилейном номере журнала фигурировало немало биографических и внебиографических двойников Пушкина, вплоть до однофамильцев поэта, даже не поэта, а памятника поэту. (Так, в повести Б. Лавренева фигурировали уже два Пушкина: комендант Детского Села, военмор Александр Семенович Пушкин, и памятник его великому однофамильцу в царскосельском парке.) Печатались и другие посвященные Пушкину опыты современной литературы — например, вариации на темы пушкинской прозы, скажем, повесть для кино М. Блеймана и И. Зильберштейна «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», не говоря уже о прямых «литературных двойниках» пушкинских произведений, таких, как искусная мистификация Михаила Зощенко «Шестая повесть Белкина», которую пушкинисты вполне могли выдать за вновь обнаруженную рукопись самого поэта.
Переход из одной эпохи в другую представлялся в 30-е годы прямым и легко осуществимым. От авторского словесного памятника к памятнику в «материале» — граните, мраморе или бронзе. Рядом с «нерукотворным» возникала идея нового «рукотворного» памятника, встроенного в текст новой эпохи и новой культуры. Говоря словами одной из ранних тыняновских статей, Пушкин был «выдвинут за эпоху»[2].
Сама композиция мемориального номера журнала была симметричной. Стихотворный пушкинский «Памятник», подобно тексту, выбитому на пьедестале, открывал журнал, а роль собственно памятника заменял словесный портрет: «Каким должен быть памятник Пушкину?»
Строго говоря, дискуссия на эту тему началась еще в предыдущем номере журнала (шла в трех номерах) под девизом «Памятники великим писателям». Речь шла о новом литературном плане Ленинграда, о «географии памятников», как называлась статья архитектора Е. Катонина. Скульпторы В. Козлов и Л. Шервуд, будущие участники конкурса на новый памятник, перевели разговор на Пушкина. Этот разговор был продолжен в юбилейном номере журнала, став своего рода литературной программой будущего памятника. Круг участников дискуссии был расширен. Кроме скульптора В. Лишева («Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре») слово было предоставлено народному артисту Борису Бабочкину, прославившемуся в роли Чапаева («Пушкин — победитель»), писателю В. Каверину, незадолго перед этим опубликовавшему роман о пушкинистах «Исполнение желаний» (его статья называлась «Памятник гению»). Открывался раздел статьей Юрия Тынянова.
Неудивительно, что в этой дискуссии ему была отведена роль самого авторитетного судьи. Правда, в публиковавшихся одновременно в другом ленинградском журнале — «Литературный современник» — главах тыняновского романа, которые критика считала «прологом, вступлением к великой жизни»[3], Пушкин в нем был еще «ребенком и отроком»[4], он только покидал лицей. Но именно с Тыняновым связывали надежды на создание нового литературного памятника поэту, который, как мы знаем, остался незавершенным, так же как новый скульптурный памятник Пушкину в те годы вообще не был осуществлен.
Великая жизнь оказалась недописанной Тыняновым. Что касается памятника поэту, то он так и остался в те годы на уровне идей (дело не пошло дальше конкурсных проектов), само обсуждение которых, однако, стало характерным фактом культуры 30-х годов, с их риторическим пафосом сотворения новых идеалов и переосмысления, больше отрицания, старых. Такой сдвиг в общественном сознании — от литературного образа поэта к памятнику поэту — имел свою традицию, которая сложилась к концу XIX века.
I
Русский XIX век, так жестоко расправившийся со своим первым поэтом, как бы искупал свою вину, собрав народные деньги и открыв 6 июня 1880 года в Москве памятник Пушкину, «крещенный» речами Достоевского, Тургенева, Аксакова. Возвращение поэта в русскую культуру сопровождалось актом ее духовного самосознания, складывавшегося уже в послепушкинскую эпоху. Только литература, создавшая поэзию «мести и печали», избравшая своими героями Катерину и Базарова, Соню Мармеладову и князя Мышкина, могла возвести в ранг героя поэта-гения и поэта-жертву одновременно. В один день его канонизировать и его оплакивать.
Эта нота преклонения-покаяния звучала даже у тех, кто сам непосредственно не присутствовал на пушкинских торжествах. Например, у А. А. Фета: «Исполнилось твое пророческое слово: Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик…». «Стыд» и «лик» — как далека была эта лексика от возвышенной риторики самых близких современников поэта: «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл…» — так начинал В. Кюхельбекер свои стихи к лицейской годовщине 1837 года, первой годовщине без Пушкина. Ни романтический Пушкин О. Кипренского, ни «домашний» В. Тропинина, ни мраморные бюсты С. Гальберга и И. Витали уже не отвечали в 80-е годы тогдашним представлениям о поэте. В этом смысле характерен скромный офорт Л. Дмитриева-Кавказского, современный не Пушкину, а памятнику Пушкину, где поэт выглядит старше своих лет. «Таким, может быть, был бы Пушкин, дожив до 50 лет, но едва ли он мог быть и был таким при жизни», — писал о нем еще первый историк пушкинских портретов[5]. Сдвиг в возрасте оказался сдвигом в историческом времени и был продиктован намерением продлить, «выдвинуть за эпоху» образ поэта. Об этом говорит здесь отход от иконографии поэта и присутствие на полях одного из оттисков «чужого текста» — офортной ремарки в виде наброска головы Достоевского. (Потом у Пушкина появятся и другие спутники, тоже не обязательно из числа его современников, как, уже в 30-е года нашего века, Андрей Белый на тройном портрете работы К. Петрова-Водкина[6].) Говорит о том же и образ самого поэта, так не похожий ни на один из его прижизненных портретов, как будто перед нами не Пушкин, а страдальческий лик Достоевского.
Опекушинский памятник, выдержанный в классицистических нормах, хотя и с некоторым романтическим оттенком, не поддается такому прочтению. Однако нота скорби и печали, или, как говорили современники, задумчивости, сквозит и в склоненной голове поэта, и в коротком шаге его развернутой и тоже несколько склоненной фигуры, и в жесте руки, обращенном не во внешний мир, а к себе. Отказ скульптора от многофигурной композиции и выветрившихся к тому времени аллегорий, не мраморная, а бронзовая, черная фигура одинокого поэта, как отдельного человека, дают ему еще и другой план образа — выразительный силуэт. К этому следует прибавить, что этот памятник был как бы авторизован самим поэтом. Подобный характер ему придавали две последние строфы пушкинского стихотворения, текст которых был высечен на пьедестале. С левой стороны: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…»[7], с правой: «И долго буду тем любезен я народу…»[8]. Первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» восполняла фигура поэта. Памятник Пушкину и «Памятник» Пушкина, не имеющий прямого отношения к опекушинской статуе, оказались вместе, в одном историческом времени. Неудивительно, что текст надписей читали как текст скульптурного памятника[9], который один из современников его открытия бесхитростно перефразировал: «Ты памятник себе воздвигнул превосходный…»[10]

Л. Е. Дмитриев-Кавказский. Пушкин.
Офорт с портретом-ремаркой Ф. Достоевского. 1880.

Памятник Пушкину в Москве. 1880. Страстной монастырь.
Открытка. 1990-е гг.
У памятника Пушкину в Москве.
Фото. 1990-е гг.
Прописав Пушкина напротив Страстного монастыря, в самом центре Москвы, памятник приобрел черты некоего мемориального надгробия, тем более что ни точное место рождения поэта (где-то на Немецкой улице), ни день и место его захоронения (где-то в Святых горах) не отложились в исторической памяти. Поэтому и открытие памятника в 1880 году в некотором роде возмещало несостоявшиеся в 1837 году гражданские похороны Пушкина. Или — походило на его перезахоронение. Это и позволило сохранить за скульптурным памятником роль места и роль объекта поклонения поэту, а рядом с монументом — и возникнуть литературному мифу.
Собственно литературный образ памятника Пушкину начал складываться буквально в тот же день, когда он был водружен на Тверском бульваре. Литературная и историческая жизнь памятника достроила скульптурный образ, который удовлетворял далеко не всех современников. Почти забыты теперь слова И. Н. Крамского, адресованные П. М. Третьякову после открытия монумента: «Вы находите, что фигура жалкая, по-моему нет. Это не фигура поэта, это правда, но приличный статский человек — вот и все»[11].
Однако классицистический тип созданного А. М. Опекушиным памятника сохранил за ним на многие годы (сохраняет и до сих пор) роль объекта поклонения поэту, в чем прежде всего нуждалось русское общество. Как писал в предисловии к библиографическому указателю, выпущенному через пять лет после открытия памятника, его составитель, «более тысячи сочинений, статей, стихотворений и т. п., написанных по поводу этого торжества в разных местностях нашего отечества, где только приютился печатный станок… свидетельствуют о повсеместном почитании и любви к нашему великому поэту»[12]. Среди этих сочинений было немало любительских, но они, этот второй, третий сорт литературы, канонизировали памятник «снизу», начав ту традицию поклонения и идолопоклонства, которая дожила до наших дней.
Для поэзии памятник оставался объектом канонизации Пушкина, с которым каждое новое поколение вступало в сложные взаимоотношения. Возлагало венки или пыталось разрушить идолопоклонство, обращаясь к памятнику как к двойнику поэта. Для новой русской поэзии — для символистов и особенно футуристов — такая канонизация Пушкина давала возможность переноса полемики с наследием поэта на скульптурный образ поэта. Новая русская поэзия уже не испытывала комплекса вины перед Пушкиным, и бронзовая статуя была для нее олицетворением поэта, возведенного в ранг памятника, литературного и скульптурного канона.
Вместе с тем пушкинская традиция недвижной и ожившей статуи[13], игры с памятником и игры в памятник, дает о себе знать и в поэзии нового времени. Слово сдвигает памятник с пьедестала и перемещает его в другое пространство. Примером такого романтического сплетения топографических координат памятника и биографических — поэта могут служить стихи раннего Пастернака:
Спит, как убитая, Тверская, только кончикСна высвобождая, точно ручку.К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,И дело начинает пахнуть дуэлью…Памятник Пушкину становится литературным образом, который органически врос в жизнь Москвы, стал своего рода восклицательным знаком в тексте города и укоренился в русской поэзии и прозе, в русском искусстве. В «Воспоминаниях» К. Коровина и стихах В. Хлебникова, Б. Пастернака, В. Маяковского, в прозе И. Бунина, М. Цветаевой, А. Платонова, М. Булгакова, вплоть до И. Ильфа и Е. Петрова неизменно присутствует памятник на Тверском бульваре. И. А. Бунин видит, как «вдали с благостной задумчивостью высится Пушкин» («Митина любовь», 1924), «чугунная фигура задумавшегося Пушкина» («Казимир Станиславович», 1916). В рассказе А. Платонова «Путешествие воробья» старый музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину («У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, продавцы газет из местного киоска, и все умолкали в ожидании музыки. Потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь»).
Судьба поэта наложилась на образ памятника и в простонародном истолковании, как образ городского фольклора. Характерен в этом смысле разговор Константина Коровина, позднее зафиксированный в его парижских воспоминаниях, с одним из мастеровых Большого театра, в представлениях которого все едино — реальность и легенда, вчерашний день и сегодняшний, наконец, памятник Пушкину и сам Пушкин: для него они — одно лицо (как в детской памяти Марины Цветаевой):
— Кто, — спрашиваю я, — сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?..
— Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.
— Это памятник ему, — говорю.
— Знаем, сочинитель. Его вот застрелили…
— Зря, — говорю я, — дуэль была…
— Ну да, скажут Вам… Господа-то не скажут правду-то… а мы-то знаем…
— А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли Вы? — вдруг спросил меня Василий…
— Нет, не знаю, — удивился я. — Отчего?
— А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный…»
— Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?
— Чего сказал… Там написано, на памятнике сбоку.
— Да что ты, Василий, где? Там это не написано…
— Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь…[14]

Памятник Пушкину в Москве, украшенный красными флагами. Фото.
(Искра. 1917. № 10. 12 марта).

А. В. Лентулов. Тверской бульвар. Страстной монастырь.
Масло. 1917.
«Мое поколение, — писал М. О. Гершензон, — вероятно, последнее, которое еще молодило в жизни хоть и слабые следы живого Пушкина… В Кунцеве, летом, присела возле меня ветхая старушка с котомкой и рассказала… что была она крепостная и принадлежала Нащокину Павлу Воиновичу… и, бывало, придет Александр Сергеевич Пушкин, тот, чей памятник на Тверском бульваре, и уж всегда требует, чтобы она ему прислуживала; и раз живописец стал писать его портрет, лицо написал… и живописец остальное, т. е. плечи и грудь, писал с нее…»[15]. Так по Москве, около памятника, еще ходили подлинные или мнимые тени людей, знавших самого поэта.
В ироничные 20-е годы, годы не Пушкина и не памятников, сам монумент как будто вынесен за скобки — как в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Петрова, для героев которого памятник Пушкину существовал как адрес на карте Москвы[16], а «Медный всадник» — всего лишь как повод для сатирических куплетов[17].
Монумент прижился в Москве, стал совсем своим, почти домашним («На Тверском бульваре очень к Вам привыкли», — скажет Маяковский). Из возвышенной риторики памятник перемещается в лирическую, даже сентиментальную, городскую прозу. Потом переходит в разряд «низких», или, по терминологии Ю. Н. Тынянова, «вторых», «младших» жанров. Переходит в бытовую, разговорную речь. Так возникает некий неологизм, имевший хождение в различных вариантах сокращенного словосочетания от «Памятника Пушкину». У Булгакова в «Дьяволиаде» памятник упоминается как «штука», которая «всей Москве известна», опознавательный знак мифического чичиковского предприятия — «Пампуш на Твербуле». Такое шутливое сокращение было придумано не в эпоху, названную О. Мандельштамом «эпохой Москвошвея», а имело хождение еще в гимназические времена: «Жду тебя, мой друг Карлуша, на Твербуле, у Пампуша!»[18]
Все это знаки литературной биографии и житейской истории московского памятника, которые в Ленинграде имел только «Медный всадник», тоже переживший свою полосу снижения образа. Надо ли много говорить, что в 20-е годы мысль о романе про Пушкина вряд ли приходила Тынянову в голову. Он начинал не с Пушкина, а с его окрестностей, повести о Кюхельбекере. Идее нового памятника Тынянов тогда предпочитал «Восковую персону».
Наряду с литературной, у московского памятника была своя художественная и фотографическая биография. Некоторое время она еще включала в себя Страстной монастырь, как в кубофутуристическом панно А. В. Лентулова «Тверской бульвар. Страстной монастырь» (1917), затем взгляд художников переместился на сам бульвар, где в конце 20-х годов проходили книжные базары, картина С. А. Лучишкина так и называлась — «Праздник книги. Тверской бульвар» (1927). Потом памятник возникал отдельным силуэтом, но уже без монастыря, на юбилейных литографиях П. И. Львова и П. В. Митурича. Характерно, что знаменитый мхатовский спектакль «Последние дни» (1943, декорации П. Вильямса), где, согласно замыслу М. Булгакова, сам Пушкин фигурирует лишь за сценой, завершался проекцией на театральный задник силуэта опекушинского монумента. «Чугунный человек, чуть наклонив голову, смотрел в зрительный зал»[19].
Более населенной была иконография фотографическая. Памятник непременно фигурировал и на открытках старой Москвы, и на праздничных страницах советских иллюстрированных журналов — то с воткнутыми в него красными флажками, то с воздушными шариками на первомайских праздниках. Он фигурировал как часть перестраивающейся улицы Горького в фотоальбомах «От Москвы купеческой к Москве социалистической» (1932) и «Москва реконструируется» (1939). Фотография не только документировала реальность, но и фиксировала инсценировку открытия новых пушкинских памятников. В Ленинграде — закладку нового монумента, в Москве — открытие старого монумента с новой надписью. Такова известная фотография митинга 10 февраля 1937 года, на котором, как писали газеты, присутствовало 25 тысяч человек. «Памятник освобождается от покрывала, скрывавшего текст подлинных пушкинских стихов, высеченных к юбилею на гранитном пьедестале.

С. А. Лучишкин. Праздник книги. Тверской бульвар.
Масло. 1927.

„Все на книжный базар!“ План Тверского бульвара.
(Красная нива. 1929. № 22).

Азбучная истина. Шарж.
(Бегемот. 1927. № 7).
В. Маяковский. О поэзии. М., 1939.
Обложка А. Г. Тышлера.

Тверской бульвар и Страстная площадь 5 мая 1932 г.
Фото А. М. Родченко.
Гремит „Интернационал“»[20]. Интересно сравнить эту фотографию с наброском Николая Чехова, зарисовавшего сцену подлинного открытия памятника 6 июня 1880 года. Любопытная деталь, отмеченная этим снимком, — присутствие на площади сразу нескольких Пушкиных: кроме самого монумента, на панно, установленном на колокольне Страстного монастыря, на рекламном щите у кинотеатра «Центральный», где в это время шел фильм «Юность поэта», на портретах в руках у демонстрантов. В этом смысле пушкинский митинг мало чем отличался от праздничных манифестаций на Красной площади, где к Мавзолею с фигурами вождей на трибуне демонстранты несли их же портреты. Тиражирование «главных героев» было знаком того времени, в 1937 году в их число попал и Пушкин.
Вместе с тем наряду с официальными манифестациями юбилей пробудил и искренние чувства к поэту, вызвавшие новый интерес к его памятнику. В истории «ожившей статуи» это были знаменательные дни. «Мы посвящали Пушкину стихи, сочинения, мечты, — вспоминала позднее тогдашняя школьница. — Пушкин снился нам. Мы говорили с ним как с живым… Пушкин, Пушкин, Пушкин… Встретив новый год, мы отправились на Тверской бульвар… Мы читали Пушкину его стихи. Без конца читали»[21].
Именно эта мифологическая аура делала московский памятник фактом не столько истории русской скульптуры, сколько фактом русской, а потом и советской культуры.
II
Мы совершили такой пространный экскурс в историю московского памятника и должны будем еще вернуться к нему не только с целью расширить рамки дискуссии, очерченной ленинградскими участниками и ленинградскими идеями. Не только потому, что ленинградец Иосиф Бродский, думая о Пушкине, вспоминал московский памятник:
Пустой бульвар.И пение метели.И памятник убитому поэту.Пустой бульвар.И пение метели.И голова опущена устало…Прямо или за скобками дискуссии о предполагаемом памятнике в Ленинграде фигурировала и статуя Пушкина на Тверском бульваре. Фигурировала отнюдь не в качестве образца для подражания. Так, называя московский памятник «равнодушным», В. Каверин писал: «Перед нами скорее опоэтизированный чиновник, нежели поэт», почти дословно повторяя слова, сказанные в свое время Крамским. Опекушинский памятник не удовлетворял в 1930-е годы и тех, кто относил его к лучшим из поставленных до революции, например Бориса Бабочкина, который говорил, что этот монумент не дает «ясного представления о Пушкине, его эпохе, его творениях». В отличие от других, Тынянов не упоминает прямо Опекушина, но его слова — «величавая статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента — все это враждебно представлению о Пушкине», — можно прочесть и как характеристику опекушинского памятника, особенно если вспомнить тыняновское отношение к наследию XIX века, например, к гоголевским иллюстрациям Агина или Боклевского[22]. К тыняновской характеристике «застывшего и неподвижного» присоединится и Виссарион Саянов, прямо адресовав ее «статуе на Пушкинской площади в Москве».
Нетрудно заметить в этих нападках дань традиционной ревности Петербурга к памяти поэта. Еще на петербургских торжествах 1880 года в связи с открытием памятника в Москве Д. Минаев выступил со стихами, в которых были строчки, повторявшиеся как рефрен с незначительными вариациями, но с нарастающей интонацией:
Не отдадим Москве поэта:Он наш не менее Москвы!..…………………………………………Нет, мы не отдадим поэта:Он наш не менее Москвы!…………………………………………Так нам не уступать поэта?Он наш не менее Москвы!…………………………………………Нет, не уступим мы поэта:Он наш не менее Москвы!(Эти чувства остались неутоленными и много позднее; в канун столетия со дня гибели поэта Е. Полонская писала: «Могилы его в этом городе нет, / Но кровь его в городе нашем».) Тогда же, после чтения стихов Д. И. Минаева, возникла уже не первый раз мысль «выразить свое уважение к Пушкину достойным памятником на одной из площадей столицы»[23]. Однако, действительно неудачный петербургский памятник поэту, установленный по одной из ранних моделей того же Опекушина в 1884 году, через четыре года после московского, стал еще в свое время объектом сатиры. Неудивительно, что теперь, при обсуждении вопроса «Каким должен быть памятник Пушкину?» старая петербургская статуя у одних вызывала «недоуменное раздражение» (Е. Катонин), на других производила «жалкое впечатление» (В. Каверин), третьи говорили, что она «не делает особенной чести русской скульптуре», и предлагали перенести ее в Михайловское (В. Саянов). Такое отношение к петербургскому памятнику неизбежно проецировалось на московскую статую, некоторые вообще не делали между ними различия. «Это памятники в узком значении этого слова, — писал В. Лишев, — т. е. фигура поэта, лишь напоминающая о том, что был такой поэт Пушкин, и выглядел он внешне примерно так, как изобразил его скульптор».

Митинг на Пушкинской площади в Москве 10 февраля 1937 г.
Фото.

Митинг на Пушкинской площади в Москве 10 февраля 1937 г.
Фото.

Открытие памятника Пушкину в Москве 6 июня 1980 г.
Рисунок Н. П. Чехова.
Стремление развенчать старый памятник (памятники) Пушкину было продиктовано прежде всего пафосом конструирования новой модели монумента поэту, согласно идеалам новой эпохи. Особенно радикален в этом отношении был скульптор Л. В. Шервуд, рассказывавший о почти неизвестном по другим источникам замысле сооружения в Москве (при слиянии Яузы и Москвы-реки) по инициативе М. Горького Дворца мировой литературы, перед которым предполагалось установить грандиозный многофигурный памятник поэту, после чего, по словам скульптора, «неудачный памятник Пушкину на Тверском бульваре будет снят».
В спорах о будущем памятнике, носивших достаточно отвлеченный характер (однофигурный или многофигурный, барочный в духе Фальконе или классичный в манере Мартоса) и скорее посвященных тому, каким не должен быть памятник, самую решительную позицию занял исполнитель роли Чапаева. Бабочкин выступал как бы от имени своего героя: «…новый памятник Пушкина должен показать поэта не в его время, а в наши дни… должен изображать самого Пушкина среди народностей СССР». В этом Чапаев оказался не одинок. На Всесоюзной пушкинской выставке, открывшейся в феврале 1937 года в Историческом музее, экспонировалась картина Н. Шестопалова «Комсомольцы подносят цветы к памятнику Пушкина в селе Остафьево», где поэта почти не видно, а на переднем плане помещены комсомольцы и цветы. Скульптор Б. Яковлев был скромнее, на выставку конкурсных проектов в конце 1938 года он представил эскиз, на котором у пьедестала памятника Пушкину была изображена фигурка пионера.
Эта попытка, точнее социальный заказ, продемонстрировать связь времен более красочно обнаружилась в селе Михайловском в карнавальной ситуации 37-го года. Как рассказывает Виктор Шкловский,
колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. У нее был такой рост, она была так красива, что выглядело это хорошо. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородатый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова — капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петькой ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия — ведь про Чапаева Пушкин не писал? — А для нас это все одно, — ответил мне колхозник[24].
Ключевым в дискуссии был вопрос о месте будущего памятника, от чего, собственно, и зависел его характер. Тут мнения разделились. Одни склонялись к скверу возле Академии художеств, другие говорили о новом районе города, третьи — о площади перед Русским музеем (где и будет установлен в 1957 году памятник работы М. Аникушина). Тынянов выдвинул идею выноса памятника на Неву, примерно о том же говорил Каверин, предлагая подумать о Пушкинской площади перед зданием Биржи на Стрелке Васильевского острова. Юбилейный пушкинский комитет, склонявшийся поначалу к скверу у Академии художеств, решил в пользу Биржи, где и была произведена торжественная закладка камня. Памятник должен был быть обращен к Неве, водружен на камень, чтобы быть не ниже окружающих его Ростральных колонн, словом, стать чем-то вроде нового «Медного всадника». Однако из этого проекта ничего не получилось. Неудачи двух конкурсов (осень 1937 и конец 1938 года) и архитектурные трудности места не позволили осуществить этот грандиозный замысел[25]. Лучшим был признан проект московского скульптора И. Шадра, однако памятник был установлен много позднее, в другом месте и другим скульптором[26].
Но здесь нас интересует другое — идеи переселения памятника с места на место, перекраивание старого петербургского текста. Если в Ленинграде это происходило на бумаге, в рамках дискуссии, то в Москве это случилось с реальным памятником. Все с тем же памятником на Тверском бульваре.
III
История памятника Пушкину, вокруг идеи которого, как мы видели, схлестнулось столько страстей, не была завершена. В ее длинной биографии оказались более исторически значимы не новые памятники поэту, а повороты судьбы все той же старой статуи на Тверском бульваре.
В августе 1950 года Пушкин «перебрался» на другую, противоположную сторону улицы Горького (хотя решение о его «переселении» было принято еще в 1944 году). То, что Пушкин проделал некогда с памятником Петру, случилось с его собственным памятником. Но если у Пушкина Медный всадник все же только литературный образ, то переезд памятника поэту был вполне конкретным делом, своего рода переселением на новую квартиру, что обычно связывали с реконструкцией города[27].
Однако в основе переселения памятника лежала все та же, осознанная или неосознанная, идея вписать памятник в новый контекст эпохи, для чего требовалось сменить историческую декорацию памятника на современную.
Собственно говоря, вопрос о переезде был предрешен еще в 30-е годы, годы спора на тему «Каким должен быть памятник Пушкину». Одновременно с реконструкцией главной улицы города менялся и ее текст. Вспомним, что Тверская улица была переименована в улицу Горького еще в 1932 году, а через пять лет Страстная площадь — в Пушкинскую площадь (монастырь, где служили панихиду по поэту в день открытия памятника в 1880 году, был разобран). Триумфальная площадь стала именоваться площадью Маяковского еще раньше, в 1935 году.
Изменения произошли и с будущими соседями Пушкина. Рядом с «домом Фамусова» еще в середине 20-х годов вырос дом «Известий», казавшийся в то время чудом и гигантом конструктивизма. Потом, уже при Пушкине (памятнике Пушкину), дом Фамусова снесли, а громадный козырек кинотеатра «Россия» (на 2500 мест) занял место сценического задника статуи поэта.
С переездом характер памятника изменился даже чисто в скульптурном смысле. Не говоря уже о том, что он оказался на другом, более высоком берегу улицы и для увеличения его высоты был поставлен на специально бетонированную основу. Как уже отмечено исследователями скульптуры, «на своем первоначальном месте памятник производил более интимное и лирическое впечатление. В настоящее время после его постановки на новом месте, в центре обширной Пушкинской площади, он стал больше главенствовать в пространстве и выглядеть торжественней. Повернутый на 180 градусов, памятник потерял выразительность в силуэте…»[28].
В создании ауры памятника немалую роль играет его биография, его духовное пространство. В случае с Пушкиным оно сильно изменилось. Памятник не просто переехал на другую сторону улицы, на какие-то 50–60 метров, а из 1880 года шагнул в 1950-й, из одной эпохи — в другую.
Переезд Пушкина словно стал сигналом для заселения улицы другими монументами, работы уже современных скульпторов. Снова обратимся к хронологии. Через год после переселения Пушкина справа от него, у Белорусского вокзала, водружается памятник Горькому, через четыре года — слева — памятник Юрию Долгорукому, через восемь — справа — Маяковскому, который как будто предвидел это: «…нам стоять почти что рядом». Теперь к ним прибавился еще и маршал Жуков.
Это горизонтальный срез окружения поэта по главной магистрали. Но соседи его менялись и по кольцу старых московских бульваров. Еще в 1936 году был объявлен конкурс на новый памятник Н. В. Гоголю в Москве, ввиду того, что памятники. А. Андреева, установленный в начале века на Гоголевском бульваре, «не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как пессимиста и мистика»[29]. Но новый Гоголь, работы Н. В. Томского, сбросивший с себя шинель и вставший в полный рост, наподобие Пушкину, был установлен только через два года после переезда его памятника. Пушкин на новом месте и новый Гоголь сделались не столько поэтическими и историческими знаками прогулок по милым сердцу москвичей бульварам, сколько парадными портретами из хрестоматии по истории русской литературы. («И Гоголь не тот, и Пушкин не там», — замечали современники[30].)
Но вернемся на улицу Горького. Еще в начале 80-х годов казалось, что «у нас скульптуре обеспечен резонанс площади, у нас в бронзу и камень будет облечена история»[31]. В известном смысле так и произошло. Попав почти на красную линию улицы Горького, теперь опять Тверской, в новый, чужой контекст, фигура поэта возглавила собой аллею монументов, которые выстроились вокруг него. Подобно высотным зданиям, они с некоторым запозданием, как это свойственно памятникам, завершили целую историческую эпоху. Это изменило и характер и контекст памятника. Вокруг него складывается новая жизнь и новая мифология, в которой есть своя поэтическая память, не без ностальгии о «Пампуше у Твербуля»:
На фоне Пушкина снимается семейство.Фотограф щелкает, и птичка вылетает…Все счеты кончены, и кончены все споры.Тверская улица течет, куда не знает…Так идеи дискуссии, которая была вроде очерчена чисто ленинградскими проблемами, по-своему отозвались и в Москве и растянулись на многие годы. Сегодня, читая ее материалы, не столько задаешься риторическим вопросом, «каким должен быть памятник Пушкину», сколько лучше понимаешь, каким он не должен быть.
I. Каким должен быть памятник Пушкину
Дискуссия в журнале «Звезда»ПРОГРАММА ДИСКУССИИ
ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЯМ
(«Звезда». 1936. № 12)
Н. Э. Радлов. Заметки о памятниках.
В. В. Козлов. Памятник Пушкину Е. И. Катонин. География памятников.
Л. В. Шервуд. Гранит и бронза увековечат их образы. Слово скульптора[32].
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
(«Звезда». 1937. № 1)
Ю. Тынянов. Движение.
Б. А. Бабочкин. Пушкин-победитель.
В. Каверин. Памятник гению.
В. В. Лишев. Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
(«Звезда». 1937. № 4)
В. Саянов. Величие и монументальность.
Л. А. Ильин. Он должен быть прост, как стихи Пушкина.
ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЯМ
Советское изобразительное искусство призвано увековечить для народных масс черты великих людей прошлого. Исключительное внимание, уделяемое партией и правительством литературе, сказалось, между прочим, и в том, что первые памятники будут воздвигнуты именно художникам слова.
Уже опубликованы правительственные постановления, согласно которым в Горьком, Москве и Ленинграде будут сооружены памятники Алексею Максимовичу. Монумент Пушкина будет воздвигнут в Ленинграде. Объявлен конкурс на памятник Гоголю в Москве. В дальнейшем скульптура призвана увековечить память Белинского, Чернышевского и Добролюбова.
Помимо своего огромного культурно-политического значения, решения правительства будут иметь следствием мощный разворот советской скульптуры, которая должна будет выполнить ряд больших и ответственных заказов. Естественно, что предстоящие скульптурные конкурсы, к участию в которых привлекаются все лучшие художественные силы страны, вызывают глубокий интерес среди деятелей изобразительных искусств.
На эту тему читатель найдет высказывания скульпторов Л. В. Шервуда, В. В. Козлова, архитектора Е. И. Катонина, художника Н. Э. Радлова, А. Г. Яцевича.
Редакция «Звезды» предлагает высказаться широкой литературной общественности и читателям «Звезды» по этому важнейшему вопросу советского искусства.
Н. Э. Радлов
(зам. председателя ленинградского Союза советских художников)
ЗАМЕТКИ О ПАМЯТНИКАХ
В Ленинграде революция, при всей ненависти народных масс к старому режиму, сохранила памятники царей. Вот лучшее доказательство высокой художественной ценности этих монументов, над которыми работали великие мастера!
Предстоящие выступления наших советских скульпторов будут поэтому особенно ответственными и трудными. Нам нужно сделать не хуже! К счастью, Ленинград располагает в настоящее время довольно значительным числом талантливых ваятелей, которые, как известно, работают по всему Советскому Союзу. Я имею в виду таких мастеров, как Матвеев, Манизер, Лишев, Шервуд, Томский, Козлов, Синайский, Пинчук. Поэтому можно надеяться, что Ленинград сумеет достойным образом увековечить память своих великих писателей.
Мне кажется, что когда мы говорим о памятниках великих людей, то нужно делить их на две категории. С обликом некоторых связана в нашем представлении определенная, хотя и неписаная традиция. Таков, например, Пушкин, с именем которого ассоциируются Нева, Адмиралтейство, Зимняя канавка, вообще старый Петербург. Подобный памятник желательно трактовать монументально и традиционно. В других случаях допустимы и желательны поиски новых форм выражения.
Я не думаю, что следовало бы сделать композицию, включающую и статую Пушкина, и героев произведений. Фигура Пушкина должна говорить сама за себя. На пьедестале вполне уместна надпись-цитата. Я предложил бы цитату из «Памятника», но пусть выскажутся об этом подробно наши поэты и писатели.
Что является основным в личности и творчестве Пушкина? Конечно, вера в жизнь и природный оптимизм. Этим он нам особенно близок и дорог.
Задумчивый, грустный Пушкин, сидящий на скамейке, — памятник в Детском Селе — неплох, но это «локальный», необобщенный памятник. А в Ленинграде нам нужно другое!
Кстати, в связи с юбилеем поэта пора бы переименовать Детское Село в Пушкинское Село. Детские учреждения, преобладавшие здесь в начале революции, давно уже перестали определять физиономию этого дачного города.
Мне хотелось бы также, чтобы поскорее осуществилось хорошее предложение Н. С. Тихонова — Набережная Медного всадника.
Максим Горький живет в моем сознании прежде всего как великий учитель, как писатель, всем своим творчеством призывавший к новой жизни, учивший нас, как следует жить. Эту черту должен подчеркнуть в его изображении тот скульптор, на долю которого выпадет честь увековечить в Ленинграде образ Алексея Максимовича.
Много спорят относительно того, где следует быть памятнику Максима Горького. Я лично стою за самое простое решение — на углу проспекта имени Горького (бывший Кронверкский) и Кировского проспекта. В нескольких шагах отсюда жил Алексей Максимович, здесь он часто прогуливался. Место это чрезвычайно ответственное в архитектурном отношении. Памятник будет виден и со стороны Кировского моста, и с обоих проспектов. Очень важно, чтобы памятник был ориентирован на юг и освещался лучами солнца. От этого скульптура весьма выигрывает, а в данном случае такое условие налицо.
Мы так быстро растем в культурном и материальном отношении, что, вероятно, недалек уже день, когда можно будет говорить и о памятниках литературным героям. Думаю, что такая идея ни с чьей стороны не встретит возражений. Разве можно оспорить, что образ, скажем, Евгения Онегина в тысячу раз реальнее и живее, чем миллионы его живых, подлинных современников? Между прочим, идея эта — не новость. Мне известны три таких литературных памятника: Дон-Кихоту — на его родине, в Ламанче, Д?Артаньяну — на юге Франции, в Гаскони, и… Шерлоку Холмсу — в Англии.
Правда, классическая русская литература не создала положительных, с нашей точки зрения, фигур общенародного значения. На то были причины. Но ведь нам близки, как родные, многие образы мировой литературы!
Справедливость требует расширить тему, предложенную мне редакцией «Звезды». Мы обязаны говорить не только о памятниках писателей, но также и о великих художниках прошлого. Мы, советские художники, совершенно уверены, что в скором времени практически встанет вопрос о памятниках и бюстах таких людей, как Александр Иванов, Репин, Суриков, К. Брюллов, В. Серов, Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин и др.
У нас в Ленинграде есть превосходное место для того, чтобы создать импозантную, впечатляющую аллею бюстов великих людей. Это проспект Пролетарской победы на Васильевском острове, где так много зелени и простора.
Подобное оформление этой магистрали достойно советской культуры, усвоившей все лучшее из художественного наследия прошлого.
В. В. Козлов
(скульптор)
ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
В 20-е годы я работал секретарем, а затем председателем Секции скульпторов Союза работников искусств. В те годы Гражданской войны и разрухи, по мысли Ленина, были поставлены временные памятники многим великим людям.
Мы, скульпторы и художники, надеялись, что рано или поздно удастся наиболее значительные произведения «монументальной пропаганды» отлить в бронзе. У группы скульпторов в те годы возникла мысль в числе других памятников соорудить в Ленинграде памятник Пушкину.
С той поры вплоть до 1935 года я вынашиваю идею об этом монументе величайшему русскому поэту. Если не считать участия моего в конкурсе на памятник Пушкину в селе Михайловском, который был объявлен в 1924 году, вплотную к работе над памятником я подошел лишь в конце 1935 года, когда передо мной уже как-то конкретно возник образ Пушкина.
Как я себе представляю этот памятник? Прежде всего следует говорить о месте, где он будет установлен. Я лично таким наиболее подходящим для сооружения памятника местом считаю сквер на площади Лассаля.

В. В. Козлов. Пушкин на прогулке. Гипс. 1936.
(Всесоюзная художественная выставка 1937 г.).
Памятник Пушкину среди всего архитектурного ансамбля, связанного с годами жизни Пушкина, памятник в окружении домов, где Пушкин бывал и где жили его друзья Вьельгорский, Карамзин, Вяземский, памятник в рамке зелени на фоне прекрасной россиевской архитектуры, ныне Русского музея, будет особенно уместен.
Эта площадь обладает также особенно выгодным для монумента освещением. От восхода и до захода солнца монумент будет освещен наилучшим образом, а ведь, как известно, освещение играет весьма значительную роль в скульптуре.
Как я представляю себе памятник Пушкину? Вот он, волнующийся, стремительный, возмущенный теми тисками и путами, которыми пытались связать его мысли и творчество, стремящийся вырваться из окружающей его атмосферы жандармской николаевской России, наконец смело двигающийся в века, — таким мне представляется Пушкин, таким я хочу изобразить его в своем памятнике. Во всей композиции монумента должны чувствоваться легкость и гармония, свойственные стилю пушкинского творчества.
Е. И. Катонин
(архитектор-художник)
ГЕОГРАФИЯ ПАМЯТНИКОВ
Пройдет немного лет — и наш Ленинград станет еще красивее. Просторные площади, обрамленные монументальными общественными зданиями, раскинутся к югу от нынешнего города. Широкие магистрали соединят их со старым городом, с берегами Невы и Финского залива. Новый городской центр, с Дворцом Ленинградского совета в качестве архитектурной доминанты, вырастет к югу от Электросилы, на Пулковском меридиане.
Это не мечта, а точный план, тщательно разработанный и уже осуществляемый.
Не подлежит сомнению, что скульптура, являющаяся одной из важных составных частей так называемого «петербургского пейзажа», призвана сыграть еще большую роль в новом Ленинграде. Да и в старом городе есть также немало незавершенных ансамблей, которые ждут монументов великих людей и великих событий.
Ленинград был и остается городом первоклассных художественных памятников, которые сделали бы честь любой столице мира. К сожалению, «ассортимент» их недостаточно разнообразен.
Что мы имеем в настоящее время? Исключительные по силе памятники Петру (Фальконета и Растрелли), первоклассные статуи полководцев перед Казанским собором, прекрасный аллегорический памятник Суворову у въезда на Кировский мост, острую реалистическую фигуру Александра III да еще несколько царских памятников среднего качества.
Что же касается монументов великих писателей, композиторов, художников, ученых и архитекторов, прославивших на протяжении двух веков наш город, то в этой области эпоха царизма почти ничего не создала.
Статуя Пушкина в сквере на Пушкинской улице вызывает только раздраженное недоумение. Памятник Глинки возле Консерватории весьма посредственен в своем натурализме. Остается упомянуть разве только о неплохом памятнике Крылова в Летнем саду. Но скульптура эта интимная, связанная с окружающей интимной обстановкой.
Итак, в деле увековечения образов великих людей, трудившихся в нашем городе, перед нами открывается широкий простор. А рост нашей советской культуры и крепнущее материальное благополучие страны и нашего города — все говорит за то, что мы стоим на пороге расцвета скульптуры и зодчества.
Я должен заявить на этих страницах — на страницах литературного журнала, — что ни мне, ни другим работникам изобразительных и пространственных искусств ничего не известно о том, как именно представляют себе ленинградские литераторы будущие памятники великих писателей. Естественно, что, анализируя эту тему, я подхожу к ней с точки зрения архитектора, участвующего в планировке нового Ленинграда. Я буду говорить главным образом о «географии» памятников.
Начну с Пушкина. Памятник поэту, который как никто воспел красоту нашего города, его строгий, стройный вид, должен, разумеется, стоять в одном из старых центральных кварталов. Но где именно?

А. М. Опекушин. Памятник Пушкину в Санкт-Петербурге. 1884.
Фото И. А. Пальмина.
Ленинградский Пушкинский комитет склоняется к тому, чтобы воздвигнуть памятник поэту в Румянцевском сквере, возле Академии художеств. Красивый обелиск работы архитектора Бренна, находящийся сейчас внутри сквера, предполагается перенести в какое-нибудь другое подходящее место. Надо признать, что Румянцевский сквер, глядящий на Неву и перекликающийся с Медным всадником, — это, конечно, интересное место. Но есть, на мой взгляд, еще лучшая площадка, более посещаемая и ближе связанная с биографией поэта. Я имею в виду площадь Лассаля. Она и центральная, и вместе с тем интимная по своему духу. Статуя Пушкина, обращенная лицом и видимая с проспекта 25 Октября, имела бы исключительно спокойную и гармоничную «кулису» — здание Русского музея, кстати построенного современником Пушкина, архитектором Росси.
Зеленый массив сквера и низкие фонтаны, которые здесь хорошо было бы устроить, создали бы для памятника великолепную раму. Ближайшие здания — Малый оперный театр и Филармония — легко ассоциируются с творчеством Пушкина. Между прочим, поэт часто посещал два доныне сохранившихся на этой площади дома, бывая у музыканта Вьельгорского и у Карамзиной. Все эти соображения надо еще раз хорошенько взвесить.
Каким должен быть памятник Пушкина? В условиях города скульптор не может не подчиняться окружающей архитектуре. Масштабность памятника, его соотношение с окружающим пространством — вот одно из главных условий его художественного воздействия. Разумеется, дело заключается не просто в величине фигуры и пьедестала: Медный всадник невелик, но масштабен, тогда как огромный памятник Николаю I явно не вяжется с масштабами площади Воровского.
Далее. Застывшие официальные фигуры приелись. От памятника, особенно пушкинского, мы ждем динамичности и движения. Лично мне хотелось бы увидеть «взволнованного» Пушкина, поэта, взволнованного своей творческой мечтой.
Перейдем к памятнику Максиму Горькому, который должен быть сооружен в Ленинграде по решению правительства. Статуя великого пролетарского писателя должна, на мой взгляд, начать серию монументов нового Ленинграда. План развития города подсказывает достойное место.
Рядом с площадью Дворца Ленинградского совета, на которой предположен монумент Ленина, будет площадь Ленинградской Большой оперы. Здесь, в самом центре нового Ленинграда, и должен стоять памятник Горького.
Для скульптора образ Максима Горького является необычайно благодарной темой. Высокая фигура, сильная лепка черт лица, общая выразительность — все это должно вдохновить ваятелей и многое им подсказать.
Поговорим теперь о памятниках других великих писателей.
Для памятника Чернышевскому я предлагаю Чернышеву площадь, которую, к слову сказать, давно пора переименовать вместе с прилегающим к ней переулком: не Чернышев (кажется, какой-то генерал?), а философ и критик Чернышевский. Незначительный бюст Ломоносова, стоящий в сквере перед «Красной газетой», следовало бы, ввиду его интимного характера, перенести на Фарфоровый завод имени Ломоносова или в район василеостровских научных учреждений.
Для Добролюбова мы, планировщики города, считаем особенно подходящей «стрелку», на пересечении проспекта Добролюбова и проспекта К. Либкнехта. В недалеком будущем в этом районе будут проведены большие работы по благоустройству. На фоне парка, питомника и реки памятник Добролюбова будет выглядеть очень хорошо.
Нам в Ленинграде пора подумать и о достойном памятнике Гоголю. Творчество Гоголя тесно связало, мне кажется, со старыми мещанскими кварталами Петербурга, с бытом маленьких людей. Отсюда вытекает предложение: закрепить за памятником Гоголя Сенную площадь, которой по плану развития Ленинграда предстоит освободиться от рынка и превратиться в просторное благоустроенное пространство.
В этой своей статье я хотел только наметить некоторые общие контуры всей проблемы и отнюдь не исчерпал темы, которая глубоко волнует скульпторов, архитекторов и художников.
Было бы желательно, чтобы писатели и литературоведы углубили эту тему и подробно высказали свои соображения. Известно, что скульпторы наши часто работают в содружестве с архитекторами. Почему бы не создать в некоторых случаях «триумвираты»: скульптор — архитектор — писатель? Вдохновителем скульптора может и должен быть писатель каждый раз, когда речь идет о памятнике великому художнику слова и мысли.
От наших писателей скульпторы вправе ожидать творческой помощи, деловых указаний и плодотворных идей.
Л. В. Шервуд
(скульптор)
ГРАНИТ И БРОНЗА УВЕКОВЕЧАТ ИХ ОБРАЗЫ
Наш прекрасный Ленинград — город неиссякаемой творческой энергии — вместе с тем является городом-памятником, городом-музеем.
По старым гранитным камням Невской набережной некогда бродил вдохновенный Пушкин, любуясь чугунно-бронзовым ажуром решетки Летнего сада. На другой стороне Невы высились, как высятся и сейчас, серые бастионы Петропавловской крепости, страшной тюрьмы нескольких поколений русских революционеров. Только небольшая площадь отделяет крепость от маленького балкона в каменной ограде, балкона, с которого в грозовой 17-й год звучали пламенные слова Ленина. А дальше, если пройти квартал по ныне Кировскому проспекту, можно увидеть большой дом, где жил великий друг великих гениев пролетариата Ленина и Сталина — Алексей Максимович Горький.
И таких памятников немало в нашем городе, неразрывно связанном с жизнью и трудом многих великих политиков, писателей, ученых, художников. Сейчас настала пора в бронзе и граните запечатлеть их образы, дорогие каждому гражданину нашего города, нашей прекрасной страны.
Постановлением правительства решено воздвигнуть в Ленинграде памятники Пушкину, Горькому, академику Павлову. В будущем намечено также поставить памятники Чернышевскому, Добролюбову и Белинскому. И первый вопрос, который возникает при мысли об этих монументах, — как их делать?
Насколько мне известно, правительственной комиссией по сооружению памятников Пушкину в Москве и Ленинграде решено в Ленинграде соорудить однофигурный монумент. Мне кажется, что такое решение несколько ограничивает творческие возможности скульпторов. Вот, например, в Москве, по идее Горького, будет строиться на холме при слиянии Яузы и Москва-реки Дворец мировой литературы. Перед этим дворцом предполагается соорудить грандиозный памятник Пушкину, где фигура поэта будет дана в окружении персонажей его произведений. Памятник будет сооружен значительных размеров, и, после того как работы по его сооружению будут закончены, неудачный памятник Пушкину на Тверском бульваре будет снят.

Л. В. Шервуд. Пушкин.
Гипс. 1902.
Возможно, что и ленинградские скульпторы хотели бы представить не однофигурные проекты, а дать Пушкина либо в окружении его друзей, либо в окружении персонажей его произведений, либо, наконец, в какой-то иной, но многофигурной композиции.
Кроме памятника Пушкину в Ленинграде будет сооружен памятник великому пролетарскому писателю Алексею Максимовичу Горькому. Наиболее подходящими местами для него я считаю Центральный парк культуры и отдыха и площадь перед новым Дворцом советов. Место в ЦПКиО особенно подходит, потому что Горький был тесно связан с рабочими массами, он был одним из тех людей, которые вызвали к жизни творческую и художественную самодеятельность многомиллионных масс трудящихся.
Для скульптора Горький представляет собой благодарную, но и трудную фигуру. Он не укладывается просто в характерную статую, черты его лица и фигура не дают мотива для решения памятника в какой-то классической форме. Памятник Горькому требует совсем иного, нового решения. И совершенно очевидно, что он должен быть динамичен. Горький всю жизнь был в непрестанном движении, в непрестанном творческом горении, и давать его фигуру в статике, положении покоя — невозможно.
Есть предложение поставить памятник Горькому в маленьком сквере на углу Кировского и Горьковского проспектов. Это неудачное место. При выборе его обычно основываются на том, что Горький жил неподалеку, на бывшем Кронверкском проспекте. Но это лишь маленький эпизод из его жизни. Горький бродил по странам, по миру, и не следует памятник ему связывать с каким-то местом, где он жил, к тому же в течение не очень продолжительного времени.
Из великих писателей намечено еще запечатлеть в бронзе образы Чернышевского, Добролюбова и Белинского. Мне кажется, что не нужно памятники этим писателям ставить в различных местах нашего города. Вот Горький предложил в свое время установить целый ряд памятников крупнейшим писателям мира около Дворца мировой литературы в Москве. Я думаю, что при планировке нового большого Ленинграда следовало бы предусмотреть сооружение Дворца искусств и около него установить ряд памятников деятелям литературы и искусства.
СЛОВО СКУЛЬПТОРА
ЦК партии постановил воздвигнуть памятник Пушкину в Москве и в Ленинграде. Мне выпала честь участвовать в закрытом конкурсе проектов памятника для Москвы. Памятник предполагается многофигурный, выражающий всю мощь литературной культуры и богатство образов Пушкина. Место для памятника намечается на холме у слияния рек Москвы и Яузы.
Задача создания монументального памятника Пушкину очень трудна. Я включился в конкурс, но побаиваюсь: найду ли нужные и значительные пластические образы?
Мне кажется, что по поводу всех предыдущих выступлений нужно дать небольшое разъяснение.
Пушкин настолько рельефен, настолько живописен, насыщен жизнью, плотью, кровью, что он сам себя иллюстрирует. Рядом с его образами как-то нельзя представить себе иллюстрацию. Он сам уже иллюстрировал себя. Его образы представляются так ярко, что иллюстрации — это плохой перевод, неравноценный Пушкину.
Пушкин — гений. Найти такого гения, который в рисунке был бы равноценен Пушкину, сейчас невозможно. Трудно передать эту мощь, эти образы, былинные и лирические. Когда я как скульптор думаю об образах Пушкина, то у меня мысли сводятся к глыбам гранита и мрамора. Лирическую часть произведений Пушкина я думаю охарактеризовать тонкими бронзовыми барельефами, в которых можно рассказать о целом ряде лирических переживаний.

В. Н. Домогацкий. Пушкин. Бюст.
Гипс. 1926.
Я хочу сказать, что только такими путями вы приведете образы Пушкина к монументальной стихии, только так возможно дать сильную, значительную форму.
Я уже работал над Пушкиным в скульптуре, это было в 1902 году. Когда Бенуа открывал выставку, посвященную юбилею Пушкина, помещенную в реставрированной квартире Пушкина, то он взял бюст Пушкина моей работы как наиболее отвечающий его представлениям о Пушкине. Это был первый, недоработанный экземпляр. История моей работы над этим бюстом очень своеобразна: вернулся я в то время из Парижа, от Родена, и ко мне обратился инженер Шевалев, с которым я работал за Невской заставой, с просьбой сделать бюст Пушкина для выстроенного тогда народного театра и библиотеки.
Охота работать у меня была страшная. Тема и назначение работы воодушевляли. А условия работы были вот какие — было ассигновано 75 рублей. За эти деньги я работал три месяца. Я искал в Пушкине роденовских принципов, я вглядывался в профиль Пушкина, мне чудился в нем кусок пламени, и это дало мне основу для пластической темы. Насколько это удалось мне — не знаю.
Условия нашей работы сейчас, конечно, несравнимы с прежними. Есть все основания надеяться, что сейчас скульпторы добьются лучших результатов.
Юрий Тынянов
ДВИЖЕНИЕ
Сохранился и хорошо известен собственноручный рисунок Пушкина: поэт и Евгений Онегин беседуют, опершись на гранитный парапет Невской набережной.
Вопреки шутливой эпиграмме по поводу неудачного воспроизведения этого рисунка, он предназначался Пушкиным для серьезной иллюстрации. В этом наброске ярко отражены две черты Пушкина: его отношение к своим литературным героям — как к живым людям, к друзьям — и к своему любимому городу.
Пусть подумает над этим рисунком каждый художник из числа тех, кому предстоит работать над памятником поэту в Ленинграде.
В отличие от многих других поэтов Пушкин целиком осмыслил весь петербургский пейзаж. И здесь опять-таки характерная черта его творчества. Описание природы или города не было для него самодовлеющей апелляцией к «красоте». Он осмыслял места исторически.
В Петербурге — и это ответ на вопрос о месте для памятника — ближе всего Пушкину уходящая вдаль Нева, связанная у него с мыслями об основании города («На берегу пустынных волн…»), набережные, сооружение которых было в его время важным историческим символом («Береговой ее гранит…») и, конечно, полный движения Медный всадник — опять-таки у воды («Не так ли ты над самой бездной… Россию поднял на дыбы?»).
Итак, памятник Пушкину должен стоять у Невы, на главной архитектурной магистрали Ленинграда. Это и есть тот «центр», который мы ищем для пушкинского монумента.
Попытаемся уточнить место. Сквер возле Академии художеств, о котором сейчас много говорят, вызывает два возражения. Из них первое — близость самой Академии художеств, здания в стиле условно-красивого, спокойного классицизма (архитектор Деламот), со сфинксами, поставленными в эпоху Николая I. Это отрезок очень определенного стиля, и можно опасаться, что памятник здесь будет выглядеть замкнутым, не сливающимся с городом. Лучше, мне кажется, выбрать место Александровской эпохи — эпохи декабристов. Стоит, например, подумать о соседстве с Адмиралтейством — великолепным архитектурным произведением старшего современника Пушкина — Захарова.
Второе возражение относится к садовому древесному окружению памятника. Мы привыкли воспринимать садовые памятники как украшения. А нам нужен памятник в самой гуще города не отодвинутый, а участвующий в его жизни, как участвовал в истории России и Петербурга великий поэт.
Я не знаток архитектуры и планировки городов, но мне кажется, что выход может быть найден, если построить на Университетской набережной или в другом подходящем месте каменный мысок и сделать его площадкой для памятника.
Этим было бы достигнуто необходимое «выделение» монумента из уличной колеи и было бы создано пространство для «отхода», для осмотра его с разных точек — пространство, включенное в самую композицию омываемого Невой памятника.
Основное, что приходит на ум: ни в коем случае нельзя трактовать памятник Пушкину как абстрактный символ. Нет, Пушкин и в скульптуре должен остаться для потомства тем, чем он был на самом деле, — человеком этого города, думающим об его прошлом и будущем.
И второе, не менее важное, соображение: нельзя изображать Пушкина неподвижным и застывшим.
Пушкин — это стремительное движение. Пушкин исколесил всю нашу страну. Представление о застылости никак не вяжется с его образом. Величавая статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента — все это враждебно представлению о Пушкине.
Вот что говорит, например, о внешности и личности Пушкина историк М. Погодин, встретившийся с ним в 1826 году на читке «Бориса Годунова»:
«Мы собрались слушать Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец великого искусства — это был среднего роста, почти низенький человечек; вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом; в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую, увлекательную речь!»
Для наших скульпторов эти и другие высказывания современников Пушкина представляют, на мой взгляд, значительный интерес.
Я вовсе не хочу сказать, что памятник непременно должен изображать «стремящегося» или «идущего» Пушкина. Совсем нет, и не в этом заключается «движение». Движение может выражаться не только в позе, но и в выражении лица, во взгляде, устремленном вдоль по течению Невы. Движение памятника должно быть лишено всякой напряженности. Нужно, чтобы в памятнике было как можно более живых человеческих черт — и тогда он действительно войдет в жизнь нашего города, и мы этот памятник полюбим.
Повторяю, движение — вот неотъемлемая черта творчества и характера Пушкина. Именно движение привлекло Пушкина в фальконетовском памятнике..
Как передать в памятнике сходство? Современный скульптор располагает для этого первоклассными материалами. Сохранились два отличных бюста — Витали и С. Гальберга. Обычную позу Пушкина прекрасно передаст теребеневская статуэтка. Наконец, есть два портрета, сделанных выдающимися художниками — Кипренским и Тропининым. Удачу Кипренского признавали все современники и сам Пушкин:
Себя, как в зеркале, я вижу,Но это зеркало мне льстит.Оба портрета — отнюдь не натуралистические, а творческие, создающие образ поэта. У Кипренского Пушкин — высокий романтик; у Тропинина — байронист.
Движение, ритм помогут передать величие поэта без преувеличения размеров, столь не идущего к облику Пушкина. Не нужно и «приукрашать» его наружность. Разумеется, прелесть наружности Пушкина не в «классических» чертах его лица, а в общем его выражении. Поэт был некрасив, недаром его няня Арина Родионовна говаривала: «Хорош не бывал, а молод был…»
Для того чтобы понять, в чем заключается особенность выражения пушкинского лица, следует вспомнить, что он говорил о вдохновении:
«Вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом. Нет, решительно нет — восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в отношении к целому».
Мы живем в городе великой культуры, где творили великие люди. Наша обязанность, которую мы, в наших условиях, осуществим, конечно, в ближайшие же годы, — увековечить их память. Улицы, площади и набережные нашего города украсятся памятниками великих композиторов, художников, архитекторов, ученых, писателей, работавших в Петербурге — Ленинграде.
Можно надеяться, что в недалеком будущем создастся — может быть, в Летнем саду, который они любили и где гуляли, — нечто вроде «Пушкинской аллеи»: скульптуры его учителей, друзей и современников. Тут будут Карамзин, Жуковский, Батюшков, Дельвиг, Кюхельбекер, Рылеев, Гоголь. Завершить эту аллею должен памятник Белинскому. Ему, в ту пору еще малоизвестному критику, Пушкин послал незадолго до дуэли экземпляр своего «Современника». Его сотрудничества Пушкин добивался для своего журнала.
Скульптор, работающий над образом Пушкина или его друзей, никогда не будет чувствовать себя одиноким…
Б. А. Бабочкин
(народный артист РСФСР)
ПУШКИН-ПОБЕДИТЕЛЬ
Народы Советского Союза готовятся достойно отметить столетие со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина.
И это вполне естественно, ибо для миллионов граждан нашей замечательной родины, в том числе и для меня, А. С. Пушкин особенно дорог тем, что он дал непревзойденные образцы поэтического творчества, что все его творения проникнуты великой народностью, что он ясен, прост, искренен и доступен самым широчайшим массам.
Советские поэты работают над формой и содержанием своих стихов, и, предъявляя к ним определенные требования, мы невольно сравниваем их произведения с лучшими образцами пушкинских стихов. Мне хочется пожелать, чтобы в своей работе наши советские поэты исходили из необычайной ясности форм, чистоты и искренности пушкинских творений и чтобы их творчество хотя бы приблизительно напоминало пушкинское!
Недавно вышел седьмой том Полного собрания сочинений А. С. Пушкина в издательстве Академии наук. Книга произвела на меня гнетущее впечатление. Многословные комментарии пушкинистов буквально забивают самого Пушкина.
Это с одной стороны. С другой — нельзя не удивиться тому, что сейчас, почти накануне юбилея, издательство Академии наук выпускает только седьмой том его сочинений. Когда же будут остальные?
Пушкин по-настоящему дорог нашему народу. Об этом свидетельствуют огромные массы ценителей и любителей Пушкина, не только читающих его стихи, но серьезно изучающих его творчество. И мне кажется, что в том, что книги выходят крайне медленно, в том, что они выходят не так, как нужно, виноваты живые люди, сидящие в издательствах.
Я говорю это к тому, что, как мне кажется, надо приложить все усилия, пустить в ход все средства для того, чтобы достойно, я бы сказал — с большим величием, отметить замечательный юбилей замечательного поэта.
Пушкинский юбилей — это национальный праздник нашей страны. Пушкина знают, любят и ценят во всех уголках нашей необъятной родины.

Специальный профилактический номер «Крокодила» (1937. № 3).
Обложка Л. Г. Бродаты.
Партия и Советская власть, придающие великому русскому поэту огромное значение, необычайно высоко поднимающие его в глазах народа, требуют от людей, которым поручено руководить организацией празднеств, настоящей работы, настоящей любви к делу, настоящей, подлинной любви к самому поэту.
Мы все знаем, что в ближайшее время будет опубликован конкурс Совнаркома СССР на проект памятника Пушкину.
Не говоря уже о том, что в работе над проектом памятника величайшему русскому поэту должны принять участие буквально все мастера изобразительного искусства и скульптуры, для которых создание достойного памятника поэту является делом чести, доблести и геройства, — в этой работе должна принять участие и широчайшая общественность нашей страны. И не только люди смежных искусств, не только люди, непосредственно связанные с искусством, но и рабочие фабрик и заводов, герои крестьянских полей, которые должны быть втянуты в это дело и которые, несомненно, окажут ему громадную помощь.
Я видел старые памятники Пушкину. Из всех памятников, поставленных в дореволюционное время, лучше всех, разумеется, памятник на Тверском бульваре в Москве. Он прост и монументален. Однако все они, в том числе и памятник на Тверском, не дают ясного представления о Пушкине, его эпохе и его творениях. Надо сказать, что постановление Совнаркома об установке поэту нового памятника, несомненно, чрезвычайно радостное событие.
Каков же он должен быть, этот новый памятник замечательному Пушкину?
Мне кажется, что новый памятник Пушкину должен показать поэта не в его время, а в наши дни. Памятник Пушкину должен изображать самого Пушкина среди народностей СССР.
Вот, собственно, идея памятника.
Пушкин — победитель. Таким он должен быть в памятнике.
Не нервный, уязвленный Пушкин, но спокойный, солнечный, уверенный в счастливом будущем человечества.
Мне кажется, что только таким должен быть памятник величайшему русскому поэту.
В. Каверин
ПАМЯТНИК ГЕНИЮ
Столетие со дня смерти Пушкина — это праздник советской культуры. Огромное значение искусства давно признано в нашей стране, и юбилей гениального писателя явится новым доказательством этого признания.
Разумеется, каждая деталь пушкинского праздника — и в том числе вопрос о памятнике — заслуживает самого тщательного обсуждения, и раньше всего в писательских кругах.
Мы хотим быть в курсе всего, что относится к сооружению памятника Пушкину в Ленинграде. Мы должны и хотим принять участие в обсуждении вопросов о месте и характере этого монумента. Со своей стороны, писатели и литературоведы нашего города — особенно те, кто специально изучал творчество, биографию и эпоху Пушкина, — смогут, мне кажется, оказать существенную помощь скульпторам и архитекторам, на долю которых выпадет честь непосредственного решения задачи.
Задача эта очень сложна. Она не была решена в дореволюционной России. Официальный культ поэта носил характер и официальный и скучный.
Так трудно поверить, что равнодушный памятник Пушкину в Москве сопровождался известным подъемом общественной мысли, вызванным пятидесятилетием со дня смерти Пушкина. Перед нами скорее опоэтизированный чиновник, нежели поэт. Все же статуя на Страстной площади сделана умелой рукой и могла бы быть использована в другом, менее центральном и ответственном, месте.
Этого никак нельзя сказать об очень плохом памятнике на Пушкинской улице в Ленинграде. Беспомощная фигура с неправильными пропорциями, не масштабная по отношению к окружающим зданиям, производит жалкое впечатление.
Поговорим теперь о месте для будущего памятника Пушкину в Ленинграде. Я не согласен с теми, кто настойчиво выдвигает мысль о сквере на площади Лассаля, перед Русским музеем. Конечно, окружающие площадь здания связаны в какой-то мере с биографией Пушкина, но архитектурной связи памятника и зданий все равно помешает сквер. Кроме того, это слишком шумное, «трамвайное» место. Разумеется, площадь Лассаля — «самый центр». Но центр — явление переменное: разве не возникает на наших глазах новый городской центр у Нарвских ворот? «Центр» для памятника и городской центр — разные вещи. «Медный всадник» стоит в центре, и такой же центр нужно найти для памятника Пушкину.

«Нашему поильцу и кормильцу…»
Шарж М. Б. Храпковского. 1939.
Аркадий Райкин в роли «пушкиноведа».
Московский театр «Эрмитаж». 1939.
Место, намечаемое Ленинградским пушкинским комитетом — в Румянцевском сквере возле Академии художеств — имеет много преимуществ. Следует подумать еще и о набережной у Главного здания Академии наук, и особенно о площади между Ростральными колоннами, возле Фондовой биржи. Здесь открывается великолепный простор и замечательный архитектурный пейзаж. Правда, масштабы обязывают. Но зато выбор такого места многое бы определил. За создание памятника Пушкину взялись бы только самые талантливые и смелые наши скульпторы.
Самое трудное — это решить, каким должен быть памятник Пушкину. Литературная и общественная личность Пушкина очень сложна, и скульптор должен обладать большим вкусом, тонкой проницательностью и огромными знаниями, чтобы понять и верно выразить близость Пушкина к нашему настоящему и его высоким целям.
Мне пришлось слышать, что некоторые ленинградские скульпторы «набрасывают» к предстоящему конкурсу «взволнованного», «порывистого» — одним словом, романтического Пушкина.
Такое решение было бы частным и неполным. Удивительная ясность Пушкина, его поэтически-отчетливая мысль остались бы в стороне. В стороне осталась бы важная черта — необычайно ясный и трезвый взгляд Пушкина на свое время, на историю России, на собственную роль в литературе. Ясность этого гениального сознания, лишенного снисходительности, полнокровного и радостного, особенно близка нам. Вся страна давно и глубоко любит Пушкина. Он — наш, и наши скульпторы должны доказать, что он наш.
Вот почему романтическая трактовка памятника кажется мне сомнительной. Не силуэт Пушкина — человек в боливаре и развевающемся плаще, а Пушкин «с кровью в жилах… знойной кровью» должен быть воплощен в этом памятнике.
На пьедестале московского Пушкина и на памятнике в Детском Селе высечены стихи. Мысль правильная, которой можно воспользоваться.
Какой же именно цитатой должны мы украсить ленинградский памятник Пушкину? Будут ли это, как в Москве, строфы из «Памятника»? Или же стихи из «Пророка»? Или какие-нибудь другие?
Вопрос сложный.
Для того чтобы сделать надлежащий выбор, Ленинградский Союз советских писателей или журнал «Звезда» должны были бы объявить специальный «конкурс на лучшую цитату для памятника».
Конечно, наши поэты, прозаики и литературоведы охотно примут участие в таком соревновании.
Кроме того, Ленинградскому отделению Союза советских писателей следовало бы принять меры к тому, чтобы работники изобразительных искусств, желающие участвовать в конкурсе на памятник Пушкину, могли получить поддержку во всем, что касается изучения творчества и биографии поэта, а также его эпохи.
Проф. В. В. Лишев
(скульптор)
ВОПЛОТИТЬ ОБРАЗ ПОЭТА В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ
Образ величайшего русского поэта А. С. Пушкина до сих пор не нашел подобающего ему воплощения в монументальной скульптуре.
Памятники Пушкину в Москве и Ленинграде назвать удачными никак нельзя. Это памятники в узком значении этого слова, то есть фигуры поэта, лишь напоминающие о том, что был такой поэт Пушкин и выглядел он внешне примерно так, как изобразил его скульптор. Мысли, идеи, правильно раскрывающей Пушкина, в этих памятниках нет. А ведь мимо памятников проходят тысячи и сотни тысяч читателей Пушкина, его друзей! Им близки и понятны мысли и чувства поэта, их волнуют великолепные строки его произведений. Лишь сейчас, в наши замечательные дни, настала пора создать Пушкину подобающий памятник, воплотить в бронзе и граните дорогой каждому советскому гражданину образ великого русского гения.
И можно только приветствовать решение нашего правительства соорудить в Москве и Ленинграде памятники А. С. Пушкину. Перед советскими художниками это решение ставит ряд интереснейших и крайне ответственных задач. Будущий памятник должен быть таким, чтобы каждому проходящему мимо него образ Пушкина стал ближе и дороже и еще понятнее стали его произведения.
Нужно не забывать и о том, что у каждого, кто читал Пушкина или хотя бы только слышал о нем, есть какое-то свое представление о поэте, есть, если так можно выразиться, «свой Пушкин». И нужно, чтобы будущие памятники, и в частности, тот, который будет сооружен в нашем городе, давали такой суммарный и впечатляющий образ поэта, чтобы каждый мог сказать: «Таким я себе его и представлял».
Художнику очень трудно говорить о том, каким представляется ему самому будущий памятник. Мы, художники, свои мысли и волнующие нас идеи выражаем не словами и буквами, а кистью и резцом. Мои мысли о Пушкине — это пятнадцать сделанных эскизов памятника Пушкину, два рельефа и большая фигура поэта, над которой я сейчас работаю.
Я изобразил Пушкина сидящим в кресле. Он недавно проснулся, сидит еще в халате, но он уже творит. В руке еще нет пера, и кажется, что следующим его движением будет взять перо и записать свои мысли, записать пришедшие на ум строфы. Я изображаю Пушкина примерно в тридцатилетием возрасте, полным сил и энергии. Эта фигура поэта, над которой я сейчас работаю, предназначается для одного из Домов культуры.
Памятник, конечно, требует иного решения, и это решение найти нелегко. Каждый монумент неразрывно связан с окружающим его ансамблем. От выбора места зависит и то, каким должен быть памятник.
Мне кажется, что очень подходил бы для памятника Пушкину в Ленинграде Летний сад или прилегающая к нему набережная Невы, так как эти места тесно связаны и с биографией, и с творчеством Пушкина. Часто бывает, что мы ставим памятники на случайных площадях и улицах. Было бы совершенно замечательно, если бы удалось создать площадь, при строительстве которой наряду со зданиями были бы предусмотрены и памятники, чтобы вся площадь, вместе с воздвигнутыми на ней монументами, была подчинена какой-то определенной идее. Мне кажется, что не обязательно ставить памятник Пушкину в месте, связанном с его биографией. Хорошо, конечно, поставить памятник поэту в Летнем саду или на набережной, но не менее удачным местом можно считать и какую-либо из площадей нового Ленинграда.
Виссарион Саянов
ВЕЛИЧИЕ И МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ
Закончились грандиозные пушкинские торжества, подобных которым не знает мировая история культуры. Снова весь мир мог убедиться, что только при социализме возможен такой всенародный, разделяемый десятками миллионов, триумф человеческого гения. Так будет — при другом строе — Англия чествовать своего Шекспира, Германия — Гете, Франция — Гюго.
Памятник Пушкину в Ленинграде, заложенный в эти замечательные дни, должен стать не только памятником великому поэту, но и памятником этого нового отношения к нему со стороны народных масс, приобщенных революцией к культуре.
Этим в значительной мере предопределяется характер памятника. Он должен пробуждать у нас и у наших потомков те «чувства добрые», которые рождаются у нас при чтении пушкинских произведений: волю к жизни, ощущение широты и свободы, радости и полноты бытия.
Были в жизни и творчестве Пушкина и другие черты — грусть, скорбь, ненависть к окружавшей его враждебной и пошлой среде, предчувствие своей гибели… Мы, конечно, не пренебрегаем историческим взглядом на образ Пушкина. Так, например, задумчивый поэт, изображенный на превосходном памятнике в гор. Пушкине, кажется нам вполне «законным». И все же это частность по сравнению с тем главным, что заключается в Пушкине и что призван выразить главный памятник поэту в центре Ленинграда на берегу Невы.
Каким должен быть, с моей точки зрения, этот памятник?
Статую поэта следует дать во весь рост, для того, чтобы придать композиции характер величия и монументальности. Если говорить о портретном сходстве, то нам хочется увидеть в бронзе зрелого Пушкина, эпохи его полного творческого расцвета, тем более что в эти годы его творчество особенно тесно связано с нашим городом. Как известно, именно в 30-е годы, осев после многих странствий в Петербурге, Пушкин написал свои петербургские вещи — «Медного всадника», «Пиковую даму», «Пир Петра» и другие произведения.
Скульпторы, которым предстоит работать над памятником, должны избегать ошибки, уже повлекшей неудачу многих художников, пытавшихся передать образ Пушкина. Естественно, что, стараясь дать образ гениального поэта, художник хочет прежде всего изобразить его вдохновение. При этом слишком часто забывают, что вдохновение не всегда заключено в выражении глаз или в жестах. Только общая композиция способна передать это глубокое состояние души.
Сам Пушкин неоднократно занимался проблемой художественного творчества. Скульпторам придется очень глубоко вчитаться в такие произведения, как «Моцарт и Сальери» или «Египетские ночи». Много замечательных мыслей на эту же тему разбросано в отдельных стихотворениях, заметках и дневниках Пушкина.
Если поэтическое вдохновение должно быть передано не жестом, а общей композицией, то невольно возникает мысль, что кроме статуи поэта в памятнике должны быть еще какие-то элементы.
Что именно? Мне кажется, что готовые рецепты здесь вряд ли возможны и желательны.
Тут нужна «творческая находка» самого скульптора. Во всяком случае, следует пожелать, чтобы памятник был монументальным в хорошем смысле этого слова, но отнюдь не застывшим, неподвижным, как статуя на Пушкинской площади в Москве. Пушкин — весь движение и стремление. Об этом скульптор должен всегда помнить.
Для того чтобы создать впечатление простора и движения, место для памятника, избранное Ленинградским Советом, представляет наилучшие возможности. Это большое, широкое, не стесненное пространство в самом красивом месте города, на фоне классического здания Фондовой биржи. Условия места не хуже, чем на площади Медного всадника.

Об ознаменовании 100-летней годовщины со дня смерти величайшего русского поэта А. С. Пушкина.
Постановление ЦИК СССР от 9 февраля 1937 г.

У здания Биржи в Ленинграде, февраль 1937 г.
Фото.
Митинг на Пушкинской площади в Ленинграде в день закладки памятника Пушкину 10 февраля 1937 г.
Фото.

И. Д. Шадр. Модель памятника Пушкину в Ленинграде.
2-й вариант. Гипс. 1940.
На страницах «Звезды» уже высказывались соображения о необходимости какой-то связи между Медным всадником и памятником Пушкину. Мысли эти, несомненно, правильны, такое символическое сближение напрашивается само собой. Петр был создателем в России европейской государственности. Пушкин подвел Россию к высотам европейской культуры.
Мне кажется, что скульптор, работающий над Пушкиным, должен в какой-то мере идти от гениального фальконетовского памятника.
И еще одно замечание. От будущего памятника следует требовать строгости и стройности линий, полной законченности. Эскизность, «взъерошенность» неуместны, когда дело идет об образе Пушкина.
Интерес, проявленный к памятнику Пушкину со стороны работников искусств и всех читателей, внушает мысль, что пришла пора поставить вопрос о памятниках двум другим гениальным поэтам. Я имею в виду Лермонтова и Некрасова, жизнь которых также была тесно связана с нашим городом. Нас не могут удовлетворить уже имеющиеся мемориальные бюсты обоих поэтов, поставленные так, что большинство ленинградцев их не видит. Приближается 8 января 1938 года — шестидесятилетие со дня смерти Некрасова. Вслед за ним — сто двадцать пять лет со дня рождения, а в 1941 году — сто лет и со дня смерти Лермонтова.
Мы достаточно богаты — и материально и художественными силами, чтобы увековечить память двух великих поэтов, имена которых мы, по справедливости, называем сейчас же вслед за именем Пушкина.
Это тем легче и желательнее, что громадный план переустройства и расширения Ленинграда уже осуществляется и одной из составных частей этого плана является развитие скульптуры, постройка новых художественных памятников.
Хочется сделать еще одно предложение, относящееся к памяти Пушкина. Я считаю неправильным, чтобы тусклая и унылая Пушкинская улица продолжала носить имя поэта, — пусть для нее придумают какое-нибудь другое название. Мне возразят, что на ней стоит памятник Пушкину. По этому пункту у меня есть примиряющее предложение. Все согласны, что статуя Пушкина работы Опекушина не делает особенной чести русской скульптуре. Вместе с тем она имеет все же известное, если хотите, познавательное значение и передает облик поэта. Пускать ее в переплавку не следует.
Почему бы не перенести ее в Михайловское, где она могла бы сыграть свою скромную, но полезную роль где-нибудь в роще или вблизи нового Пушкинского музея? Над этим, мне кажется, стоит подумать.
Несомненно, что на пьедестале памятника Пушкину должна быть вырезана надпись, подводящая итог творчеству поэта и его роли в нашей культуре.
Собственное высказывание Пушкина, его пророческое стихотворение «Памятник», уже использовано, как известно, для московского монумента. Нам предстоит, следовательно, искать — дело, которое только на первый взгляд может показаться простым и легким.
В этом отношении конкурс на лучшую надпись для пьедестала был бы своевременным и весьма полезным. Разумеется, конкурс этот даст обширный материал, из которого можно будет отобрать хорошую цитату. Я подчеркиваю — «цитату», потому что вряд ли кто-нибудь из наших поэтов напишет специально для памятника четверостишие или восьмистишие.
Пока же пользуюсь случаем и вношу свое предложение на конкурс. В стихотворении Тютчева «Из чьей руки свинец смертельный» есть две великолепные строки, которые, по-моему, могли бы подойти для нашего ленинградского памятника:
Тебя, как первую любовь,России сердце не забудет.
Проф. Л. А. Ильин
(главный архитектор города)
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТ, КАК СТИХИ ПУШКИНА
Сквер против фондовой Биржи, где будет стоять памятник Пушкину, — это самое выигрышное место, какое только можно отыскать в Ленинграде. С полной уверенностью я берусь утверждать, что нигде в мире нет в центре города такого великолепно обработанного мыса, как наша Пушкинская площадь с ее гранитной набережной и величественными Ростральными колоннами.
Вместе с тем это центр основного ленинградского «вида», опорными точками которого являются Зимний дворец, Петропавловская крепость и Фондовая биржа.
Для скульпторов это обстоятельство создает особенную ответственность и трудность. Для того чтобы «закончить» такой предельно законченный ансамбль, требуется обладать безошибочным вкусом и художественным тактом, не говоря уже о высокой одаренности.
Памятник Пушкину должен, повторяю, органически войти в окружающий ансамбль. Высота его и масштабы предопределены высотой Ростральных колонн и величиной площади: дело скульптора найти наиболее выгодное соотношение. Лучшим местом для памятника является, по-видимому, площадка в самом центре сквера.
В какую сторону должен смотреть Пушкин?
У нас часто высказывали мысль, что памятник желательно ориентировать на юг, к солнцу — для лучшего освещения. Вряд ли это так существенно. Медный всадник, например, смотрит на север и отнюдь от этого не проигрывает. Как видно, Фальконет знал, что делал, когда поставил своего Петра спиной к солнцу.
Я думаю, что скульптор может считать себя совершенно свободным в этом вопросе, тем более что площадь достаточно велика.

Б. Д. Королев и В. В. Вересаев у проекта и модели памятника Пушкину для Ленинграда.
Москва. 1937.
Фото.
Н. А. Бруни за работой над памятником Пушкину.
Лагерь для заключенных в поселке Чибью (ныне г. Ухта). 1937.
Фото.
Памятник должен быть лаконичен и прост, как поэзия Пушкина, где в одном стихе зачастую дается синтетический образ. Никакого многословия! Не нужно рассаживать по углам памятника Дубровского, Татьяну, Пугачева и Марию… Не следует пытаться «рукотворно» передать тот нерукотворный памятник, который воздвиг себе Пушкин. Но необходимо сделать так, чтобы каждый прохожий понимал и чувствовал, что памятник поставлен в наше время, сделан советским художником.
Нужно не имитировать классиков скульптуры, а учиться у них, создавая свою собственную, новую выразительность. Особенно я советовал бы учиться у Мартоса его умению классически передавать вещь.
Теперь, когда дело с памятником Пушкину поставлено, как говорится, на рельсы, нужно форсировать подготовку памятника Максиму Горькому.
Творчество и жизнь Алексея Максимовича непосредственно связаны с нашей жизнью и борьбой за социализм. Поэтому я целиком присоединяюсь к мнению, уже высказанному на страницах «Звезды» архитектором Е. И. Катониным, — о том, что памятник Максиму Горькому должен быть в одном из новых районов Ленинграда.
Где именно? Лучше всего на новой театральной площади, которая запроектирована вблизи Дворца Ленинградского Совета. Памятник великому пролетарскому писателю, поставленный перед зданием нового Большого театра, будет символизировать его связь с советским искусством и культурой, с нашим строительством.
Комментарии и дополнения
ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЯМ
(от редакции)
…в Горьком, Москве и Ленинграде будут сооружены памятники Алексею Максимовичу. — Памятник М. Горькому в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород) установлен в 1952 г. (проект 1938 г., скульпт. В. И. Мухина); в Москве на пл. Белорусского вокзала — в 1951 г. (по проекту И. Ф. Шадра, скульпт. В. И. Мухина); в Ленинграде на углу Кировского (ныне — Каменноостровского) просп. и просп. Максима Горького (ныне — Кронверкского) — в 1968 г. (скульпт. В. В. Исаева, М. Р. Габе, арх. Е. А. Левинсон). В ходе ленинградской дискуссии за установку памятника на историческом месте, связанном с биографией писателя, т. е. на Кронверкском проспекте, где М. Горький жил в 1913–1921 гг., высказался художник Н. Э. Радлов. Напротив, архитектор Е. И. Катонин и скульптор Л. В. Шервуд выступили за сооружение памятника в новых районах Ленинграда.
Объявлен конкурс на памятник Гоголю в Москве. — Речь идет о постановлении СНК СССР от 13 мая 1936 г., на основе которого были разработаны условия конкурса проектов нового памятника Н. В. Гоголю в Москве: «Ввиду того, что памятники. В. Гоголю, установленный в 1909 году на Гоголевском бульваре, не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как пессимиста и мистика, причем само исполнение памятника не свободно от ряда существенных недостатков, Всесоюзный комитет по делам искусств… объявляет конкурс на новый памятник Н. В. Гоголю» (Н. В. Гоголь. Материалы к проектированию нового памятника. М.; Л., 1936. С. 5). В дополнительном постановлении указано, «что памятник будет сооружен на старом месте, т. е. в начале Гоголевского бульвара (Арбатская площадь)» (Там же. С. 7). Правда, позднее, во время II тура конкурса на гоголевский памятник, в 1939 г., определилось новое место постановки памятника: набережная Москвы-реки близ Киевского вокзала (см.: Машковцев Н. Проблема памятника Гоголю // Искусство. 1939. № 6. С. 177). Однако потом оно было отвергнуто, и памятник, установленный по проекту скульптора Н. А. Андреева, оказался приговоренным к сносу, что и случилось через 15 лет, в 1951 г., когда он был перенесен на территорию Донского монастыря. И только через восемь лет, в 1959 г., андреевский монумент был установлен во дворе дома № 7 по Суворовскому бульвару, где Н. В. Гоголь провел последние месяцы жизни.
Мы так подробно останавливаемся на памятнике Гоголю потому, что история с ним прямо или косвенно оказала влияние и на идеи нового пушкинского памятника, который в свете этой «гоголиады» никак не должен был походить и на старый московский памятник поэту. В то же время оба московских памятника связаны между собой не только топографически (по одному бульварному кольцу), но и оказались рядом в истории русской культуры. Так, первая мысль об установке памятника Гоголю в Москве была высказана драматургом А. А. Потехиным 8 июля 1880 г. на торжественном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину. Занятен и шутливый фельетон Александра Амфитеатрова «Гоголевы дни», в котором он от имени памятника Гоголю («Новый адрес мой: Арбатская площадь, собственный монумент») обращается к «Его высокородию милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину, двора Е. И. В. камер-юнкеру, по Тверскому бульвару, насупротив Страстного монастыря, на собственном памятнике» (Амфитеатров А. Заметы сердца. М., 1909. С. 7). Пушкинский памятник фигурирует и в известной статье В. В. Розанова «Отчего не удался памятник Гоголю», фигурирует со знаком минус: «…памятник Пушкину в Москве до того шаблонен, что на него невозможно долго смотреть: скучно! Этой ужасной скуки нет в памятнике Гоголю…» (Розанов В. В. Среди художников. Пб., 1914. С. 293). Напомним также, что перед лицом футуристов оба памятника выступают вместе (см. нашу публикацию поэмы Хафиза «Бурлюки», наст. изд., с. 202–203[33]).
По существу памятники эти были разлучены в 1950–1951 гг., когда Пушкин был перенесен на другую сторону улицы Горького, а Гоголь убран с Гоголевского бульвара, чтобы освободить место новому памятнику. Небезынтересен малоизвестный рассказ литературоведа А. Опульского, в то время сотрудника архива Музея Льва Толстого в Москве, записанный им со слов председателя Комитета по делам искусств: «По словам Н. Н. Беспалова… памятник работы скульптора Николая Андреева неожиданно был замечен Сталиным в один из его лихих проездов по Арбатской площади; и тот высказал недоумение, почему „великий русский сатирик“ не стоит… а сидит согнувшись, точно „баба, вяжущая чулок“». Далее рассказывается, что Сталину понравился гоголевский портрет работы Ф. А. Моллера, и он приказал Маленкову и Беспалову немедленно найти скульптора, который бы сделал памятник по этому портрету, «и такой смельчак нашелся». Это был Н. В. Томский. «Якобы объявили для проформы конкурс, но проект Томского провели вне конкурса». Трудно установить, насколько правдоподобен этот мифологизированный рассказ, но характерно, что в «сталинском фольклоре» существовала и проблема памятника. Что же касается истории с Н. В. Томским, то косвенным подтверждением рассказа о его участии-неучастии в конкурсе может служить тот факт, что среди участников первого и второго туров конкурса мы не находим его имени. Особенно драматичен рассказ современника в части, касающейся последних дней жизни памятника на Гоголевском бульваре: «В ателье Томского, как говорит русская пословица, еще конь не валялся, а андреевский Гоголь был бесцеремонно опрокинут бронзовым лицом в размытую осенними дождями бульварную дорожку. На освободившемся месте стали выставлять фанерные силуэты будущего памятника — меняя время от времени размеры фигуры и размеры пьедестала. Делалось это для того, чтобы подчеркнуть „всенародность предприятия“» (Опульский А. Вокруг имени Льва Толстого. Сан-Франциско, 1981. С. 114–116).
Вся эта история, напоминающая первые годы советской монументальной пропаганды, выходит за хронологические рамки нашей дискуссии. Однако громогласная и директивная критика старого гоголевского памятника сказалась и на довоенных конкурсах на пушкинский монумент, и на резкой негативной оценке опекушинского памятника со стороны. «В смысле художественного реализма опекушинский памятник вызывает некоторые сомнения, — писал в 1936 г. Э. Голлербах не без привкуса петербургского высокомерия. — Памятник как бы отражает старое школьное „хрестоматийное“ понимание Пушкина» (Голлербах Э. А. С. Пушкин в портретах и иллюстрациях // А. С. Пушкин в изобразительном искусстве. Л, 1937. С. 168; ср. статьи Л. В. Шервуда и В. А. Каверина в наст. изд.).
В дальнейшем скульптура призвана увековечить память Белинского, Чернышевского и Добролюбова. — Идея сооружения памятника В. Г. Белинскому в Ленинграде осталась неосуществленной. Памятник Н. Г. Чернышевскому установлен в 1947 г. на Московском проспекте (скульпт. В. В. Лишев, арх. В. И. Яковлев); Н. А. Добролюбову — в 1959 г. на Большом проспекте Петроградской стороны (скульпт. В. А. Синайский, арх. С. Б. Сперанский).
…читатель найдет высказывания… А. Г. Яцевича. — Историк пушкинского Петербурга А. Г. Яцевич не принял участие в дискуссии.
Н. Э. Радлов. Заметки о памятниках
Николай Эрнестович Радлов (1889–1942) — художник-график, художественный критик, искусствовед, в 1930-х гг. был избран зам. председателя Ленинградского Союза советских художников. Критическая деятельность Радлова началась еще в 1910-х гг., на страницах журнала «Аполлон». Среди его трудов: Современная русская графика. СПб., 1916; О футуризме. Пг., 1923; От Репина до Григорьева. Статьи о русских художниках. Пг., 1923; Рисование с натуры. Л., 1935 (2-е изд. — Л., 1938; 3-е изд. — Л., 1978).
В Ленинграде революция… сохранила памятники царей. — Речь здесь идет о декрете Совета Народных Комиссаров от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг…», в котором говорилось: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера» (Из истории строительства советской культуры. 1917–1918. Документы и воспоминания. М., 1964. С. 25).
В результате проведения в жизнь этого декрета скульптурные памятники Петрограда пострадали меньше, чем в Москве. Но и здесь после революции были снесены: памятники Петру I по проектам М. М. Антокольского, Л. А. Бернштама; Колонна Славы (в память о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.) по проекту Д. И. Гримма и др. (см.: Утраченные памятники архитектуры Петербурга — Ленинграда. Каталог выставки / Авт. — сост. В. В. Антонов, А. В. Кобак. Л., 1988. № 116–141). Особый ущерб городу был нанесен переносом в 30-е гг. памятника Александра III, установленного в 1909 г. на Знаменской пл. около Московского вокзала (скульпт. П. П. Трубецкой), в закрытый двор Русского музея (ныне памятник установлен возле Мраморного дворца). Следует отметить, что декрет 1918 г. получил расширительное применение в дальнейшем и узаконил в России традицию сноса памятников.
К счастью, Ленинград располагает в настоящее время довольно значительным числом талантливых ваятелей… Я имею в виду таких мастеров… — Из указанного Н. Э. Радловым в дальнейшем тексте перечня имен над проектами памятника Пушкину в 30-е гг. или после войны (что мы специально оговариваем) работали следующие ленинградские скульпторы: М. Г. Манизер, автор барельефа на обелиске, установленном в 1937 г. на Черной речке, принимавший участие в послевоенном конкурсе на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (I–II тур — в 1948–1949 гг.); А. Т. Матвеев; В. В. Лишев; Л. В. Шервуд; Н. В. Томский, принимавший участие в послевоенном конкурсе на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (I–II тур — 1938–1939 гг.); В. В. Козлов; В. А. Синайский.
На пьедестале вполне уместна надпись-цитата. Я предложил бы цитату из «Памятника»… — В ходе дискуссии вопрос о надписи-цитате, поднятый Н. Э. Радловым, будет конкретизирован В. А. Кавериным, высказывавшим, однако, сомнение в целесообразности повторения текста, помещенного на московском монументе, и выдвинувшим идею специального «конкурса на лучшую цитату для памятника». Позднее мысль о конкурсе повторил и В. М. Саянов, который предложил использовать для этой цели стихи Ф. И. Тютчева: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет». Такой сдвиг текста памятника в сторону надгробной эпитафии закономерен для «юбилейной» годовщины гибели Пушкина, но вряд ли отвечал идеям 1937 г. с их пафосом сооружения монументального памятника поэту.
Задумчивый, грустный Пушкин, сидящий на скамейке — памятник в Детском Селе… — Памятник А. С. Пушкину в Царском (Детском) Селе (скульпт. Р. Р. Бах) был заложен 20 мая 1899 г., в день столетней годовщины со дня рождения поэта, открытие его состоялось 15 окт. 1900 г. Свои проекты памятника кроме Р. Р. Баха представили также скульпторы М. А. Чижов, Л. В. Позен и В. А. Беклемишев (см.: Вшьчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911. С. 68–69).
…пора бы переименовать Детское Село в Пушкинское Село. — Царское Село, переименованное в 1918 г. в Детское Село, в 1937 г. (в память 100-летия гибели поэта) получило название «Пушкин».
Мне хотелось бы также, чтобы поскорее осуществилось хорошее предложение Н. С. Тихонова — Набережная Медного всадника. — Предложение поэта Николая Тихонова, в то время заместителя председателя Ленинградского пушкинского комитета, как и последующее предложение самого Н. Э. Радлова об установке памятников литературным героям, в частности Евгению Онегину, остались неосуществленными. Предложения эти опирались на мифологическую петербургскую традицию отношения к городу как к литературному тексту, в котором особое значение приобретают адреса литературных героев. Идеи такого литературного плана города содержались еще в известных книгах Н. П. Анциферова начала 20-х годов: «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга».
Мы обязаны говорить не только о памятниках писателей... — Из приведенного ниже перечня имен художников и композиторов позднее был осуществлен в Ленинграде только один памятник — памятник Н. А. Римскому-Корсакову, установленный в 1952 г. на Театральной площади (скульпт. В. Я. Боголюбов и В. И. Ингал). Осталось неосуществленным и предложение Н. Э. Радлова о сооружении «аллеи бюстов великих людей» на проспекте Пролетарской победы на Васильевском острове.
В. В. Козлов. Памятник Пушкину
Василий Васильевич Козлов (1887–1940) — скульптор, член Ленинградского пушкинского комитета, созданного в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина. Был вольнослушателем Академии художеств (1906–1912), где занимался у Г. Р. Залемана и В. А. Беклемишева. Совместно с Л. А. Дитрихом участвовал в конкурсах проектов памятников М. Ю. Лермонтову (1910), актеру Ф. Г. Волкову (1911), К. Д. Ушинскому (1915). Принимал участие в конкурсе «Великая русская революция» (Петроград, 1919) и конкурсе на памятник А. С. Пушкину в селе Михайловском (1924). Автор памятника В. И. Ленину, установленного в 1927 г. перед зданием Смольного института (известны многочисленные повторения монумента). В 1936 г. исполнил эскиз памятника «Пушкин на прогулке» (экспонировался на Всесоюзной пушкинской выставке 1937 г.). В архиве В. В. Козлова сохранился ряд документов, связанных с пушкинским конкурсом, в том числе копия письма скульптора И. В. Сталину от 9 февраля 1936 г., где говорилось о необходимости «заменить устаревший капиталистический способ закрытых конкурсов на памятники открытым социалистическим соревнованием…» (см.: Казаков А. Русский Роден. Заметки о скульпторе В. В. Козлове // В мире книг. 1987. № 11. С. 21).
В. В. Козлов — В журнальной публикации статьи допущена Опечатка в инициалах автора. — Напечатано «В. Н. Козлов» — надо «В. В. Козлов».
В те годы Гражданской войны и разрухи, по мысли Ленина, были поставлены временные памятники многим великим людям. — Речь идет о плане монументальной пропаганды, во II разделе которого («Писатели и поэты») имя Пушкина стояло на 4-м месте, после Толстого, Достоевского и Лермонтова (см.: Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах РСФСР. Постановление Совета народных комиссаров // Известия ВЦИК. 1918. 2 авг. № 163). Однако заказ на пушкинский памятник отсутствует в «Списке скульпторов, участвующих в конкурсе по изготовлению памятников великим общественным деятелям и выдающимся представителям искусства» (см.: Из истории строительства советской культуры. 1917–1918. Документы и воспоминания. М., 1964. С. 38–44). Правда, «список» этот касается только Москвы. Следует отметить, что единая программа установки памятников революционерам и общественным деятелям, писателям и поэтам, философам и ученым, художникам, композиторам и артистам, заложенная в плане монументальной пропаганды, приобрела в 30-е годы еще более жесткий идеологизированный характер. Это видно из краткого хронологического перечня основных конкурсов 30-х гг. (к участию в которых часто привлекались одни и те же мастера):
•1930 — конкурс на памятник В. И. Чапаеву;
•1931 — конкурс на памятник бойцам Красной Армии, павшим во время конфликта на китайско-восточной железной дороге в Даурии;
•1932 — конкурс на памятник павшим борцам революции в Челябинске;
•1933 — конкурс на памятник В. И. Ленину в ленинградской гавани;
•1933 — конкурс на памятник Т. Г. Шевченко в Харькове;
•1936 — конкурс на скульптурное оформление павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1937 г.;
•1936 — конкурс на «Памятник потемкинцам»;
•1936–1939 — конкурс на памятники. В. Гоголю в Москве (I тур — 1936; II тур — 1939);
•1937 — конкурс на эскиз фигуры Ленина для Дворца Советов;
•1937–1938 — конкурс на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (I тур — 1937; II тур — 1938);
•1938–1939 — конкурс на памятники А. М. Горькому в Москве и Горьком;
•1939 — конкурс на памятник В. П. Чкалову в Горьком;
•1939 — конкурс на памятник О. Туманяну в Ереване;
•1940 — конкурс на памятники С. М. Кирову, Ф. Э. Дзержинскому, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышеву.

Участники дискуссии.
Н. Э. Радлов.
Шарж Б. И. Антоновского. 1928.
В. В. Козлов.
Фото. 1937.
Эта пестрая идеологизированная картина культурной жизни особенно наглядно выступает, например, в таком факте, как одновременное открытие — 4 июня 1937 г. — в одном и том же помещении, Доме художника Армянской ССР, двух разных выставок к X съезду Коммунистической партии Армении: экспозиции, посвященной 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, и экспозиции «К истории большевистских организаций Закавказья» (см.: Выставки советского изобразительного искусства: Справочник. М., 1967. Т. 2. С. 219).
Здесь следует вспомнить, что один памятник Пушкину был все же сооружен в 1937 г., но вне всяких конкурсов. Такой временный памятник без металлического каркаса из кирпича и бетона исполнил заключенный Ухтпечлага в поселке Чибью (близ г. Ухта) Николай Бруни, потомок академика Ф. Бруни, одного из первых художников, «снимавших портрет» с мертвого Пушкина. Человек сложной биографии и разнообразных дарований, которому К. Д. Бальмонт еще в 1918 г. посвятил стихи: «Ты музыкант, поэт и летчик…» (архив А. М. Бруни), Н. А. Бруни оказался еще и талантливым скульптором-самоучкой. Судя по старым фотографиям, ухтинский памятник был первоначально водружен на деревянный помост, как на эшафот. Прототипом композиции памятника был царскосельский Пушкин, сидящий на скамье, но образ поэта был далек от образа лицеиста. Пушкин Бруни исполнен в свободной позе, светлым и задумчивым, с книгой в руках, хотя, имея в виду обстоятельства возникновения памятника, мог быть более трагическим. Трагичной оказалась судьба его создателя, через год после сооружения памятника во время одной из лагерных ревизий он был расстрелян. Сам памятник, однако, чудом сохранился и во время последнего пушкинского юбилея, 6 июня 1999 г., после больших реставрационных работ, проведенных по инициативе Ухто-Печорского общества «Мемориал» скульптором А. К. Амбрюлявичусом и его помощниками, состоялось его второе открытие в Ухте (см.: Воронцова И. Д. Николай Бруни — создатель первого памятника Ухты // Вестник культуры. 2. Сыктывкар, 1999; Губерман И. Штрихи к портрету. М., 1994).
Если не считать участия моего в конкурсе на памятник Пушкину в селе Михайловском… — Речь идет о выставке конкурсных проектов памятника А. С. Пушкину в селе Михайловском, открытой в декабре 1924 г. в Ленинграде.
Я лично таким наиболее подходящим для сооружения памятника местом считаю сквер на площади Лассаля. — Площадь Лассаля — первоначальное название — Михайловская пл. (1834–1920), затем — пл. Лассаля (нач. 1920-х гг. — 1940), ныне — пл. Искусств (с 26 дек. 1940 г.), на которой перед Русским музеем в 1957 г. был установлен памятник Пушкину работы М. К. Аникушина. Во время дискуссии 1936–1937 гг. за установку памятника на пл. Лассаля кроме В. В. Козлова высказался архитектор Е. И. Катонин. Против — писатели Ю. Н. Тынянов и В. А. Каверин.
Е. И. Катонин. География памятников
Евгений Иванович Катонин (1889–1984) — архитектор-художник, член Ленинградского пушкинского комитета, созданного в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина. Окончил в 1918 г. архитектурный факультет Академии художеств в Петербурге по мастерской Л. Н. Бенуа. Работал в жанре архитектурного пейзажа. Был удостоен первой премии на конкурсе на увековечивание места пушкинской дуэли, устроенном обществом «Старый Петербург» совместно с Пушкинским Домом (1925). Литография Катонина «К проекту памятника на месте дуэли А. С. Пушкина» экспонировалась на выставке «А. С. Пушкин» (Казань, 1937). Принимал участие в разработке Генерального плана развития Ленинграда (1933–1936). По его проекту (совместно с арх. В. Д. Кирхоглани) была произведена в 1946 г. реконструкция сквера на пл. Искусств для установки нового памятника А. С. Пушкину.
…Дворцом Ленинградского совета в качестве архитектурной доминанты… — Дворец Ленсовета («Дом Советов») построен в 1936–1941 гг. на Московском проспекте по проекту арх. Н. А. Троцкого, скульптурный фриз работы Н. В. Томского. Перед Домом Советов в 1938 г. установлен памятник С. М. Кирову (скульп. Н. В. Томский).
Статуя Пушкина в сквере на Пушкинской улице вызывает только раздраженное недоумение. — Памятник А. С. Пушкину по проекту скульптора А. М. Опекушина (использован один из его предварительных эскизов московского памятника, арх. Н. Л. Бенуа, А. С. Лыткин) установлен в 1884 г. на Пушкинской (до 1881 г. — Компанейской) ул. в Петербурге. В ходе дискуссии еще более резко о памятнике высказался В. Каверин, а также В. Саянов, предложивший перенести монумент в село Михайловское, а улицу переименовать. По-видимому, подобный план был близок в те годы к реализации, однако не был осуществлен.
Одну из легенд по поводу этого несостоявшегося переноса вспоминала Анна Ахматова: «Мне Николай Николаевич [Пунин] еще рассказывал. В тридцать седьмом году — в годовщину гибели Пушкина — хотели снести памятник, тот, который назывался „банным“ — на Пушкинской, там рядом бани… И вот, когда подъехал грузовик увезти памятник, — маленькие дети, играющие в садике, зашумели, не позволили, закричали: не дадим, не дадим, это наш Пушкин, мы тут играем… Те послушали, послушали и махнули рукой — не стали обижать ребят, уехали. Это же прелестно! Только надо еще проверить, действительно ли было это» (Просматривая «Слово о Пушкине» (Из дневника И. М. Басалаева <запись от 5 декабря 1961 г.>) // Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки / 3-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 357). В другой редакции А. А. Ахматова включила этот текст в очерк «Пушкин и дети» (Там же. С. 358).
Этот памятник оставался в памяти и других современников, «узенькую и темноватую Пушкинскую улицу, где в крошечном скверике стояла крошечная статуя Пушкина» вспоминает М. В. Добужинский в первой главе своих мемуаров, написанных в эмиграции (Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 17).
Следует отметить, что в конце прошлого века вокруг памятника на Пушкинской улице начала складываться своя литературная мифология. Так, в романе К. Льдова «Саранча» (1894) образ ожившего «Медного всадника», сошедшего с пьедестала, перенесен на памятник Пушкину на Пушкинской улице (см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…» М., 1985. С. 115).
Памятник Глинки возле Консерватории весьма посредственен… — Памятник М. И. Глинке был установлен на Театральной пл. в Петербурге в 1906 г. (скульпт. Р. Р. Бах, арх. А. Р. Бах).
Остается упомянуть разве только о неплохом памятнике Крылова… — Памятник И. А. Крылову был установлен в 1855 г. в Летнем саду (скульпт. П. К. Клодт).
…воздвигнуть памятник поэту в Румянцевском сквере возле Академии художеств… обелиск работы архитектора Бренна… предполагается перенести… — Румянцевский обелиск (обелиск «Румянцева победам»), воздвигнутый в 1799 г. (арх. В. Ф. Бренна) на Марсовом поле, был перенесен в 1818 г. архитектором К. И. Росси на Румянцевскую площадь (ныне пл. Шевченко). Предложение Е. И. Катонина осталось неосуществленным, хотя, по его словам, Ленинградский пушкинский комитет одно время склонялся к такому варианту. Против этого предложения выступил Ю. Тынянов, полагая, что это место «очень определенного стиля» и памятник здесь «будет выглядеть замкнутым, не сливающимся с городом».
…огромный памятник Николаю I явно не вяжется с масштабами площади Воровского. — Памятник Николаю 1 был установлен в 1859 г. на Исаакиевской площади (скульпт. П. К. Клодт, арх. А. А. Монферран), в 1923–1944 гг. носившей имя Воровского.
…будет площадь Ленинградской Большой оперы. — Здание Ленинградской Большой оперы и площадь возле нее предполагалось, очевидно, соорудить согласно Генеральному плану развития Ленинграда (1936). Не осуществлено.
Для памятника Чернышевского я предлагаю Чернышеву площадь, которую… пора переименовать вместе с прилегающим к ней переулком… бюст Ломоносова… перенести… — О памятнике Н. Г. Чернышевскому см. примеч. к статье «Памятники великим писателям» на с. 72.[34] Пл. Чернышева и Чернышев пер. — ныне переименованы и носят имя Ломоносова. Бюст М. В. Ломоносова, установленный здесь в 1892 г. (скульпт. П. П. Забелло, арх. А. С. Лыткин), сохранен на прежнем месте.
Для Добролюбова мы… считаем особенно подходящей «стрелку» на пересечении проспекта Добролюбова и проспекта К. Либкнехта. — О памятнике Н. А. Добролюбову см. примеч. к статье «Памятники великим писателям» на с. 72.[35] Просп. Карла Либкнехта — ныне Большой проспект Петроградской стороны.
…закрепить за памятником Гоголя Сенную площадь… — Не осуществлено. Памятник Н. В. Гоголю установлен в С.-Петербурге в 1990-е гг. на Большой Конюшенной улице. Характерно, что Сенная площадь по петербургской традиции «закреплена» не за Гоголем, а за Достоевским (см.: Анциферов Н. Петербург Достоевского. Пб., 1923. С. 25). Однако в 30-е гг. Достоевский был отнесен к числу полутабуированных имен, не случайно он отсутствует в ленинградской дискуссии, посвященной «памятникам великим писателям», хотя в первоначальном плане «монументальной пропаганды» его имя фигурирует под № 2 (после Л. Толстого и раньше Лермонтова и Пушкина). Согласно этому плану, памятник Ф. М. Достоевскому работы С. Д. Меркурова, исполненный им в 1911 г., был установлен в 1918 г. в Москве на Цветном бульваре. В октябре 1936 г. он был убран оттуда, вероятно, не без связи с «приговором» в мае того же года старому московскому памятнику Гоголя, «как пессимисту и мистику» (см. примеч. к статье «Памятники великим писателям» на с. 70–71[36]), а не только по случаю «прокладки трамвайной линии», как утверждают некоторые исследователи (см.: Виноградов Н. Д. Воспоминания о монументальной пропаганде в Москве // Искусство. 1939. № 1. С. 47; примеч. Б. И. Алексеева).
Л. В. Шервуд. Гранит и бронза увековечат их образы. Слово скульптора
Шервуд Лев Владимирович (1871–1954) — скульптор. В 1891 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества; в 1898 г. — Академию художеств. Будучи пенсионером Академии художеств в Париже (1899–1900), посещает мастерские О. Родена и А. Бурделя. Исполнил бюст А. С. Пушкина (1902), надгробие Г. И. Успенскому на Волковом кладбище в Петербурге (1903), памятник адмиралу С. О. Макарову, установленный в 1913 г. в Кронштадте. Автор первых памятников плана «монументальной пропаганды» — А. Н. Радищеву и А. И. Герцену (1918–1919). К выставке «XV лет РККА» исполнил статую «Часовой» (1933). Участник конкурса на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (I тур — 1937). Принимал участие в послевоенном конкурсе на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (II тур — 1949). Автор книги воспоминаний «Путь скульптора» (Л.; М., 1937).
…решено воздвигнуть в Ленинграде памятники… академику Павлову. — Памятник академику И. П. Павлову установлен в 1951 г. в Павлове (б. Колтуши) близ Ленинграда (скульп. В. В. Линёв).
…в Москве, по идее Горького, будет строиться… Дворец мировой литературы. Перед этим дворцом предполагается соорудить грандиозный памятник Пушкину… — Из газетной заметки «Каким должен быть памятник?» мы узнаем некоторые подробности замысла этого неосуществленного памятника: «…памятник должен быть установлен у подножия Швивой горки при впадении Яузы в Москву-реку. На этой горе будет построено грандиозное здание Института мировой литературы им. Горького по проекту акад. Жолтовского». В заметке также указано, что многофигурный памятник должен быть сооружен на тему «Пушкин и его современники». По этому поводу в заметке приведено мнение известного пушкиниста М. А. Цявловского: «Кто же имеет право и честь быть увековеченным рядом с Пушкиным? Я выдвигаю его современников: Гоголя, Глинку, Рылеева, Пестеля, Баратынского, Грибоедова, Кюхельбекера, Мицкевича, Ник. Тургенева, Пущина, Чаадаева и Кипренского… А может быть, рядом с Пушкиным следует поставить казненных Николаем I декабристов… Может возникнуть вопрос и о том, чтобы окружить фигуру поэта героями его произведений» (Советское искусство. 1936. 5 июня).

Участники дискуссии.
Е. И. Катонин.
Фото.
Л. В. Шервуд.
Фото.

Участники дискуссии.
Ю. Тынянов.
Шарж Б. Б. Малаховского. 1935.
Б. А. Бабочкин в роли Чапаева.
Фото. Ленфильм. 1934.
Наиболее подходящими местами для него [памятника М. Горькому] я считаю Центральный парк культуры и отдыха… — Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде открыт в 1932 г. (в 1934 г. ему присвоено имя С. М. Кирова). О памятнике М. Горькому в Ленинграде см. примеч. к статье «Памятники великим писателям»[37].
…при планировке нового большого Ленинграда следовало бы предусмотреть сооружение Дворца искусств и около него установить ряд памятников… — Не осуществлено.
Когда я как скульптор думаю об образах Пушкина, то у меня мысли сводятся к глыбам гранита и мрамора. — Тяготением к большой символической форме монумента отмечен у Л. В. Шервуда и проект памятника А. С. Пушкину, который был представлен на II туре послевоенного конкурса в 1949 г. В постановлении городского архитектурного совета была отмечена «совершенная неприемлемость проекта Л. В. Шервуда, предложившего исключительно формалистическое решение: из земли вертикально поднимается огромная рука, держащая голову Пушкина» (Пини О. А. К истории создания памятника Пушкину работы М. К. Аникушина // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 456).
Я уже работал над Пушкиным в скульптуре, это было в 1902 году. — В своих воспоминаниях Л. В. Шервуд несколько подробнее рассказывает об этой работе: «В работе над Пушкиным я впервые почувствовал всю силу и значение роденовского принципа в пластике. В нем композиция всей фигуры вытекает из характера ритмов и форм головы. Выставленные на академической выставке бюст Пушкина и фигурка художника Бельковича имели большой успех. Репин, увидя мои работы, сказал: „Вот и у нас свой Трубецкой…“ За бюст Пушкина скульптурный факультет Академии лишил меня мастерской… К юбилею Пушкина, для восстановленной квартиры поэта, Серов, Бенуа и Добужинский взяли мой бюст Пушкина как самую интересную работу» (Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.; М., 1937. С. 37, 49). В настоящее время этот бюст хранится в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве.
Юрий Тынянов. Движение
Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) — писатель, историк литературы, литературный критик. Член Пушкинской комиссии Академии наук СССР, а также Всесоюзного и Ленинградского пушкинских комитетов, созданных в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина. Окончил в 1918 г. историко-филологический факультет Петербургского университета. Первая историко-литературная книга — «Достоевский и Гоголь. К теории пародии» (1921), первый исторический роман — «Кюхля» (1925). Автор романа «Смерть Вазир-Мухтара» (1927–1928), исторических рассказов и повестей «Подпоручик Киже» (1927), «Восковая персона» (1930) и др. В 1935–1937 гг. печатает в журнале «Литературный современник» роман «Пушкин» (не окончен). Выступает с речью на торжественном заседании в Гос. театре оперы и балета им. С. М. Кирова в Ленинграде, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Вместе с другими членами Пушкинского общества выступает в печати за сохранение мемориальных зданий и дворцово-парковых ансамблей города Пушкин (см.: Известия. 1938. 4 авг.). Главное место в историко-литературном наследии Тынянова занимают труды о Пушкине и его современниках.
Мы привыкли воспринимать садовые памятники как украшения. — Это возражение против сквера возле Академии художеств как места для будущего памятника можно понимать расширительно, отнести его и к памятнику И. А. Крылову в Летнем саду и А. С. Пушкину на Тверском бульваре и т. п. В то же время в статье Ю. Тынянов охотно рассуждает о воображаемой «Пушкинской аллее» в Летнем саду, которую можно было бы выстроить из скульптур учителей, друзей и современников поэта. Здесь в участнике дискуссии «Каким должен быть памятник…» говорит еще и автор романа о поэте, романа, лицейскую главу которого он недавно завершил.
Я не знаток архитектуры и планировки городов, но мне кажется, что выход может быть найден… — Далее Тынянов предлагает построить для памятника на Неве каменный мыс, как будто забывая при этом о существовании стрелки Васильевского острова, которую в ходе дискуссии назовет В. Каверин и где будет произведена в 1937 г. закладка памятника. Еще возражая против сквера у Академии художеств как места «очень определенного стиля», Тынянов, по-видимому, полагал, что эти качества присущи и ансамблю на стрелке. Поэтому лучшей декорацией для монумента, по Тынянову, могла быть только Нева — главная и идеальная магистраль города. При этом Тынянов-историк исходил не столько из градостроительных задач, сколько из собственно пушкинских представлений о петербургском пейзаже. Не случайно Тынянов начинает свою статью с напоминания о пушкинском рисунке-автопортрете к «Евгению Онегину».
Как передать в памятнике сходство? — По существу Ю. Тынянов является единственным участником дискуссии, который останавливается на этой проблеме, обращая внимание современных скульпторов на «отличные» первые бюсты поэта — бюсты работы И. П. Витали, собиравшегося вылепить Пушкина еще при его жизни, бюст С. И. Гальберга, автора посмертной маски поэта, и на статуэтку А. И. Теребенева, которая «прекрасно передает», по словам Тынянова, «обычную позу Пушкина». О взглядах Тынянова на пушкинскую иконографию имеется позднейшее свидетельство В. А. Каверина (см. примеч. 21 к вводной главе наст. изд.[38]).
Б. А. Бабочкин. Пушкин-победитель
Борис Андреевич Бабочкин (1904–1975) — артист, режиссер. Учился в Московской студии «Молодые мастера» у И. Н. Певцова. Актер Ленинградского театра драмы (1931–1935), Большого драматического театра в Ленинграде (1937–1940) и др. В кино снимался с 1927 г. Исполнитель главной роли в фильме бр. Васильевых «Чапаев» (1934), которая принесла ему широкую известность.
Многословные комментарии пушкинистов буквально забивают самого Пушкина. — Эта фраза, относящаяся к изданию Полного академического собрания сочинений А. С. Пушкина, задачи которого вступили в противоречие с темпами юбилейных скоростей, имела и другой смысл. Критика пушкинистов и филологии вышла здесь за рамки литературного процесса и обрела общественный пафос упрощения культуры. В результате «пушкинский» год оказался годом «крестового похода» против пушкинистов. Объектом обличительных статей в эту эпоху становятся Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, С. М. Бонди (напр., см.: Лежнев А. Каста пушкинистов // Большевистская печать. 1936. № 10. С. 17–18) и др.; распространяются сатирические куплеты вроде: «И важен нам, естественно, не Пушкин, / А только примечания к нему» (Арго А. М. Сатирические очерки из истории русской литературы. М., 1939. С. 26), карикатуры, на одной из которых, М. Б. Храпковского, памятник Пушкину окружен праздничной толпой пушкинистов с развернутыми транспарантами: «А. С. Пушкину от комментаторов», «Нашему поильцу и кормильцу» и т. п. (Там же. С. 22). «Пушкинианец — пушкинист — пушкиновед» становится новой социальной маской, и на эстраде эту маску надевает на себя молодой Аркадий Райкин (см.: Уварова Е. Аркадий Райкин. М., 1986. С. 46).
…в ближайшее время будет опубликован конкурс Совнаркома СССР на проект памятника Пушкину. — История этого конкурса не зафиксирована, поэтому для его реконструкции мы опираемся главным образом на содержательную статью известного в те годы художественного критика, в прошлом — скульптора, ученика А. Бурделя, Б. Н. Терновца «Памятник Пушкину (опыт двух конкурсов)», опубликованную в журнале «Архитектура СССР» (1939. № 5) и переизданную позднее в авторской редакции, которую мы использовали (см.: Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977). См. также: Нейман М. Памятник поэту // Советское искусство. 1939. 14 янв.
По существу, было установлено два отдельных конкурса, каждый из которых носил самостоятельный характер. Для участия в первом заказном конкурсе были приглашены три ленинградских скульптора — Л. В. Шервуд, B. В. Лишев, В. А. Синайский — и трое москвичей — Б. Д. Королев, С. Д. Меркуров, И. М. Чайков. Выставка конкурсных проектов была устроена осенью 1937 г. в Москве, в Музее изобразительных искусств, которому было присвоено в том же году имя А. С. Пушкина. Безрезультатность первого конкурса заставила Комитет по делам искусств объявить новый конкурс, значительно расширив состав участников (до 24) и изменив условия. На этот раз достаточно было представить не проект, а эскиз памятника, это был, по выражению Б. Н. Терновца, «не конкурс проектов, а конкурс эскизов». Итоги второго конкурса были подведены в конце декабря 1938 г. — начале января 1939 г. «Мне кажется, — писал Б. Терновец, — и сейчас снова приходится констатировать, что конкурс не дал всех ожидаемых результатов… можно говорить об удаче 2–3 конкурсантов…» (Терновец Б. Н. Указ. соч. С. 276). В конкурсе приняли участие (в алфавитном порядке): И. М. Бирюков, Н. П. Гаврилов, А. И. Григорьев, А. В. Грубе, В. Н. Домогацкий, В. И. Ингал и В. Я. Боголюбов, А. М. Измалков, Б. Д. Королев, А. А. Мануйлов, C. Д. Меркуров, Г. И. Мотовилов, Л. М. Писаревский, В. А. Синайский, И. Л. Слоним, И. Д. Шадр, Г. А. Шульц, Б. И. Яковлев и др.
Лучшим был признан эскиз И. Д. Шадра, которому было предложено сооружение большого проекта памятника. Работа над ним была прервана смертью скульптора (см.: Колпинский Ю. И. Д. Шадр. М., 1954. С. 78–85). Его небольшая модель памятника Пушкину (1940) хранится в Гос. музее А. С. Пушкина в Москве. Интересно отметить, что своя мифология складывается на этот раз в связи с самой ситуацией конкурса, вокруг несуществующего памятника. Мифология, породившая известный анекдот о поправках, вносившихся различными жюри и комиссиями в проект пушкинского памятника. Вот один из таких апокрифов: «Первоначально был изображен Пушкин с томиком своих стихов, затем томик Пушкина был заменен томом Сталина, затем книга снова стала пушкинской, зато фигура — сталинской, а на последнем этапе вместо стихов Пушкина в руках Сталина оказался… „Краткий курс истории КПСС“» (Опульский А. Указ. соч. С. 102. Записано со слов скульптора С. Эрьзи. Ошибка в названии — «Краткий курс истории КПСС» вместо «Краткий курс истории ВКП(б)» — указывает не столько на ошибку памяти мемуариста, сколько на мифологизированную связь времени в анекдоте, переведенном из довоенной эпохи в послевоенную).
Разумеется, этот вольный анекдот не связан прямо с каким-то конкретным проектом или эскизом памятника Пушкину, но для нашей темы существенно, что в ситуации культа Сталина фольклор вбирает в себя и пушкинские конкурсы, оказавшиеся в тесном кольце других конкурсов и выставок, посвященных монументам политическим деятелям (см. краткий их перечень в примеч. к статье В. В. Козлова «Памятник Пушкину» на с. 74–76[39]). Можно выстроить и более реальный комментарий к этому историческому анекдоту.
Как известно, в Москве 1937 г. даже наивному Лиону Фейхтвангеру, замечавшему бюсты и портреты вождя «в подходящих и неподходящих местах», показалось по меньшей мере непонятным, «какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта» (Фейхтвангер Л. Москва 1937. М., 1937. С. 59). Речь идет о выставке Рембрандта в Гос. музее изобразительных искусств, открытой 11 ноября 1936 г., еще до присвоения ему имени Пушкина, а закрытой 25 февраля 1937 г. уже в музее с новым названием. Впрочем, на этом исторический водевиль с переодеванием не заканчивается, после войны тот же музей был преобразован в «Музей подарков И. В. Сталину». Таким образом, все позиции анекдота, как оказывается, имели свои исторические реалии. Эта стихия полупоэтических-полуполитических переименований, случившихся в пушкинский год, породила аналогичные апокрифы и в парижской эмигрантской печати. «Что делает советское правительство для чествования столетия Пушкина?… Пока Святогорск только переименован в „Пушкинские горы“, — да по Москве ходит анекдот, что, во славу Пушкина, переименуют Мойку, где умер в Петербурге Пушкин, в Сталинский проспект, а Тверской бульвар, где 50 лет стоит ему памятник, в бульвар Ежова» (Иллюстрированная Россия (Пушкинский номер). 1937. № 7. Б. п.).
В. Каверин. Памятник гению
Вениамин Александрович Каверин (1902–1989) — писатель, историк литературы, мемуарист. Окончил в 1923 г. Институт восточных языков в Петрограде. Входил в литературную группу «Серапионовы братья». Первая книга рассказов «Мастера и подмастерья» (1923). Автор книг «Конец хазы» (1925), «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1929), «Художник неизвестен» (1931), «Два капитана» (1940) и др. Роман «Исполнение желаний» (первая ред. — 1935–1936, вторая — 1973) посвящен судьбам филологов-пушкинистов. Впоследствии занимался публикацией литературного наследия Юрия Тынянова.
На пьедестале московского Пушкина и на памятнике в Детском Селе высечены стихи. — На московском памятнике А. С. Пушкину, открытом в 1880 г., были высечены строки из пушкинского стихотворения «Памятник» в редакции В. А. Жуковского, где вместо слов:
И долго буду тем любезен я народу…Что в мой жестокий век восславил я Свободу… —следовало:
И долго буду тем народу я любезен…Что прелестью живой стихов я был полезен.Споры по поводу трактовки этого стихотворения занимают существенное место в пушкинистике (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Д., 1967). Литературной пародией на эту полемику явилась «пьеса» И. Фейнберга, представляющая собой воображаемый разговор у памятника Пушкину. «Действующие лица: Ведущий, Памятник Пушкину, Вересаев, Сакулин, Гершензон» (Фейнберг И. «Памятник» // Лит. критик. 1933. № 5. С. 85). «Историческая опечатка», по выражению И. Фейнберга, на пьедестале памятника была исправлена в юбилейные дни 1937 г., когда указанные строки из первоначальной надписи были сбиты и на их месте высечен подлинный пушкинский текст. Собственно, к исправлению этой опечатки и свелись в 1937 г. замыслы сооружения в Москве нового памятника поэту, о которых во время ленинградской дискуссии говорил скульптор Л. В. Шервуд. См. также: Левитт Маркус Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994. С. 184 (гл. «Сталинская советизация Пушкина»).
На памятнике А. С. Пушкину в Царском Селе, открытом в 1900 г., с трех сторон гранитного пьедестала высечены следующие пушкинские строки:
«Младых бесед оставя блеск и шум…»(четыре строки из стих. «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг…», 1822));«В те дни, в таинственных долинах…»(четыре строки из гл. VIII «Евгения Онегина»);«Друзья мои, прекрасен наш союз!..»(восемь строк из стих. «19 октября» 1925 г.).Стихи для памятника были выбраны И. Ф. Анненским (см.: Голлербах Э. А. С. Пушкин в портретах и иллюстрациях // А. С. Пушкин в изобразительном искусстве. Л., 1937. С. 169).
В. В. Лишев. Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре
Всеволод Всеволодович Лишев (1877–1960) — скульптор, член Ленинградского пушкинского комитета. Окончил в 1913 г. Академию художеств в Петербурге, где учился у Г. Р. Залемана и В. А. Беклемишева. Участвовал в конкурсе на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (I тур — 1937). Автор памятников Н. Г. Чернышевскому (Ленинград, 1947), А. С. Грибоедову (1959), К. Д. Ушинскому (1961). Принимал также участие (совместное В. Н. Талепоровским) в послевоенном конкурсе на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (II тур — 1949).
Мои мысли о Пушкине — это пятнадцать сделанных эскизов памятника Пушкину… — Речь идет о доконкурсных эскизах памятника, еще не предназначенных для этой цели, однако, по-видимому, сказавшихся и на конкурсном проекте Лишева 1937 г. Проект был отнесен критикой к числу «запутавшихся в сетях внешнего натуралистического подхода к облику Пушкина» (Терновец Б. Н. Указ. соч. С. 274). Примерно о том же писала критика по поводу проекта Лишева, фигурировавшего на послевоенном пушкинском конкурсе: «Проект, представленный В. В. Лишевым и В. Н. Талепоровским, отличавшийся удачным силуэтом, по своей несколько бытовой характеристике являлся спорным и не монументальным» (Пини О. А. Указ. соч. С. 456). Следует отметить, что стиль В. В. Лишева, придерживавшегося скульптурной традиции второй половины прошлого века, не помешал ему снискать успех в случае с памятником Н. Г. Чернышевскому (модель 1940–1941, Сталинская премия — 1942), но оказался совершенно непригодным для пушкинского памятника.
Виссарион Саянов. Величие и монументальность
Виссарион Михайлович Саянов (1903–1959) — поэт, прозаик и литературный критик. Учился в Петроградском университете (1922–1925). Печатается с 1923 г., первая книга стихов «Фартовые года» издана в 1926 г. Автор книг «От классики к современности» и «Очерки по истории русской поэзии XIX в.» (обе — Л., 1929). В пушкинском номере журнала «Звезда» (1937. № 1) опубликовал стихотворение «5 февраля 1837», в сборнике «Венок Пушкину» (М., 1974) напечатано стихотворение Саянова «Пушкин», датированное 1937 г.
Памятник Пушкину в Ленинграде, заложенный в эти замечательные дни… — В постановлении Всесоюзного пушкинского комитета о порядке проведения пушкинских юбилейных дней было, в частности, предписано устроить 10 февраля «торжественный митинг у памятника Пушкина в Москве», а в Ленинграде произвести «закладку монументального памятника Пушкину у фондовой Биржи». Постановление было подписано председателем Всесоюзного пушкинского комитета А. С. Бубновым и утверждено Совнаркомом СССР (см.: Правда. 1937. 2 февр.). Как сообщала «Ленинградская правда», «закладка монументального памятника Пушкина против фондовой Биржи состоялась 10 февраля 1937 года. Присутствовали представители общественности, студенты, рабочие, учащиеся» (1937. 11 февр.). На торжественной церемонии выступали писатели Борис Лавренев и Александр Прокофьев, академик И. А. Орбели, из участников дискуссии — народный артист СССР Борис Бабочкин (см.: Пини О. А. Указ. соч. С. 454). В тот же день состоялось открытие обелиска на месте дуэли Пушкина с Дантесом на Черной речке.
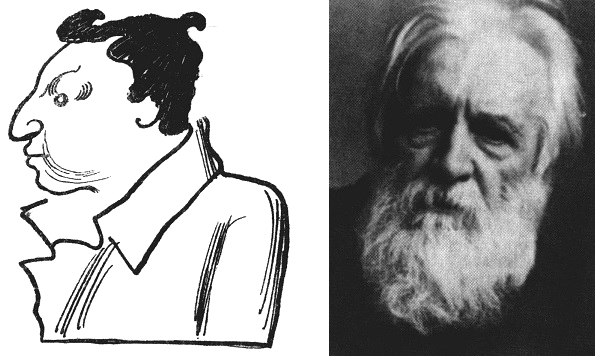
Участники дискуссии.
В. Каверин.
Шарж Н. Э. Радлова. 1933.
В. В. Лишев.
Фото.
…пришла пора поставить вопрос о памятниках двум другим гениальным поэтам. Я имею в виду Лермонтова и Некрасова. — Замысел нового памятника М. Ю. Лермонтову в Ленинграде остался неосуществленным. Характерно, что старые монументы в то время совсем не принимали в расчет, как в случае с Лермонтовым, памятник которому был установлен в 1916 г. (скульпт. Б. М. Микешин) на Лермонтовском проспекте перед зданием б. Николаевского кавалерийского училища, где в 1883 г. был открыт первый лермонтовский музей (упразднен в 1917 г., фонды переданы в Пушкинский Дом). Памятник Н. А. Некрасову установлен в Ленинграде в 1971 г. на углу ул. Некрасова и Греческого проспекта (скульпт. Д. Ю. Эйдлин, арх. В. С. Васильковский).
Я считаю неправильным, чтобы тусклая и унылая Пушкинская улица продолжала носить имя поэта… Почему бы не перенести ее [статую Пушкина] в Михайловское… — Не осуществлено (см. примеч. к статье Е. И. Катонина «География памятников» на с. 77[40]). Эпидемия сноса памятников характерна не только для первых послереволюционных лет, но и для начала 30-х гг. Этому посвящена, в частности, комедия Мих. Зощенко «Культурное наследие» (1933), где участвуют «царские памятники, снесенные на слом, а также памятники, которые могут быть снесены». Появляющийся по ходу действия А. С. Пушкин высказывается против сноса памятников (см.: Альманах эстрады. Л., 1933).
Л. А. Ильин. Он должен быть прост, как стихи Пушкина
Лев Александрович Ильин (1880–1942) — главный архитектор Ленинграда (1925–1938). Окончил в 1902 г. Институт гражданских инженеров в Петербурге, занимался в Академии художеств у Л. Н. Бенуа. Директор Музея города (1918–1935). Руководил разработкой Генерального плана развития Ленинграда (1933–1936). По его проекту в 1926 г. перепланирован сквер на Биржевой площади, переименованной в 1937 г. в Пушкинскую (ныне ей возвращено старое название), где и был заложен тогда памятник поэту. Автор заметок о классических памятниках города «Прогулки по Ленинграду».
Сквер против фондовой Биржи, где будет стоять памятник Пушкину, — это самое выигрышное место… — Как показали итоги конкурсов 1937–1938 гг., место у Биржи оказалось совсем неподходящим для памятника. С одной стороны, этот выбор сильно увеличил амбиции устроителей конкурса, породив иллюзию сооружения нового Медного всадника, с другой — поставил перед скульпторами серьезные препятствия. К числу их относились сложности архитектурно-пространственного решения памятника, которые тонко определил Б. Н. Терновец. Эти сложности оказались непреодолимыми, в результате чего для памятника, установленного в 1957 г., было выбрано другое место.

Участники дискуссии.
В. В. Саянов.
Шарж Н. Э. Радлова. 1933.
Л. А. Ильин.
Рисунок М. А. Шепилевского.
Особенно я советовал бы учиться у Мартоса… — Здесь впервые в дискуссии возникает имя скульптора И. П. Мартоса, автора знаменитого памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве (1818), что указывает на перемены в художественных вкусах того времени, говорит об их повороте к неоклассицизму. Примерно о том же пишет В. Саянов — не называя, правда, имени Мартоса и предлагая идти от «гениального фальконетовского памятника», он внушает скульпторам мысль о необходимости «строгости и стройности линий, полной законченности». Вообще следует сказать, что парадная советская риторика прошедших пушкинских торжеств и официальное определение места будущего памятника сказались на стиле и характере выступлений последних участников дискуссии.
Памятник великому пролетарскому писателю, поставленный перед зданием нового Большого театра. — Замысел здания нового Большого театра в Ленинграде (Е. И. Катонин говорил о площади Ленинградской Большой оперы), которое предполагалось, очевидно, соорудить согласно Генеральному плану развития Ленинграда (1936), остался неосуществленным. О памятнике М. Горькому в Ленинграде см. примеч. к статье «Памятники великим писателям» на с. 70[41].
II. Пушкин в изобразительном искусстве
Беседа в редакции журнала «Литературный современник»ПУШКИН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
(«Литературный современник». 1937. № 1)
Н. Л. Степанов. Об иллюстрировании Пушкина
С. Б. Юдовин. Юбилейные издания
Э. Ф. Голлербах. Изобразительное искусство и Пушкин
К. С. Петров-Водкин. Пушкин и мы
Н. А. Тырса. Иллюстрация и творчество
Б. В. Томашевский. Пушкинская книга и художник
С. Марвич. Новое в пушкинской иконографии
Инн. Оксенов. Художник и тема
Е. Кибрик. В поисках народности
Л. А. Динцес. О народности
П. Корнилов. Вчера и сегодня
Приложение
Из «АНКЕТ О ПУШКИНЕ»
Д. И. Митрохин
К. С. Петров-Водкин
Н. Э. Радлов
H. Л. Степанов
ОБ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ ПУШКИНА
Иллюстрирование произведений Пушкина, отображение образов, данных в его художественных произведениях, — большое и почетное, но вместе с тем и очень трудное дело. Поэтому всячески хочется приветствовать тот творческий энтузиазм, с которым взялись советские художники за иллюстрирование Пушкина, в частности художники Ленинграда, и тот широкий размах работы, о котором свидетельствуют представленные здесь многочисленные экспонаты. Несомненно, что то любовное отношение, то активное творческое внимание, с которым отнеслись к иллюстрированию Пушкина наши художники-графики, сторицей оправдает себя, обогатив и углубив их творческий опыт.
Передать образ Пушкина средствами другого искусства, в данном случае средствами изобразительного искусства, задача прежде всего трудная потому, что требует известной художественной эквивалентности. Именно в этом, в художественной убедительности истолкования пушкинских образов, в том, чтобы они имели какую-то обязательность для восприятия произведений Пушкина, мне кажется, и кроется основной секрет удачи художника.
Следует оговориться здесь, что историк литературы связан прежде всего с осмыслением произведений Пушкина в плане историко-литературного анализа, в плане осмысления его произведений на основе раскрытия их идейного содержания и принципов художественной выразительности. Поэтому он особенно требовательно относится к тому, в какой мере точно и исторически правдиво раскрывает иллюстрация замысел произведений Пушкина, характер его героев, общий колорит эпохи. Естественно, конечно, что каждый художник имеет право на полную свободу в своем творческом истолковании образов автора. Но эта свобода может и должна быть оправдана лишь убедительностью раскрытия образов Пушкина, такой убедительностью, которая не искажает художественного произведения, а поясняет и дополняет его для читателя. Именно поэтому одним из критериев удачи иллюстрации должно прежде всего являться отсутствие разрыва между текстом и смыслом произведения Пушкина и его графическим или живописным истолкованием.
Мне недавно пришлось беседовать с одним молодым американским художником, иллюстрирующим Достоевского. Его субъективное осознание Достоевского настолько далеко от каких-либо реальных данных, от всего характера творчества Достоевского, настолько условно, что трудно даже говорить о каком-либо иллюстрировании Достоевского: мы имеем дело с совершенно произвольными ассоциациями на мотивы Достоевского.
В сущности, у нас не было до сих пор, за исключением нескольких отдельных произведений, иллюстрированного Пушкина. Иллюстрации Пушкина, которые делались раньше для вольфовских однотомников и «роскошных» подарочных изданий, иллюстрации Лебедева, Самокиш-Судковской, Соколова, Соломко и мн. др., погрязали или в бездарном сереньком «бытовизме», или в эстетном альбомном «изяществе» и были равно далеки от произведений Пушкина. В этом отношении Пушкину «повезло» гораздо меньше, чем другим русским писателям. Ведь многие образы Гоголя усваивались нами еще с детства по иллюстрациям Агина и Боклевского. И хотя эти иллюстрации далеко не идеальны и неадекватны гоголевскому тексту, но так или иначе целые поколения читателей по ним воспринимали произведения Гоголя, видели в них какую-то конкретную реализацию гениальных гоголевских образов. Поэтому сними необходимо считаться, так как они уловили и смогли передать какие-то верные и близкие гоголевскому творчеству зрительные образы.
С иллюстрациями Пушкина такого положения нет, и та огромная работа, которую ведут сейчас советские художники, эта работа начата почти заново. В числе немногих интересных иллюстраций к Пушкину следует в первую очередь выделить иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику» и к «Пиковой даме», Шухаева к «Пиковой даме» и Добужинского к «Станционному смотрителю». В этих иллюстрациях, являвшихся, несомненно, весьма крупными событиями в деле иллюстрирования Пушкина, помимо их художественного мастерства, сделаны впервые попытки своеобразного осмысления Пушкина, воспроизведение его образов в плане определенной идейной концепции. Не входя в подробное рассмотрение этих иллюстраций, следует указать, однако, их далекость и чуждость нашему пониманию Пушкина, их зависимость от того идейного восприятия Пушкина, которое было выдвинуто символистами и реакционно-идеалистической критикой. Но в этих иллюстрациях была сделана впервые попытка найти обобщенный стиль, полноценный графический и живописный образ, истолковывающий, а не только иллюстрирующий произведения Пушкина. Однако мистическое истолкование пушкинских сюжетов, любование ампирным Петербургом, эстетизм в разрешении чисто графических и живописных проблем чрезвычайно далеки от реалистических в основном, мудрых и ясных произведений Пушкина.
В особенности не даются иллюстраторам образы, портреты пушкинских героев. У нас нет ни одного сколько-нибудь убедительного изображения Онегина, Татьяны, Гринева или Дубровского. Вообще, по-видимому, передача образов основных героев произведения — одна из самых трудных и сложных задач, так как художнику здесь приходится реализовать в конкретном зрительном образе одновременно и внешние черты героя, рассеянные по всему произведению, и передать его внутренний облик, восприятие которого бывает часто особенно спорным и субъективным.
Может, именно в этом разгадка того обстоятельства, что образы Пушкина до сих пор не нашли своего достойного отображения в живописи и графике. Мне кажется, что это объясняется не случайными причинами, а некоторыми внутренними свойствами пушкинских произведений. Реалистическая правдивость и точность образов Пушкина, простота и ясность и вместе с тем огромная емкость в их словесной обрисовке требуют и от художника каких-то корреспондирующих качеств. Вот этой смысловой углубленности и вместе с тем правдивости и простоты рисунка, графического и живописного образа чаще всего не хватает иллюстрациям к Пушкину.
Если в прозе Гоголя такое большое место занимает описание внешности, жеста, костюма, обстановки, то Пушкин в этом отношении предельно экономен и в то же время точен. Воссоздание его образов должно идти от углубленного «внутреннего» понимания его героев, его характеров, от пристального вглядывания в те скупые штрихи, которыми их Пушкин намечает (тогда как Гоголь сам «живописует» образ, дает почти готовый зрительный облик). Этой проникновенности, этого внимания к тончайшим деталям и нюансам пушкинских образов и недостает иллюстраторам. Поэтому чаще всего передавались костюмы, бытовая обстановка, пейзаж, а не образы Пушкина. Большинство иллюстраторов исходило почти целиком из своих собственных вкусовых и стилистических заданий, слишком мало считаясь с текстом Пушкина и недостаточно глубоко осмысляя идейную сторону его произведений. Я не вхожу в подробное рассмотрение выставленных здесь иллюстраций. Они так разнообразны и многочисленны, что сделать это очень трудно. Но даже при беглом взгляде на них чувствуется чрезвычайная неровность между отдельными вещами даже одного и того же художника. Например, рисунок Самохвалова к «Графу Нулину» звучит интересно и свежо, а по иллюстрации к «Цыганам» нельзя даже догадаться, что она относится именно к «Цыганам». Или в рисунке к «Кавказскому пленнику» — вы не ощущаете романтической темы, байроновского духа, не чувствуется воздуха Кавказа, которые так тесно ассоциируются с этой поэмой. По-видимому, даже в пределах пушкинских поэм художник не в одинаковой мере ощущает, чувствует их, и возможно, что именно этот большой тематический диапазон пушкинских поэм помешал художнику равноценно подходить к ним и разрешить те задачи, которые он перед собой ставил. Особенно удачными показались мне иллюстрации художника Пахомова к «Дубровскому» своей реалистичностью и выразительностью и вместе с тем большим мастерством и точностью рисунка. Интересны и рисунки Кибрика к «Сказкам Пушкина», хотя, может быть, несколько излишне скупые в своем сюжетном и живописном разрешении. Хотелось бы также отметить с большой любовью сделанные иллюстрации Л. С. Хижинского, который в деревянной гравюре добился исключительной тонкости и изящества (в лучшем смысле этого слова) и вместе с тем тончайшей, филигранной отделки, что эти гравюры представляют собой, несомненно, большой интерес. Но должен сказать, что опять-таки они не все равноценны: пейзажные рисунки значительно более соответствуют замыслу и темпераменту художника…
Я назвал лишь два-три более или менее случайных примера, свидетельствующих о большом внимании и любви наших художников к Пушкину, о создании произведений большой художественной культуры и мастерства. Многое из показанного здесь спорно, многое носит несколько случайный характер, но в целом следует отметить огромный сдвиг, дающий уверенность, что создание «настоящего» иллюстрированного Пушкина — дело ближайшего будущего.
С. Б. Юдовин
ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
Нельзя сказать, чтобы художники за последние 19 лет уделили много внимания Пушкину, чтобы его произведения много и серьезно иллюстрировались. Правда, работа иллюстратора связана с издательством, а издательства за эти годы также не проявляли активного интереса к иллюстрированию Пушкина. Серьезные намерения у обеих сторон появились только накануне юбилея. Но тут же оказалось мало времени для серьезной большой работы. Правда, работа над Пушкиным не ограничивается юбилеем, но приходится очень сожалеть, что именно к юбилею мы приходим с очень скромными иллюстрациями к Пушкину. Мы не можем назвать ни одной новой работы, которая по масштабу своему могла бы сравниться с работой художников «Мира искусства». Эта работа имеет и свои недостатки, но она еще до сих пор остается самой большой и серьезной работой над Пушкиным.
Наши юбилейные издания будут очень скромно иллюстрированы. Издательство «Academia» по недостатку времени пошло по линии использования старых иллюстраций, иллюстрируя сейчас заново только те произведения, которые совершенно не имели иллюстраций. Среди вновь очень скромно и скупо иллюстрированных изданий имеется ряд интересных работ: Суворова — «Деревня», Горшмана — «Кавказский пленник», Родионова — «Полтава», Кравченко — «Египетские ночи», Шмаринова — «Метель», Хигера — «Капитанская дочка». Но все эти работы нельзя назвать значительными. Они скорее говорят о том, что эти художники при более значительном сроке могли бы сделать большие, серьезные работы к Пушкину.
Большую работу проделало издательство «Academia» над портретом Пушкина для юбилейного издания. По заказу издательства целый ряд художников работали над портретом Пушкина. Из них наиболее интересны портреты Фаворского, Суворова, Хижинского и Мочалова.
Большую работу по иллюстрированию Пушкина проделал, несмотря на короткий срок, Ленгослитиздат. Издательство выпускает серию вновь иллюстрированных произведений Пушкина. Для этой работы были привлечены все лучшие художники-графики Ленинграда. Подводя сейчас итоги этой работы, можно смело сказать, что результат вполне хороший. Получится серия хорошо иллюстрированных и оформленных произведений Пушкина. Правда, не все художники одинаково хорошо справились со своей работой, но есть ряд хорошо сделанных книжек.
Художник Тырса дал ряд прекрасных иллюстраций к «Пиковой даме», очень образных, с большим мастерством и вкусом использовав цвет.
Хороши также иллюстрации художника Пахомова к «Дубровскому». Пахомов дал ряд живых, динамических рисунков. Художник не шел по линии старых слащавых романтических иллюстраций и кинокартины, а пытался по-новому читать и трактовать текст. Его рисунки отображают ряд моментов крестьянского бунта. Они образны и сделаны в его прекрасной карандашной манере.
Удачно справился со своей задачей художник Кибрик. Его работа была особенно трудна, иллюстрации к сказкам — это самый засоренный участок в иллюстрациях к Пушкину. Все художники шли по линии стилизации в сусальном боярском стиле. Кибрик искал новую форму для иллюстрирования сказки. Его листы в одно и то же время и реальны и сказочны, его образы близки и понятны.
Работы Самохвалова к поэмам Пушкина, как все его иллюстрационные работы, отличаются своеобразной, оригинальной трактовкой образов и композиции. Жаль, что ему приходилось делать только по одному листу к каждой поэме. Это сильно суживает и затрудняет возможности художника. Тем паче, что содержание произведений совершенно разное. Не все листы к Пушкину ему одинаково удались, но есть ряд прекрасных листов: «Граф Нулин», «Медный всадник» и др.
Нельзя считать удачными иллюстрации Рудакова к «Евгению Онегину». Они несравненно слабее его прекрасных по образности и форме листов к Мопассану.
Не особенно образны листы Хижинского к «Повестям Белкина», но что особенно удалось Хижинскому — это его гравюры «Пушкинский заповедник». Это действительно прекрасные по форме, настроению и граверному мастерству листы. В этих работах Хижинский показал себя как хороший пейзажист и гравер.
Из молодых иллюстраторов следует отметить Якобсон с ее рисунками к «Станционному смотрителю». Они образны и сделаны в приятной перовой технике.
Вот приблизительно все, что сделано по иллюстрации Пушкина.
Будем думать, что эта работа к юбилею только начало будущей большой совместной работы художников и издательств над иллюстрациями к Пушкину.
Э. Ф. Голлербах
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПУШКИН
За тот короткий срок, который остался до пушкинских дней, несомненно, сделано будет не много нового. Поэтому мы можем уже сейчас говорить об итогах.
Не знаю, почему нужно заниматься Пушкиным так усиленно только накануне юбилея. Пушкинские темы достойны служить предметом внимания художников всегда — и позднее, и гораздо раньше «юбилейных сроков».
К сожалению, у нас установилось обыкновение устраивать предъюбилейную спешку. Не совсем правильно происходит и «распределение сил». Так, например, вопрос о художественном достоинстве тех или иных портретов, картин и иллюстраций, связанных с Пушкиным, обычно решается отзывом присяжного пушкиниста (апробация эта является для издательств иногда решающим моментом). Случается, что маститые пушкиноведы-текстологи, идеально изучившие все запятые в черновиках Пушкина, санкционируют весьма сомнительные произведения изоискусства и, наоборот, отвергают интересные и ценные работы. Это смешение функций «сапожника» и «пирожника» (по Крылову) — явление ненормальное и безотрадное.
Кроме того, в пушкиноведении установилось не то чтобы пренебрежение, но довольно «неразборчивое» отношение к судьбе Пушкина в изобразительном искусстве. В «Литературном наследстве» появилось даже заявление, что образ Пушкина не представляет большой проблемы пушкиноведения. В «Литературной энциклопедии» и в некоторых пушкинистических работах имеется немало совершенно ошибочных подписей под репродукциями, относящимися к Пушкину и его произведениям. В «Литературной газете» недавно был воспроизведен как «открытие» общеизвестный бюст Пушкина работы Витали да еще с указанием, что он принадлежал «другу Пушкина — Анненкову» (который вовсе не был другом Пушкина). И т. д., и т. п. Все это — симптоматично и печально.

П. П. Кончаловский. Пушкин в Михайловском.
Первый вариант. Масло. 1932.
(Картина отклонена жюри Всесоюзной пушкинской выставки 1937 г.).
«Пушкин читает стихи Луговскому».
Шарж Б. Б. Малаховского. 1934.

Н. П. Ульянов. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу.
Масло. 1935–1937 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).
В плане иллюстрирования произведений Пушкина наши издательства недостаточно осознали и взвесили всю важность и значение графической интерпретации пушкинских образов. Странным и непонятным представляется ограничение работы художника пятью иллюстрациями. Для «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» пять иллюстраций — чрезвычайно мало.
Пушкину никогда не везло на иллюстраторов; вспомним, как богато и великолепно иллюстрированы западноевропейские классики; вспомним таких мастеров, как Дорэ, Гранвиль, Жоанно, Менцель. Даже знаменитые рисунки Агина и Боклевского к Гоголю не подымаются на высоту иностранного иллюстративного мастерства.
Об иллюстрациях к произведениям Пушкина здесь уже говорилось так много и пространно, что я не буду подробно останавливаться на этом вопросе, а коснусь портретов Пушкина и картин биографического значения. Мы знаем, что в этой области кое-что было сделано «передвижниками» более полувека тому назад. Новые вещи подобного рода, появившиеся у нас, не превышают (за редкими исключениями) того среднего уровня, который был достигнут «передвижниками». Айвазовский, Геллер, Мясоедов и даже Репин делали тяжеловесные вещи, лишенные подлинного лиризма, не отражающие пушкинской легкости и окрыленности. Надо сказать, что и в наши дни художники не вышли еще из «передвижнических» рамок (повторяю, за редкими исключениями). Один и тот же мастер, делая несколько портретов Пушкина, изображает поэта по-разному, и начинает казаться, что он сам не верит в тех «Пушкиных», которых он делает. В образ, созданный Серовым, мы верим. Несомненно, и Трубецкой верил в того Пушкина, которого он вылепил. В том, что появилось у нас за последние годы, такой убежденности не чувствуется. Не буду касаться всех анахронизмов и нелепостей, которые до сих пор допускаются некоторыми художниками (например, Пушкин-мальчик изображен перед столом с чернильницей, подаренной поэту Нащокиным в 1832 году). Некоторые художники в своих портретах Пушкина акцентируют профессиональные признаки; обязательно изображают поэта со всеми атрибутами его «ремесла» — с листом, лежащим перед ним, с пером и т. д., словом, хотят непременно передать минуты творческого вдохновения (работы В. Е. Савинского, П. П. Кончаловского и др.). Этот упор на «профессиональные признаки» совершенно не нужен. Образ Пушкина должен быть убедительным и доходчивым без этих атрибутов. «Паспортизация» портретов Пушкина снижает их качество, придает им оттенок наивности.
Большим пробелом в нашей живописи является отсутствие полноценных картин биографического характера, которые говорили бы о жизни Пушкина, отражали бы важнейшие события этой краткой и драгоценной жизни.
Живой, подлинный Пушкин не показан еще по-настоящему в изобразительном искусстве.
Н. И. Шестопалов пытался изобразить встречу Пушкина с Кюхельбекером, изобразил Пушкина с няней, Пушкина в Остафьеве, дуэль Пушкина с Дантесом, группу комсомольцев у памятника Пушкину в Остафьеве и пр. Типичный представитель «передвижнической» линии в живописи, Шестопалов старается возможно подробнее рассказать о событиях, не очень заботясь о самой сущности образа, об отражении стиля эпохи, о пушкинской «стихии». Над портретом Пушкина работает сейчас К. С. Петров-Водкин, можно с уверенностью сказать, что он сделает яркий и содержательный вклад в новейшую иконографию Пушкина.
Ряд интересных замыслов уже осуществила Н. К. Шведе-Радлова. Замечательный, но весьма дискуссионный портрет написал П. П. Кончаловский, вложивший много любви и труда в свою работу. Его голоногий Пушкин шокирует «эстетов», но самый образ Пушкина им понят глубоко и своеобразно. Очень удался образ Пушкина-лицеиста В. А. Фаворскому (рисунок и гравюра на дереве). Вполне удачен Пушкин и у Л. С. Хижинского (гравюры на дереве, два варианта). Надо отметить и портреты Пушкина работы Н. А. Павлова и К. И. Рудакова.
В нашей скульптурной «пушкиниане» нужно особо выделить две головы Пушкина, исполненные В. Н. Домогацким, и фигуру Пушкина, сделанную недавно В. В. Козловым.

А. А. Горбов. Дуэль Пушкина.
Масло. 1936 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).
Н. И. Шестопалов. Комсомольцы у памятника Пушкину в Остафьеве.
Масло. 1936 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).
Обращаясь к экспонатам сегодняшней выставки, я не вижу в «гослитиздатовских» иллюстрациях ничего существенно нового в толковании произведений Пушкина. Винить в этом нужно не столько иллюстраторов, сколько издательство, установившее крайне жесткие сроки для работ и ограничившее количество иллюстраций. Некоторые иллюстраторы пошли трафаретным путем. Так, не видно ничего свежего и нового в трактовке образа Евгения Онегина. В отличных автолитографиях К. И. Рудакова больше «мопассановского», чем пушкинского. Если сравнивать их с «онегинскими» образами Конашевича, можно найти много схожего, хотя бы в сцене последнего свидания Татьяны с Онегиным; вся разница в том, что в одном случае Татьяна опирается на правую руку, а в другом на левую, в одном случае она сидит на ампирном кресле, а в другом — на кресле стиля жакоб. Онегин в обоих случаях имеет вид слуги, ждущего приказаний.
При всех своих формальных достоинствах эти рисунки удивляют нежеланием художников по-новому проработать, по-новому интерпретировать образы Пушкина. Художественные образы становятся особенно выразительными тогда, когда они построены на характерности деталей, показаны «косвенно». «Запротоколировать» все признаки героя или точно повторить ситуации романа — это не «штука», надо, чтобы заговорили побочные факты, надо идти от частного к общему.
Рисунки Н. А. Тырсы к «Пиковой даме» — блестящие рисунки, лаконичные, простые, тонко сделанные. Но их мало, и при сопоставлении с рисунками А. Н. Бенуа к «Пиковой даме» они кажутся бедными. Правда, у Бенуа были совершенно иные возможности (полиграфические и объемные).
Рисунки А. Ф. Пахомова к «Дубровскому» благополучнее в смысле новизны. Дубровский спрятан, он как бы в тени, на первый план выдвинуты крестьяне. Может быть, новизна объясняется тем, что у Пахомова было мало предшественников. За его спиной — только плохие иллюстрации в «Ниве» и «средние» рисунки Кустодиева и Лансере. Во всяком случае, рисунки Пахомова выделяются свежестью и новизной трактовки.
С интересом ждем мы новых иллюстраций к Пушкину от И. Я. Билибина.
Пушкинские места представлены на выставке только работами Л. С. Хижинского. Гравюры Хижинского сделаны с большим вкусом и виртуозны по технике; их рассматриваешь как тонкие ювелирные вещи. Напомню, что пушкинские места отражены еще в рисунках П. А. Шиллинговского, А. В. Каплуна, Т. М. Правосудович, в отличных акварелях Н. Э. Радлова, в работах А. А. Осмеркина и др. «Пушкинский заповедник» удостоился внимания очень многих художников; другим пушкинским местам не повезло; в частности, незаслуженно забыто б. Царское Село, имевшее, как известно, огромное значение в жизни Пушкина.
К. С. Петров-Водкин
ПУШКИН И МЫ
Вопрос о Пушкине в изобразительном искусстве, конечно, вопрос чрезвычайно большой, интересный и в виду близости столетия со дня смерти поэта очень спешный. Совершенно очевидно, что каждый из нас думал над этим вопросом и раньше, но надо сказать, что Пушкину до сих пор не везло с иллюстрациями. Взять, например, врубелевские иллюстрации к «Демону», рисунок там помогает произведению; а таких вещей к Пушкину нет…
Вообще Пушкину не повезло во многих отношениях, не повезло до странного. Если бы Жуковский не зарисовал чертеж его квартиры на Мойке, где поэт окончил свои страдальческие дни, мы ничего не знали бы о них, настолько он обездолен в этом отношении. В воспоминаниях о Жуковском, о Некрасове можно найти любые сведения, все, вплоть до фасона и цвета брюк. Можно найти даже самые брюки. А о Пушкине — ничего. И дело здесь не во времени, а в другом. Пушкин еще мало известен, мало понят.
Литературный критик Мирский несколько времени тому назад выступил с нелепым заявлением, что Пушкин — узкий националист. Потом этот критик извинялся. Но в этом его заявлении есть доля правды, и вот какая. Пушкин только-только начинает входить в нашу эпоху потому, что он, конечно, глубоко национальный или, вернее, народный поэт. Но одно дело человек с прекрасным аппетитом и другое дело обжора. Нужно видеть, что национализм Пушкина достиг таких размеров, которые перехлестнули национальные и стали мировыми. И вот эта черта, свойственная новому пониманию национального, она не полностью осознана, понята Европой. Дело тут не в переводах, это — поэзия, написанная на всех языках, но не усвоенная в своей специфике.
Теперь дальше: что можно вспомнить из наших иллюстраций к биографии Пушкина? Чрезвычайно мало материалов: дуэль, затем Пушкина вносят в квартиру после дуэли. Об этих картинах ничего особого не скажу, очень трогательные вещи, как дорогие свежие записи. Но больше нечего и вспомнить. Дальше идет пробел, идет эпоха народничества, которое, можно сказать, «поплевывало» на Пушкина. После того пробела выплывает нелепейшая вещь — «Пушкин на берегу Черного моря», какая-то сплошная бутафория, которая прикрывает Пушкина, чтобы не работать над его образом. Эта бутафория мешает, загораживает настоящий и подсовывает свой никчемный пафос. Нельзя поступать так с великим образом поэта. Все же лавры эти не дают Айвазовскому спокойно спать, и появляется уже какой-то «морской» Пушкин. Затем написана «Дуэль» Репина. Эта замечательная вещь даже не имеет прямого отношения к дуэли Пушкина, но она навязана ею. Дальше уже идут ропетовские «петушки»: «Старуха у синего моря», грешки Ивана Яковлевича Билибина (не обижайтесь на меня, Иван Яковлевич!) и всеобщие наши грешки. И Малютин тоже дал лишь сусальное понимание сказок Пушкина. Но что все это значит? А значит то, что Пушкин как бы не созревал в нас, не входил в наше сознание, не раскрывался нам полностью. Еще можно упомянуть о работе палешан над Пушкиным — это в росписи Дворца пионеров в Ленинграде. Я бы сказал, что образ самого Пушкина у них не доведен дальше понимания Крамского («у лукоморья дуб зеленый»), но образы сказок Пушкина отлично слились как со стилем палешан, так и с внутренним их содержанием. Помню, когда я еще учился у Штиглица, задумал я писать эскиз. Взял сюжет такой: Пушкин пишет «Бориса Годунова» и слушает пение слепых. Может быть, меня соблазняла красная рубашка, в которой он ходил тогда. Но я увидел, что вокруг меня нет никаких материалов, кроме его произведений. Поэтому мое начинание рухнуло.
Есть у Блока замечательное стихотворение, посвященное Пушкину. Вспоминаю лишь смысл: «Пушкин, в бурю, в грозу, не забывай нас…» Теперь, когда мы стоим на рубеже, обратили на себя внимание всего земного шара, тут уже без Пушкина нельзя. И он пришел нас спасать, когда мы опошляем наше творчество, и помогать, когда мы взбираемся на его вершины. Без него тут нельзя. Но нам, «изошникам», трудно подойти к Пушкину еще и потому, что он настолько максимально чеканит образ, так выпукло кончает его, что не остается хвоста, за который можно ухватиться и продолжать дальше. Есть замечательные пушкинские пейзажи, есть интерьеры вроде: «Дети спят, хозяйка дремлет, на полатях муж лежит…» В живописи наших дней нет такого образа, по крайней мере, я его не встретил. Вспомним его портреты, его шаржи, его собственный автопортрет. Почему Пушкин в своих рисунках был так изобразителен? У него нет ни одной декоративно-пустой вещи. Вспомните его рисунки к стихам: «Не искушай меня без нужды», или «Без хвастовства прожить нельзя», или рисунок военного сапога из рукописи «Медного всадника».
Серов в жизни напоминал мне Пушкина. Серов умел защищать свое достоинство, добиваться того, чтобы художников уважали, не плевали им в лицо, чтобы художника, у которого есть кисть в руках, не считали бы нужным «выводить». Но то время было уже другое. Что касается Пушкина, то у него в этом отношении было трагическое одиночество. Ведь Пушкин был первым литератором-профессионалом, и ему было невыносимо снисходительное, небрежное отношение к писателю, а добиться другого отношения он не смог.
Пушкин среди иллюстраторов тоже одинок. В иллюстрациях бывают замечательные образы, но они становятся стилизацией, теряют свой реализм, когда художники подходят к Пушкину. Нет в них той активности, которой так много у Пушкина. Вот пишет он «Медного всадника» — а каковы иллюстрации? Что дал Бенуа к «Медному всаднику»? Здесь иллюстратор влюблен скорее в Неву, в город, в памятник Фальконета, — все это, конечно, очень интересно, но мало совпадает с оригиналом. А Пушкин как иллюстрирует себя? Сапог щеголя — николаевского офицера. Это делается для того, чтобы выкристаллизовать образ, дать его до конца, опробовать его в другой сфере искусства.
Встает вопрос: кому же передать эти рисунки Пушкина: нам, работникам изо, или же пушкиноведам? Прежде всего всем нам надо учиться у Пушкина, это был творец во всех областях. Вот и Алексей Максимович говорил: «Пушкин все знал», и действительно он все знал, конечно не в смысле полнейших знаний, но в смысле ощущений… Пушкин пишет стихи о Брюллове, о Помпее, и зачеркивает их наглухо. Что это, как не здорово понятая суета сует, раскрытие бессодержательности этой вещи? И когда читаешь, то думаешь, что надо учиться у него и живописи, и литературе, и жизни. К сожалению, прав был тов. Степанов, когда говорил, что в работе нашей над Пушкиным мы слишком часто прибегаем к различным стилевым ухищрениям. Это сказывалось особенно сильно на прежних иллюстрациях. Я помню только одну замечательную иллюстрацию, странно, что здесь никто ее не вспомнил. Это «Сказка о царе Салтане» — рисунки Врубеля. Это была действительно стильная пушкинская вещь.
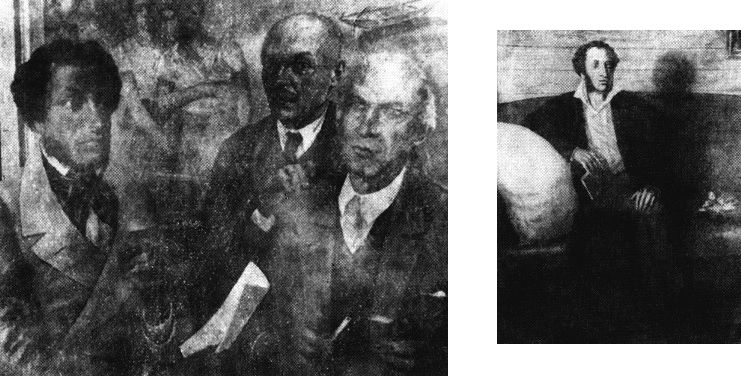
К. Петров-Водкин. Групповой портрет.
(А. С. Пушкин, К. С. Петров-Водкин, Андрей Белый).
Масло. 1932.
Пушкин в Болдине.
Масло. 1937.
(Портрет отклонен жюри Всесоюзной пушкинской выставки 1937 г., уничтожен автором).
Разрешите и о себе поговорить.
У меня с Пушкиным были большие недоразумения. Я начал бытовую картину из жизни советских писателей. Взял Толстого Алексея, парень он веселый, читает прекрасные, несколько грубоватые (ведь время-то было грубое!) отрывки из «Петра I» о том, как боярин Буйносов почесался ниже поясницы, рыгнул и т. д. Рядом сидит Константин Федин. Человек иного художественного направления. Он плохо слушает Толстого. Дальше сидит Вячеслав Яковлевич Шишков, он просто слушает.
Ничего у меня не вышло. Андрей Белый жил тогда в Детском Селе. Я сажаю Белого и перетасовываю персонажи в картине. Дальше начинается чехарда, из-за которой я чуть не поссорился с моими друзьями-писателями. В процессе работы я почувствовал, что комизм, бытовая шуточка неуместны, когда мы сопоставляем мастеров. Белый вошел, сел, взял в руки папиросу. Он взял ее с заднего конца, разминал ее, потому что в те годы папиросы были сырые, и потом обнаружил, что она пустая: это с ним часто случалось. Он взял коробку спичек и вертит ее в руках. Я начинаю чувствовать, что он осложняет ритм произведения. Долго я бился, но ничего не выходило.
Однажды я вдруг неизбежно почувствовал, что на картине нужен Пушкин. Жена и дочь, когда я им рассказал об этом, приняли с восторгом мою мысль… Тогда я решился… Началось «испытание певцов».
И вот у меня пошла перетасовка: то один выскочит, то другой, а Пушкин сидит в сторонке и, как утверждали видевшие этот холст, хорошо сидит. Таким образом все прыгали, все уходили. И вот остались у меня вдвоем Андрей Белый, нанизывающий Пушкина на спичечную коробку, и пустота. Думаю: кого-то надо здесь посадить. Может быть, Блока? Нет, Блок не сидит, ничего не выходит. (Я рассказываю сам так пространно об этом процессе потому, что думаю, что и в литературе также имеются такие моменты перескоков.) И вот тогда я с полным остервенением по итальянскому принципу XIV века начал писать автопортрет. Получалась картина «Пушкин, А. Белый и Петров-Водкин».
Что касается моей дальнейшей работы, то я остановился на том, чтобы дать Пушкина в Болдине. Одиночество, интриги столицы, Пугачев, проба исторического исследования — вот эти моменты. Но дело в том, что в самом Болдине ничего интересного я не нашел; мне запомнилась только комната приказчика и деревянные стены. Мне кажется, что в Болдине должны быть деревянные соструганные доски на стенах, и вот я беру их, чтобы придать комнате более деревенскую обстановку, даю также дедовский диван, зеркало. На этом моменте я хочу сосредоточиться. Но имеется большая трудность в слиянии образа Пушкина, уже навеянного историей, с живой личностью, установить здесь пропорции очень трудно. Я был на его квартире на Мойке, обошел ее всю, все осмотрел и теперь начинаю понимать, что мне нужно.
Что касается новых иллюстраций, то я совершенно согласен с мнением выступавших товарищей, что шаг вперед сделан. Я с удовольствием просмотрел все иллюстрации. Среди них есть вещи острые. Иногда видел наиболее опасный подход, когда художник вдруг чувствует себя умнее автора, которого иллюстрирует.
А. Н. Самохвалов еще заражен Салтыковым-Щедриным, над которым он прекрасно работал. В его иллюстрациях чувствуется еще влияние щедринских образов — художник, можно сказать, «подражает сам себе».
Мне нравится «Дубровский» Пахомова, его подход, бытовой комизм, который, конечно, есть в нем. Но здесь имеется нечто и от фильма. Вы смотрели его? Жаль. Вам не нужно было его смотреть.
В этих иллюстрациях есть такая острота и четкость, которая реалистически приближает полусказку-легенду к нашим дням.

К. С. Петров-Водкин. Пушкин в Петербурге.
Масло. 1937–1938.
Иллюстрации Кибрика — это графическая лирика, особенно хорош «кораблик» к «Царю Салтану». Что касается других, то они технически запутанны. Некоторые более четки, другие сложны; можно было облегчить с точки зрения технической. А стиль тут есть.
Рисунки Якобсон интересны, но неровны. Вот этот рисунок головы мне нравится; по своей женственности он замечателен. Правда, в них чувствуется несколько испуганный, благоговейный подход к Пушкину, да это у всех нас имеется. Но это еще все не то. И я даже не представляю себе, как можно дать настоящего Пушкина…
Вещь Рудакова — не новая, и вот поэтому подходишь к ней как-то холодно; все это хорошо, очень почтенно, но неизбежно вспоминаешь оперу, получается какое-то искусство в искусстве, какой-то пережиток.
Блестящая техника Николая Андреевича Тырсы меня не совсем устраивает, потому что опять-таки она носит слишком книжный характер. Я говорю о самих рисунках. Теневые покрышки — очаровательно сделаны; он шагнул далеко вперед по сравнению с «Пиковой дамой» Бенуа, потому что там мы имеем голые события и больше ничего, тут же мы видим «образы событий». Это значительный шаг вперед. Но есть тут некоторые моменты экзотики. Может быть, я ошибаюсь, но есть тут какой-то подход к жесту, представленному в некоторой экзотической перспективе. Наша задача ведь именно в выкристаллизовывании, надо сохранить стиль, но вскрыть его как-то, приблизить к нашим дням, пощупать настоящего Пушкина.
Митрохин — мне очень нравится по технике своей светотени, его специальность — серый массив книжной страницы. Но что касается трагизма «Пира во время чумы», то он сделал его как перевод с английского. Так же как, смотря декорации Бенуа в великолепной постановке в Художественном театре, мы чувствовали, что сидим в Англии. Здесь тоже отдает переводом.
Лапшин был введен в систему постановкой пушкинского спектакля, поэтому графика преобладает у него над содержанием. Работы Ец вызывают интерес, но у него форма превалирует над содержанием и отдает холодом. В работах Хижинского я чувствую его пушкинские места, Михайловское… Художнику удалось без персонажей, даже без архитектурных дополнений передать характер пережитых Пушкиным пейзажей. И очень трогает сдержанность самой техники и стилизация в меру.
Вот, собственно, все, что я могу сказать, может быть, я и напутал и наврал что-нибудь, но уж не обессудьте.
Н. А. Тырса
ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО
Хотелось бы услышать здесь не только художников. Художники сделали иллюстрации — нам интересно мнение об этих работах критиков, пушкинистов и литераторов.
Иллюстраций к Пушкину очень мало. Надо удивляться, что Пушкин почти не иллюстрирован. Я думаю, что этот факт может быть объяснен тем, что Пушкин оставался в негласной опале. Если говорить о прежнем времени, то там все иллюстрационное пошло на передвижников, на гражданские скорби и лапти. Конечно, передвижники не могли понять Пушкина и вдохновиться им как следует. Я даже думаю, что передвижники не были вполне национальными художниками.
Петров-Водкин: Правильно!
В этом и объяснение. Что касается нашего времени, то — будем говорить откровенно — Пушкин был не то что в опале, а не проверен до конца. Надо удивляться тому, что общеизвестное почитание Пушкина Лениным не помешало старателям разных толков держать Пушкина под сомнением. Причислить его к «добропорядочным» не удается. «Подозрительный дворянин» тоже не выходит. Более правильная оценка Маяковского в связи со школьным просвещением имела прекрасные последствия. И конечно, теперь, в связи с юбилеем, наш гениальный, больше чем национальный поэт займет свое место в сердцах наших граждан-художников.
Только, я думаю, неверно направление стараний и интереса художников в связи с пушкинским юбилеем. Сколько людей устремилось по линии наименьшего сопротивления: почему повсюду без конца михайловские, тригорские, дедушкины дубы и цветочки из Михайловского? Пожалуй, еще можно объяснить желание иметь на память песочницу Пушкина или огрызок пера, которым водила его страстная рука, но почему прежде всего запечатлевать заново построенные дома, вновь выросшие деревья или совсем изменившийся за сто лет пейзаж?
Мне кажется, здесь сказывается та же инерция, по которой художники вместо фотокоров направляются в очередную кампанию на те места и к тем предметам, вокруг которых произошли очередные события.
Почему бы не взяться за творчество Пушкина? Почему бы художнику не углубиться в образы, созданные Пушкиным, не посотрудничать — если осмелиться так выразиться — с ним, с Пушкиным? Мне кажется, например, что подлинное зрительное переживание Пушкина вместо Михайловского и Тригорского больше можно почерпнуть в томе его писем, в этой замечательной книге, которую держишь в руках как кровоточащее сердце и по прочтении которой уже навсегда думаешь о Пушкине как о родном человеке. Мне кажется, что весь зрительный материал, который целесообразно складывается в образ, художник впитывает постоянно и выстраивает его не только тогда, когда срисовывает стул, на котором сидел Пушкин. Может быть, совсем наоборот.
Мне привелось иллюстрировать «Пиковую даму». Я очень доволен, что именно «Пиковая дама» была мне предложена издательством. Обилие образов, общее романтическое настроение, проникнутое чувством Петербурга, того снежного и белоночного пушкински-блоковского Петербурга, который с детства является фоном личных переживаний, — все это делает «Пиковую даму» особенно интересной для иллюстрирования. Может быть, когда-нибудь мне удастся не ограничиться пятью литографиями, а иллюстрировать «Пиковую даму» полнее. То, что сделано, я делал с громадным удовольствием.
Я не сторонник внушений авторского суждения: пусть лучше зритель судит работу художника, а не слова его об этой работе. Нашей критике слишком часто не хватает личных переживаний по поводу искусства, поэтому я просто рекомендую подольше и повнимательнее всматриваться в мои иллюстрации. Если они при всей их скромности и простоте ничего не скажут зрителю, то ведь и разговаривать не о чем.
Не знаю точно, когда и почему мне пришла в голову идея поместить Пушкина зрителем последней игры Германна, но здесь, как и всегда в искусстве, счастливая интуиция есть результат правильно поставленного творческого процесса. Критикуя готовую работу, я нахожу, что в юбилейном издании такой прием особенно уместен.
Конечно, иллюстрирование — не пересказ текста. Текст любого автора должен пониматься свободно. Даже американский художник, о котором здесь шла речь, может иллюстрировать Пушкина. Дело не в том, как художник трактовал текст, а вышло ли это художественно, передал ли автор в рисунке свое отношение к тексту.
Попутно мне думается, что издательства должны в работе с художниками учитывать риск, с которым обязательно связывается всякая новая, новаторская или просто острая работа с признаками эксперимента. Обычно планы издательств строятся в предположении, что дело художника почти исполнительски-техническое. В результате — нарушения сроков, вполне естественные со стороны художника, но, может быть, без тех результатов, какие были бы, если бы планы и сроки заранее учитывали особенности творческого риска художника.
Здесь Кузьма Сергеевич так хорошо рассказал о своем иллюстративном подходе к Пушкину в больших станковых картинах, что я удивляюсь, почему бы Кузьме Сергеевичу не взяться за иллюстрирование Пушкина. Мне кажется, что гораздо плодотворнее и ближе к цели вести иллюстрирование Пушкина путем серий рисунков, в которых вдруг где-то может проглянуть подлинный Пушкин. И надо сказать, что живопись и иллюстрация никогда не были в особенном ладу. Их нужно разделить. Живопись должна рождаться из побуждений живописи, и тогда Пушкин выявится именно так, как надо.
Петров-Водкин: Я это говорил как председатель пушкинской комиссии изо, чтобы не охладить пыл работы. Я скажу — через все надо добираться к Пушкину. Почему я беру живопись? Потому что у нас нет монументальных ответов Пушкину. Все эти вопросы берешь на себя с таким удовольствием потому, что это Пушкин, и так хочется сделать что-нибудь монументальное, а не только «опекушинским» способом.
Тырса: Я знаю, что Кузьма Сергеевич очень хороший иллюстратор и прекрасный литератор, и он замечательно может превратить литературный образ в зрительный, графический образ. Я удивляюсь издательствам, которые не догадываются обратиться к нему, и удивляюсь самому К. С., который не берется за это дело.
Петров-Водкин: Мне говорили — как вы смеете делать так плохо? Меня запугали техникой печати.
Тырса: Вы лучше редакторов знаете качества вашего рисунка, и это нужно им объяснить. Ведь не об анатомии и перспективе здесь разговор. Вот, например, если бы прекрасные иллюстрации Якобсон были бы еще наивнее, тогда бы некоторые редакторы назвали бы неуменьем то, что стало бы наиболее выразительным. А ведь в иллюстрациях Якобсон и нужно ценить их выразительность, лиричность, женственность и личное отношение к тексту.
Говорят о монументальном. Но ведь монументально не только большое. И очень маленькие иллюстрации могут быть монументальными. Чудесное искусство Пушкина может быть передано в иллюстрациях больше, чем в живописи. Не следует сейчас слишком опутывать живопись иллюстративными задачами. Монументальное в живописи пусть будет живописно.
Б. В. Томашевский
ПУШКИНСКАЯ КНИГА И ХУДОЖНИК
Вопрос об отношении изобразительного искусства к Пушкину напоминает несколько вопрос об отношении к Пушкину театра. Мы не имеем театрализованного Пушкина так же, как не имеем и иллюстрированного Пушкина. Этот факт общепризнанный, и естественно спросить себя, не лежит ли причина подобного явления в существе самого творения Пушкина, или же дело объясняется временными историческими условиями и не следует терять надежды на то, что произведения Пушкина найдут адекватное отражение как в театре, так и в изобразительном искусстве. Приходится слышать утверждение, что задача изображения Пушкина в театре не разрешима. Есть театры, которые к юбилейным дням отказываются ставить пьесы Пушкина и строят свою юбилейную программу на эстрадном дивертисменте. Неужели же и в изобразительном искусстве дело обстоит аналогично? Неужели и мы также к юбилейным дням получим такой же эстрадный спектакль, то есть просто-напросто серию случайных картинок по поводу Пушкина, наспех изготовленных к юбилейным дням, а не те иллюстрации, которые останутся в книгах Пушкина, с которыми будет сживаться читатель Пушкина, которые в какой-то степени будут восполнять его восприятие словесного текста, конкретизируя в зрительных образах его восприятия пушкинских героев и эпизодов его произведений.
Предпринятое Гослитиздатом иллюстрирование ленинградского издания сочинений Пушкина дало много интересного графического материала, но пока эти иллюстрации существуют вне книги. Это не Пушкин, вросший в жизнь. Это юбилейный экзамен, заданный нашим графикам. Насколько ленинградские художники выдержали экзамен, выяснится в дальнейшем, смотря по тому, как книги Пушкина с их иллюстрациями будут жить в читательской среде, как в сознании читателя эти иллюстрации сольются с образами самого Пушкина.
Но задача иллюстрирования Пушкина не юбилейная, потому что юбилей пройдет, а Пушкин не пройдет. Иллюстрированное издание его сочинений должно стать неотъемлемым не только для праздника, но и для будней. Это задача ближайшего времени; она остается очередной и после юбилея. Как бы ни были удачны представленные иллюстрации, ими не может ограничиться дело современного иллюстрирования Пушкина. Остающееся до юбилея время недостаточно для того, чтобы художники нашего времени с достаточной полнотой отразили бы свое понимание Пушкина и в какой-то мере искупили в своих иллюстрациях вину всего XIX века. И, ставя перед собой задачу иллюстрирования Пушкина, художники должны решить вопрос, возможно ли вообще иллюстрирование Пушкина и в чем причины неудачи их предшественников.

Пушкин. Временник пушкинской комиссии. 2. М.; Л., 1936.
Обложка Е. Д. Белухи.
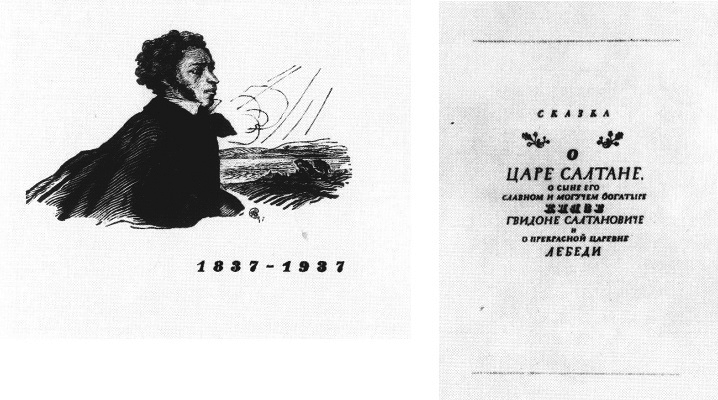
Пригласительный билет на открытие Всесоюзной пушкинской выставки.
Гос. Исторический музей, 16 февраля 1937 г.
Гравюра на дереве А. А. Суворова.
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане.
Оформление В. Д. Двораковского. 1936.
Театралы утверждают, что Пушкин «не переносим» в театр потому, что Пушкин исключительно поэт слова, что словесной стихией исчерпывается его творчество, что у Пушкина слово настолько замкнуто в себе, настолько полно и насыщенно, что всякое восполнение словесного материала произведений Пушкина средствами других искусств немыслимо. Конечно, слово Пушкина исключительно выразительно, и природа его образов определяется словом с исключительной законченностью. Но значит ли это, что конкретизация этих образов в любой форме немыслима? Не следует ли вообще отказаться от теории «восполнения» образов одного искусства материалом другого? Иначе получается парадоксальное положение, в силу которого иллюстрированию не подлежат произведения Пушкина в силу своего совершенства, и театр и изобразительные искусства должны иметь дело лишь с несовершенными произведениями слова. Мне кажется, что подобное теоретизирование в корне неверно. Если современный театр еще не дал нам образцовых постановок Пушкина и в этом отношении разделил судьбу театра XIX века, то это может только означать, что еще не нашлось достаточных театральных сил для разрешения задачи, по существу разрешимой. И, во всяком случае, неудачи театра и кино не должны в одинаковой степени вызывать неудачи в разрешении задач воплощения образов Пушкина в изобразительном искусстве.
По-видимому, отсутствие хороших иллюстраций к Пушкину имеет свои исторические, преходящие причины. Есть признаки того, что именно теперь может наступить перелом. Одним из разительных признаков этого является тот интерес, который проявляют художники по отношению к поставленному вопросу. Невольно приходится сопоставить два показательных факта. Совещание, созванное редакцией «Литературного современника» по вопросу о Пушкине и театре, привлекло весьма мало театральных деятелей, бывших на нем в явном меньшинстве. Подавляющее большинство постановщиков и исполнителей отсутствовало на нем, по-видимому, подчеркивая своим абсентеизмом безразличие свое к делу постановок пушкинских произведений на сцене. На совещание, посвященное вопросу о Пушкине в изобразительном искусстве, явился весь актив ленинградских художников, и оживленность собеседования свидетельствует о большом интересе мастеров изобразительных искусств к теме совещания. По-видимому, 100 лет со дня смерти Пушкина — недостаточный срок для окончательного вынесения приговора. Еще рано говорить, что Пушкина иллюстрировать невозможно. Отношение деятелей изобразительного искусства к Пушкину дает нам надежду, что эта задача окажется разрешимой для нашей эпохи, что она поставлена серьезно и будет так же серьезно разрешена.
Исторически все наши неудачи в значительной степени могут быть объяснены тем, что еще и при жизни Пушкина он не находил себе иллюстратора. Единственное, о чем можно еще говорить, это иллюстрации к ранним поэмам Пушкина. Оленинская виньетка к «Руслану» и галактионовские иллюстрации к «Бахчисарайскому фонтану» — это единственное, что хоть как-то передает настоящего Пушкина; в этих иллюстрациях мы находим стиль ранних его поэм. Нужно сказать, что даже в ранних поэмах Пушкин перерос стиль, который дает Галактионов, но стилистическая основа романтических поэм и рисунков Галактионова все же одна и та же. Но достаточно было Пушкину преодолеть романтический стиль, как для него не нашлось иллюстраторов. Он как бы выпрыгнул из своей эпохи по стилистическим своим устремлениям. К «Евгению Онегину» никто не сумел дать сколько-нибудь сносных иллюстраций. Картинки Нотбека ниже самых снисходительных требований. Таким образом, уже для современников Пушкина его произведения не ассоциировались ни с какими зрительными образами, а раз не была создана традиция иллюстрирования в его эпоху, когда его стиль был близок современникам, то тем труднее было создать эту традицию в XIX веке, когда стиль Пушкина оказался еще более чужд стилю, господствовавшему в изобразительном искусстве. XIX век не нашел, надо прямо сказать, того стиля, в котором можно иллюстрировать Пушкина. Найдем ли мы этот стиль теперь? И нельзя же застыть на одной стилизации, нельзя свести вопрос о стиле иллюстраций Пушкина к нахождению какого-то стандарта или штампа и затем размножать, слегка варьируя этот штамп или стандарт. Найти подобный стиль вовсе не значит отказаться от собственного стиля эпохи. Всякая иллюстрация к произведениям прошлого должна принадлежать стилю эпохи, в которой живет художник, и должна отражать понимание художником произведения прошлого. Нельзя целиком перенестись в прошлое, отрекаясь от настоящего. Стилизация не является большой дорогой в каком бы то ни было роде искусства.
Художник должен отразить понимание Пушкина нашей эпохой. К сожалению, у иллюстраторов Пушкина в прошлом порыв к Пушкину был, но он никак не смыкался с самим Пушкиным. Недостаточно простого холодного понимания. Необходимо сочувственное понимание. Нельзя механически налагать стиль любой эпохи на Пушкина. Необходимо интимное родство стиля эпохи с творчеством Пушкина, необходимо приятие Пушкина эпохой. Это приятие в прежние эпохи было не полным, а иногда и совсем его не было. Творческое дело художника сказать, найдено ли смыкание современного стиля с Пушкиным, насколько наше время идет в лад с Пушкиным, насколько Пушкин — наш.
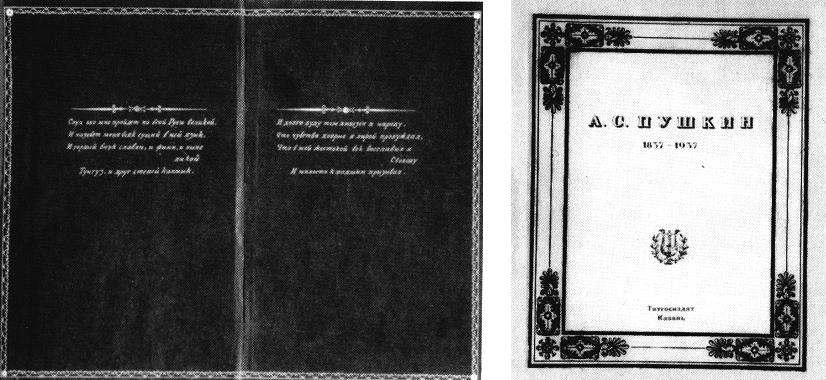
Краткий путеводитель по Всесоюзной пушкинской выставке. М., 1937.
Форзац Н. П. Дмитриевкого.
Путеводитель по выставке «А. С. Пушкин». Казань, 1937.
Обложка М. П. Дульского.
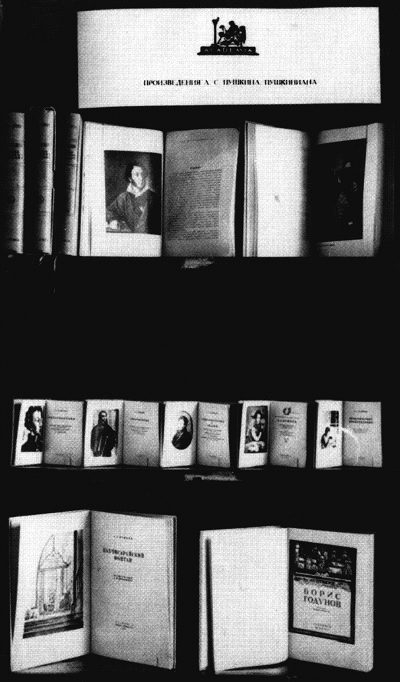
Иллюстрированные издания А. С. Пушкина 1930-х гг.
Выставка издательства «Academia». 1980.
Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Фото И. А. Пальмина.
Я верю, что задача иллюстрирования Пушкина будет разрешена в наши дни. И мне бы хотелось, чтобы иллюстраторы наших дней обратили свое внимание на то, на что мало обращали внимания иллюстраторы вчерашнего дня. Среди всех их неудач бывали и полуудачи. Но эти удачные рисунки носят характер декоративный. В них можно найти удачный пейзаж, удачную зарисовку обстановки, быта, но вы не найдете ни одной иллюстрации, где видны были бы лица героев Пушкина, по крайней мере такие лица, на которые вы могли бы взглянуть с удовлетворением. Нельзя к Пушкину подходить с чисто декоративным заданием. Пушкин не поэт чистого пейзажа. Центральное в Пушкине — человек. Люди, характеры не должны заслоняться декорацией обстановки. Человеческое в Пушкине как будто до сих пор не нашло отражения в иллюстрации. Мне кажется, основная задача — воскресить героев Пушкина, дать их лица, их характер. Это основная задача. Дайте героев Пушкина — это то, чего требует читатель, который хочет видеть и Татьяну, и Евгения Онегина.
Но, разрешая большие вопросы иллюстрирования Пушкина, нельзя забывать одного. Пушкин будет жить как книга. Иллюстратор должен думать о той идеальной книге, где гармонически текст Пушкина будет чередоваться с иллюстрациями. Необходимо озаботиться не только о стиле самих иллюстраций, но и о стиле всей книги, о стиле полиграфического оформления. В этом отношении сделано очень мало. Кроме книг, изданных при жизни Пушкина, нет настоящего пушкинского издания. Характерно, что менее всего о стиле книги заботились те издания, которые считаются наиболее художественными. Несомненно, что лучшее в области иллюстрации к Пушкину в начале XX века — иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику». Между тем издание «Медного всадника» с рисунками Бенуа меньше всего является настоящей книгой, где бы текст Пушкина не терялся. Читать «Медного всадника» в этом издании нельзя. Текст раздроблен иллюстрациями на мелкие и неровные порции без всякой внутренней логики. В значительной части это книга с подписями под рисунками. Иллюстрации сами в этом издании не как в книге, а как в альбоме: они не считаются с форматом книги, с ее природой. Задача полиграфического разрешения Пушкина чрезвычайно важна. В этом отношении наши оформители идут не по тому пути, по которому шел бы Пушкин. Мы знаем, что он был против виньеток, арабесок. Наши оформители заботятся именно о росчерках, виньетках, концовках, шапках. Это не тот стиль, который требуется для книг Пушкина. Любая эпоха, каким бы собственным стилем она ни отличалась, обязана считаться с основным нервом пушкинского отношения к книге, с его требованиями простоты, ясности и строгости.
С. Марвич
НОВОЕ В ПУШКИНСКОЙ ИКОНОГРАФИИ
Мне кажется, что в нашей сегодняшней беседе прозвучала несколько пессимистическая нота. Здесь как-то подчеркивали, что очень уж ограниченный срок остался до юбилейных пушкинских дней — что же в такой срок может прибавить художник к фонду пушкинистов? Да, если поставить точку на юбилейных днях, то есть основание быть печальным. Ведь практика всех великих юбилеев говорит нам о другом — о том, что дата — это известный импульс. Дело не в 1937 году и не в январских пушкинских днях. Я думаю, что пушкинская работа художников только теперь начинает широко развертываться, и именно юбилейные дни, голос социалистической страны, дадут художникам новые богатые установки.
Конечно, не исключается возможность того, что какой-нибудь излишне ретивый администратор, когда вы придете к нему с интересным предложением после пушкинских дней, скажет вам, что поздно уж, что срок уже прошел и т. д., но ведь мы не на дураков ориентируемся. Ведь если говорить о юбилейной дате, и только о дате, то придется считать обреченным академического Пушкина, — вышел один том, и ладно.
Хочу я хотя бы отметить, что наше сегодняшнее собрание является не столько итоговым, сколько перспективным, и перспективы у нас чрезвычайно радостные. Нашему журналу «Литературный современник» принадлежит хорошая инициатива. Журнал начал печатать у себя работы художников-пушкинистов. Но как установить с ними сотрудничество?
Что же касается нас, литераторов, то мы можем рассчитывать на то, например, что повесть, роман выйдет отдельно. Есть ли эта перспектива у художника? Вот мне бы очень хотелось, чтобы она была у него, чтобы он в своей работе также мог рассчитывать на какой-то альбом, на какую-то серию рисунков. Безусловно, что это может дать очень хорошие результаты, настолько блестящие, что вдруг Гослитиздат начнет оспаривать монополию у Изогиза. Но для этого необходимо постоянное взаимодействие художника с работниками журнала, с работниками издательства художественной литературы. Такое взаимодействие даст художнику немало новых пушкинских тем, если хотите, тематическую цельность. В результате этого могут появиться пушкинские тетради, пушкинские альбомы, пушкинские циклы. Мы все это, несомненно, увидим. Это, в частности, относится и к пушкинской иконографии. Несомненно, в советские годы пушкинская иконография обогатилась. Тов. Э. Ф. Голлербах уже указывал на соответствующие работы. Но в этих работах есть значительный пробел. Пушкинская иконография никак не ответила на такие темы, как Пушкин и народ и политическое лицо Пушкина. А на эти темы должно обратить внимание художников. Материала вы найдете сколько угодно. Я считаю себя пушкинистом ниже среднего, но и я взялся бы подобрать для художника этот материал — так много дает советское понимание Пушкина как нашего величайшего национального поэта России.
Несколько слов о работе художника-гравера И. Я. Айзеншера. Не могу согласиться с замечанием Э. Ф. Голлербаха относительно гравюры Айзеншера «Пушкин в лицее» («Литературный современник», № 10,1936 г.). Хронологическая ошибка с чернильницей, подаренной Пушкину Нащокиным, никак не вредит гравюре. Художник имеет право на подобные ошибки, если ошибка не губит замысел. А в гравюре Айзеншера эта ошибка даже служит замыслу. В гравюре есть другая деталь, которая, если взять ее отдельно, неверна. Где находилась комната Пушкина в лицее, сейчас уже не установить. Но во всем этом доме нет окна, из которого был бы виден так далеко дворцовый парк, как это изображено у Айзеншера. Однако вредит ли эта узкая ошибка целому? Никак. И первая и вторая деталь отлично «нанизываются» (я пользуюсь термином К. С. Петрова-Водкина). Замысел обогащен.
Гравюра Айзеншера, сделанная с большим настроением, с большим мастерством, станет ценным вкладом в пушкинскую иконографию. На мой взгляд, гравюра заслуживает массового издания, в особенности для наших школьников. Вообще, наша общественность художников и литераторов должна помочь Айзеншеру. Он посвятил себя пушкинской иконографии и работает самоотверженно. Он работает без договоров на свой риск. Это бы еще полбеды. Но он не всегда имеет доступ к граверному станку. А это уже совсем недопустимо. От Айзеншера можно ждать много интересных работ — его следует поддержать.
Инн. Оксенов
ХУДОЖНИК И ТЕМА
Из просмотра работ ленинградских графиков и некоторых других современных иллюстраций к произведениям Пушкина можно прийти к следующему заключению: у нас уже имеется ряд вполне «грамотных», хороших иллюстраций к Пушкину, но хотелось бы увидеть рисунки очень высокого качества, совершенно выдающиеся. Такие рисунки, которые по своей художественной выразительности и глубине еще ближе подошли бы к качеству иллюстрируемых произведений. Таких иллюстраций к Пушкину у нас пока еще нет.
В процессе нашей беседы у меня возникла мысль, которая, быть может, наметит некоторые пути для художника, работающего на материале пушкинских произведений. Иллюстратор Пушкина находится в чрезвычайно выгодном положении в смысле выбора темы. Исключительное многообразие пушкинских жанров, богатство материала различных стран и эпох в творчестве нашего поэта дает возможность любому художнику избрать себе свою, наиболее близкую по жанровой и эмоциональной окраске тему. Мне кажется, что, пока художник не нашел у Пушкина этой своей темы, до тех пор его работа не будет выше удовлетворительного уровня.
В связи с этим мне хотелось бы провести параллель между работой художников и поэтов на пушкинские темы (условность этой параллели для меня вполне ясна). Вспомним о том, как преломляется образ Пушкина в стихах некоторых наших поэтов. Лучшее, что создано в этом направлении советской поэзией, это «Юбилейное» Маяковского и «Тема с вариациями» Пастернака. Стихи Маяковского — живой разговор с Пушкиным, которого советский поэт ощутил как своего современника, как близкого по духу гениального собрата, разговор о «самом главном», о самом дорогом для Маяковского. У Пастернака Пушкин — на берегу Черного моря, тема совершенно «айвазовская», но образ Пушкина здесь осмыслен поэтом по-новому, в современном плане, пушкинская тема здесь стала вместе с тем и пастернаковской темой — темой творчества. Эти стихи как нельзя более противоположны всякой «айвазовщине» в поэзии и искусстве. И Маяковский и Пастернак нашли в образе Пушкина свои, личные (и притом большие) темы. То же можно сказать о стихах Багрицкого, в которых образ Пушкина связан с нашей современностью: борьба за нашего Пушкина у Багрицкого есть борьба за дело Октября.
Думается, что и в поэзии, и в изобразительном искусстве одинаково необходима родственная близость художника с его темой, известная «одержимость» этой темой. Тогда-то и возникают самые значительные произведения. У авторов иллюстраций к Пушкину мы, как правило, не видим этой кровной, тесной близости с Пушкиным. А между тем богатства пушкинского творчества представляют огромные тематические и творческие возможности нашим художникам. И некоторые наблюдаемые нами удачи обусловлены, мне кажется, прежде всего правильным выбором темы.
Такова удача Кибрика, избравшего себе сюжеты пушкинских сказок. Очень хорошо, что Кибрик не взялся, например, за «Онегина», — в пушкинских сказках он нашел близкий себе стиль, свою тему. Стиль Кибрика несколько натуралистичен, но это — здоровый «фламандский» натурализм, оказавшийся в соответствии с сюжетами пушкинских сказок. И, наоборот, неудача рисунков Рудакова к «Евгению Онегину», очевидно, вызвана несоответствием между стилем пушкинского романа и стилем художника. Рудаков, прекрасный иллюстратор Мопассана, конечно, не мог найти в «Онегине» своей темы.
Мне кажется, что иллюстрация к поэтическому произведению должна иметь «самостоятельное» художественное значение, в какой-то мере независимое от иллюстрируемой вещи. Иллюстрация является своего рода переводом поэтических образов на язык другого искусства (и мы знаем некоторые классические переводы поэтических произведений, достойные стоять «рядом» с подлинником). Отсюда следует, что художнику-иллюстратору может быть предоставлена значительная свобода в смысле толкования темы, но лишь при условии того соответствия стилей и тем, о котором я уже сказал. Мы часто говорим о том, что Пушкин — «наш современник», что его творчество необычайно близко нам, людям социалистической культуры. Между тем наши графики, по-видимому, еще не научились (в большинстве) воспринимать Пушкина как народного поэта, близкого и понятного всем национальностям нашего Союза. Мы часто — и с полным основанием — говорим о народности пушкинского творчества, о том, что после Октябрьской революции Пушкин наконец стал подлинно народным поэтом. Но в таком случае да будет нам позволено сказать и о том, что отображение пушкинских произведений в изобразительном искусстве тоже должно стремиться к народности, что иллюстрация к пушкинским произведениям должна стоять на высоте подлинно народного искусства.
Опять-таки в огромном большинстве иллюстраций к пушкинским темам мы не находим ни элементов народности, ни даже поисков художника в этом направлении. Надо ли упоминать о том, что наше понятие народности искусства предполагает наличие исключительно высокого мастерства и большой художественной культуры? В подлинно народном произведении искусства это мастерство, однако, как бы скрыто, его тайну приходится разгадывать. В работах ленинградских графиков такого мастерства нет. Там можно найти известный блеск, разрешение эстетических задач, есть там и историзм, стоящий на грани стилизации. Но создать подлинно народные иллюстрации к Пушкину может лишь художник, нашедший у поэта свою тему, почувствовавший Пушкина своим современником и учителем.
Е. Кибрик В ПОИСКАХ НАРОДНОСТИ
К работе над иллюстрациями к «Сказкам» Пушкина я приступил сразу же после полутора лет работы над рисунками к книге Ромена Роллана «Кола Брюньон».
Первым делом я съездил в Новгород, чтобы набраться «русского духа» и облегчить переход от Бургундии XVII века к русской старине. Церковная архитектура и стенная живопись (XII–XVI вв.) в Новгороде действительно превосходны, но всего, что мне было нужно, я там не нашел. То есть «дух»-то там есть, но именно религиозный дух, а предметы гражданского обихода не сохранились. Мне же хотелось разыскать одежду, мебель, домашнюю утварь и т. п.
Продолжая поиски в Ленинграде, я убедился, что в этой области мы знаем ничтожно мало, и те материалы, которыми приходится пользоваться, очень немногочисленны, не считая народного лубка, в котором попадаются вещи выдающегося художественного значения.
Моя настойчивость в поисках подлинного материала вызвана тем, что понятие о «русском стиле», сложившееся у широкой публики по работам ряда «славянофильствующих» художников-стилизаторов конца прошлого и начала нашего века, представляется мне фальшивым, сусальным, пряничным «стилем рюсс», дошедшим до нас на этикетке сигарет «Тройка».
Этой же декоративной стилизованностью отличались многие из работ моих предшественников — иллюстраторов «Сказок». Особенно это относится к изображению таких персонажей сказок, как царь Салтан, князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Додон.
Уже сами имена — Салтан, Гвидон — говорят об их восточном происхождении. Эти же персонажи присутствуют в народном лубке XVIII века, и там они изображены в чалмах, в нерусских костюмах. У нас же их представляли традиционными русскими пряничными царями. Даже у Рябушкина в иллюстрации к «Царю Салтану» князь Гвидон — типичный русский отрок.
Я на этом останавливаюсь потому, что при иллюстрации вообще, а тем более при иллюстрации Пушкина, нужна величайшая продуманность каждого образа, и изображение должно возникать из той же посылки, из которой родилось слово.
Большинство упомянутых выше персонажей пушкинских сказок, за исключением царя Додона, не вошли в мои рисунки. Меня даже упрекали за то, что к самой большой и красочной сказке «О царе Салтане» я сделал рисунок с корабликом на слова:
Тут он в точку уменьшился,Комаром оборотился,Полетел и запищал,Судно на море догнал.Причина этого та, что я делал только по одному рисунку-фронтиспису к каждой сказке. Иллюстраторы знают, что это гораздо труднее, чем иллюстрировать всю вещь — ситуацию за ситуацией.
В частности, к «Царю Салтану» особенно трудно найти тему для фронтисписа, которая не звучала бы случайно взятым эпизодом. В этом отношении остальные сказки гораздо благодарнее — так, финальные сцены в сказках «О попе и его работнике Балде» и в «Золотом петушке» прекрасно отражают основную тему. Так же и в сказке «О спящей царевне» образ злой и завистливой красавицы мачехи — определенно центральный образ.
Что касается царя Салтана, то я сделал к нему целый ряд рисунков на разные эпизоды сказки (быть может, когда-нибудь позже мне удастся их осуществить, иллюстрируя всю сказку) и отбрасывал их один за другим, так как для фронтисписа они не годились. А потом, вспоминая всю сказку, я поймал себя на том, что из всего выплывают слова:
Он бежит себе в волнахНа раздутых парусах… —и сделал рисунок с корабликом.
Мне хотелось бы остановиться еще на одной особенности пушкинских сказок. Они, если можно так выразиться, «сказки среди белого дня». Несмотря на фантастичность и сказочность формы, они по содержанию, по духу своему, по конфликтам характеров и положений глубоко реалистичны. Например, в «Сказке о рыбаке и рыбке» «сказочно» только допущение, что рыбка может сделать все, что захочет. В этом, мне кажется, причина того громадного обаяния и настоящей народности сказок, которые делают произведение вечным.
Но в то же время это ставит и особо большие трудности перед художником, иллюстрирующим сказки.
Я с большим увлечением работал над своей задачей. Те шесть рисунков, которые выйдут в юбилейном издании «Сказок», только часть того, что было мною сделано, и, боюсь, малоудачно. Но я не оставляю мысли о продолжении этой работы и надеюсь добиться в будущем лучших результатов.
Л. А. Динцес
О НАРОДНОСТИ
Мое выступление вызвано рассказом Евгения Адольфовича Кибрика о его работе над иллюстрациями к сказкам Пушкина.
За последние годы мое личное отношение к Пушкину — отношение рядового читателя — своеобразно изменилось. Произведения Пушкина, когда-то казавшиеся основными, заняли второе место, а особую значительность приобрели общечеловеческие темы «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Дон-Жуана», с одной стороны, а с другой — те сказки, песни и отрывки, которыми поэт теснее всего связал свое творчество с народным.
Не только глубоко национальное, ставшее общечеловеческим, но главным образом глубоко народное делает для меня поэта особенно близким, особенно созвучным сегодняшним дням.
Лучшими из дореволюционных считались иллюстрации к Пушкину работы Александра Бенуа. Но когда я их недавно перелистал, то с особенной обнаженностью в них проступили мирискуснический декоративизм и ретроспективное любовательство. Это касается сюиты к «Медному всаднику». Что же касается иллюстраций к «Капитанской дочке», то их просто следует забыть, так как своей субтильностью они извращают правильное понимание повести.
Даже передовые и сильные для своего времени иллюстрации Врубеля к «Моцарту и Сальери» кажутся теперь формально-сложными и перегруженными для воплощения гениальной трагедии, которая с предельной лаконичностью обнажает сложный клубок человеческих чувств.
В силу этого я особо настороженно, особо требовательно, не только как искусствовед, но как по-новому прочитавший Пушкина, подхожу к изобразительному пушкинскому материалу.
В этом отношении нашим советским художникам повезло. Для иллюстраций к сочинениям Пушкина нет общепринятого источника, нет установившегося штампа. Пушкин не имеет, как Гоголь, своего Агина и Боклевского. А влиянию таких иллюстраторов прошлого трудно не поддаться. Пример — совсем не плохие иллюстрации Н. В. Алексеева к «Мертвым душам», которые при всей своей самобытности находятся в сильнейшей зависимости от типажа Агина и острой характеристики Боклевского.
Советские художники в отношении пушкинских образов исторически независимы.
И поэтому такое гнетущее впечатление произвел на меня первый опубликованный в печати плакат к пушкинским дням.
Вообразите себе поэта, срисованного с известной картины Ге, гигантской фигурой рисующегося на фоне небес. Сам Ге признавал эту фигуру малоудачной. Оторвавшаяся в плакате от пола и опоры, эта порывистая фигура приобрела особенную воздушность, в духе «небесных явлений» на дореволюционных сытинских картинках. Внизу проходит фотомонтажная демонстрация. Ни Пушкин, «вдохновенно» уставившийся вперед, не имеет никакого касательства к проходящим внизу, ни демонстрация, повернувшаяся к поэту спиной, никак с ним не связана…
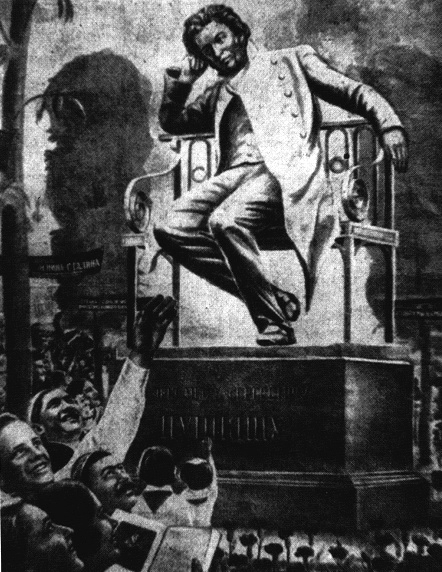
«Слава великому русскому поэту Пушкину!»
Плакат Г. Клуциса. 1937.

Пушкин. Гравюра на меди Е. Гейтмана. 1822.
Либретто фильма «Юность поэта». Ленфильм, 1937.
А хотелось бы увидеть новое, не вырезанное из Ге, советское изображение Пушкина.
Думаю, что не стоит долго останавливаться на просто неприятном, уж чересчур натурально домашнем Пушкине в ночной сорочке работы Кончаловского, ни на портрете Керн с вертлявым Пушкиным, лицо которого вызывает у меня в памяти где-то виденную картинку к «Человеку, который смеется».
Обрадовали меня в этой части лишь миниатюры палешан. Я вовсе не поклонник все еще культивируемых этими мастерами иконных горок и теремов и традиционной манерности. Но в изображениях самого Пушкина чувствуется то светлое и одухотворенное начало (например, шкатулка «Пушкин и Арина Родионовна»), которое живет и ширится в отношении широких народных масс к великому поэту.
Здесь гораздо больше близкого нам Пушкина, нежели в портретах наших станковистов, за которыми, возможно, целый арсенал прочитанных исследований и воспоминаний о Пушкине и его эпохе. Здесь сквозь не изжитые еще отзвуки религиозной умиленности проглядывает подлинно народный живой образ автора «Руслана и Людмилы», сказок и народных песен.
Некоторые из присутствующих на сегодняшнем совещании выражали сомнение в том, целесообразен ли был заказ издательством лишь одной иллюстрации к тому или иному произведению Пушкина, и полагали, что только в серии рисунков к каждому произведению художник может добиться полноты и убедительности.
С этим я не согласен.
Дробная, напоминающая современный кинокадр сюита Агина к «Мертвым душам», как бы велико ни было ее значение в прошлом, меня лично при чтении Гоголя только раздражает. Исчерпывающий все перипетии поэмы ряд иллюстраций тесно ограничивает собственное образотворчество, заглушает личное восприятие.
Подробной, повествовательной серии рисунков к «Евгению Онегину», развертывающей явление за явлением, эпизод за эпизодом, я предпочел бы одну-две заглавных иллюстрации синтезирующего порядка, передающие основное звучание, основные образы.
Издательство вовсе не сделало ошибки, поручивши нашим художникам такого порядка синтезирующие рисунки.
Именно эти рисунки более всего привлекли мое внимание.
По моему мнению, среди таких иллюстраций-фронтисписов значительная часть удачна. Хороши работы художника Самохвалова («Граф Нулин», «Братья разбойники» и др.), выразительны отдельные листы Хижинского («Метель», «Выстрел»). Я не буду задерживать присутствующих перечислением всех заинтересовавших меня работ.
Но более всего привлекли меня иллюстрации Евгения Адольфовича Кибрика к пушкинским сказкам.
Кибрик рассказал, как он готовился к этим рисункам, как в поисках народной формы он отправился в Новгород.
Конечно, изощренные формы русской Византии ничего ему дать не могли.
Подлинно народный стиль максимального обобщения, скупости в деталях и вместе с тем изумительной, выработавшейся тысячелетием меткости в определяющем признаке, стиль, по-особенному лаконичный и по-особенному выразительный, гениально воплощен Пушкиным в «Сказке о попе и о работнике его Балде». В изобразительном искусстве он только начинает осознаваться в первых опытах наших мастеров, первых изысканиях искусствоведов.
Вот эта-то тяга к сокровищнице народного искусства выявилась в выступлении Кибрика, это приближение к народной форме намечается в некоторых его лаконичных, выразительных, чрезвычайно мощных рисунках, особенно в листах к «Сказке о мертвой царевне», «Сказке о попе и о работнике его Балде» и к «Сказке о золотом петушке».

Валентин Литовский в роли Пушкина.
Либретто фильма «Юность поэта». Ленфильм, 1937.

Пушкин на берегу Невы.
Рисунок Вадима Сапрыгина, 9 лет (Ленинград).
(Костер. 1937. № 2; Резец. 1937. № 7; Искусство. 1937. № 2).
Где следует искать это подлинно народное творчество? Помимо крестьянской культуры и живописи, есть еще одна, наиболее подходящая к теме сегодняшнего совещания категория. Это старинный лубок. Сквозь мещанские наслоения в нем открывается лаконичная, крепко сколоченная и необычайно выразительная основа народного образотворчества. И старинные лубки на пушкинские темы, вроде «Под вечер Осенью ненастной», «Талисман» и т. п., должны привлечь наше внимание.
Не случайно в последние месяцы одновременно с оживлением мероприятий по приближающейся пушкинской годовщине растет интерес к народному искусству.
Конечно, никоим образом нельзя сближать народное искусство с тем «национальным» стилизаторством, которым занимались некоторые мастера «Мира искусства».
Что общего между рассусоленными эклектическими образцами мирискусников и глубоко проработанной веками, предельно меткой и строгой подлинно народной формой?
Вот, например, как на страницах «Аполлона» расценивал народную игрушку лидер «Мира искусства» Александр Бенуа: «Дело совсем не в том, когда они (игрушки. — Л. Д.) родились, а в том, что они до наших дней дожили свежие, румяные, молодые, одетые по обмундированию и по моде 1820-х и 1830-х годов».
То, что сделано в области пушкинской иллюстрации нашими ленинградскими художниками к сегодняшнему дню, нельзя не признать хорошим началом.
Но будем надеяться, что в будущем для изобразительного воплощения образов народного поэта будет широко использована народная форма.
Первые симптомы этого — налицо.
Поверхностное стилизаторство и подлинно народное творчество легко различить, например, на нынешней выставке украинского народного искусства. Вредные традиции дореволюционных «показательных» мастерских Галаганов, Терещенко и других находятся в вопиющем противоречии с идущими непосредственно из деревни прекрасными образцами росписи, скульптуры и вышивки.
П. Корнилов
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин напомнил нам о величии Пушкина и как будто напугал художников, а Николай Андреевич Тырса придал смелость художникам, дав мысль, что в настоящее время нужно и должно иллюстрировать Пушкина.
Очень приятно, что приближающийся юбилей всколыхнул наших художников, но одновременно нужно отметить, что вся их работа пока заказная, в ней нет творческой инициативы художника, тут все ограничено договором с издательством. Конечно, издательства наши не меценаты. Но, с другой стороны, необходимо учесть и те работы, над которыми художники работают сами для себя. А такие работы имеются. Их ведут, например, художники кабинета графики Всесоюзной академии художеств.
Мне думается, не мешает напомнить историю иллюстраций к произведениям Пушкина. Мы уже слышали, что традиции прошлого столетия в этом отношении не интересны ни для историка искусства, ни для литературоведа. Однако отбросить этот материал и без изучения его перейти к нашему времени мы не сможем.
Совсем на грани нашего века имело место издание П. П. Кончаловского; была серьезная попытка подойти к иллюстрированию Пушкина. Была приглашена целая плеяда художников: Репин, Серов, Добужинский, Лансере, Бенуа и др. И тогда можно было сказать, а теперь-то уж нам это совершенно ясно, что они в этом начинании встали на ложный путь. Нельзя было подходить к иллюстрации Пушкина с такой же меркой, как к станковому произведению. Кончаловский, дав заказ лучшим художникам, думал, что это и есть правильный путь и что здесь он добьется шедевра. Шедевра-то не получилось, и подлинной иллюстрации Пушкина не получилось. Но все же нам интересна эта попытка, нам ценен этот опыт, потому что там впервые зародился первый опыт иллюстрирования книги большими мастерами эпохи. Во всяком случае, трудно представить себе рост современной иллюстрации без учета этого значительнейшего факта.
Каждая эпоха имеет свой стиль. Иллюстрации того времени и последующих 90-х годов до революции характеризуются отрицательными рамками эстетики «Мира искусства». Среди этой плеяды иллюстраторов следует отметить произведения А. Н. Бенуа (иллюстрации к «Медному всаднику» и «Пиковой даме»). Как бы мы ни расценивали их и ни считали, что они не отвечают полностью нашим дням и не являются величайшими для нашей эпохи, но все же сбрасывать их с баланса русской иллюстрации не следует.
Обращаясь к современной иллюстрации к произведениям Пушкина, нужно посмотреть, что сделано нашими художниками, констатировать факт, свидетелями которого являемся мы.

А. С. Пушкин. Дубровский.
Литография А. Ф. Пахомова. 1936.
А. С. Пушкин. Сказка о попе и работнике его Балде.
Цв. литография Е. А. Кибрика. 1936.

А. С. Пушкин. История села Горюхина.
Литография А. Н. Самохвалова. 1936.
А. С. Пушкин. Метель.
Гравюра на дереве Л. С. Хижинского. 1936.
Конечно, во всех этих иллюстрациях — во всех этих вещах, которые проходят пред нашими глазами, уже есть некоторое нарождение стиля нашей эпохи. Пушкиным заинтересовались с первых же дней революции. Государственное издательство являлось застрельщиком поднятия интереса к Пушкину, интереса в самых широких массах. Я хочу напомнить вам 18-й, 19-й, 20-й годы, тяжелые, трудные годы, и в то же время хочу напомнить вам об этом огромном интересе к Пушкину. Я вспоминаю эти маленькие книжечки, которые доходили до фронтов Гражданской войны, — с каким громадным интересом и любовью они встречались там, будь то «Онегин», или небольшие рассказы, или сказки. Необходимо вспомнить об этом, ведь если мы не положим на наш баланс всего сделанного и осуществленного, то мы полностью не увидим тогда наши достижения, достижения наших дней. В то время советские художники еще не народились, — смешно ведь думать о том, что возможно создать художника в год или полтора.
Художники «Мира искусства» — группа, которая у широкой публики и особенно в кругу искусствоведов заслужила несколько презрительное название. Но, углубляя значение роли художников «Мира искусства», мы должны сказать, что эта группа в первые годы революции встала почти полностью на издательскую работу иллюстрирования народных изданий. Впервые большие художники, графики, которые за год и больше до того времени работали только для снобов и гурманов, которые специально издавали свои книги в 200–300 экземплярах, встретились теперь с тиражом в 3000–5000 экземпляров. Тут принимали участие: Кустодиев, Купреянов, Добужинский, Митрохин и др. По тому времени это был значительный факт.
Теперешний второй этап, в предъюбилейные дни, также значителен, но он не превышает волны той эпохи, о которой мы только что говорили. Конечно, было бы неплохо, если бы юбилей был встречен с еще более значительными результатами.
Говоря о том, что каждая эпоха имеет свой стиль, необходимо подчеркнуть, что сейчас мы значительно ушли от ложных традиций «Мира искусства», хотя следы влияния этой графически сильной группы можно найти и теперь. Вот Н. А. Тырса дал свои иллюстрации к «Пиковой даме». Их немного, всего пять. Но он и не мог развернуться так, как ему хотелось бы и как это делал А. Бенуа, которому издательством не были поставлены узкие рамки.
Многие современные художники свои иллюстрации дали с учетом производства. Это явление совершенно новое и типичное для нашей эпохи. Я имею в виду технику авторской гравюры. Художник, работающий над автолитографией и автогравюрами, старается довести свой творческий замысел до зрителя полностью, готовя сам печатную форму. В работах Н. А. Тырсы также не обошлось без воздействия А. Бенуа и его обширной сюиты рисунков к «Пиковой даме».
Как я уже отмечал, Николай Андреевич Тырса сделал шаг вперед. Если у А. Н. Бенуа мы наблюдаем ориентировку на эпоху, на Петербург, то Николай Андреевич идет по иному пути — по пути подачи образа, более трудным путем. Вот Лиза, вот Германн, он хочет как можно тщательнее очертить их как людей, с их переживаниями, с их радостями и горестями, и это удается ему, я бы сказал, блестяще. Можно было бы сегодня здесь говорить очень многое и о многих других, но нельзя не сказать о работах К. И. Рудакова. Должен сказать, что вещь эта (иллюстрации к «Евгению Онегину») не в плане Рудакова. Нужно напомнить, что до этого он полгода работал над Мопассаном, и, таким образом, ему пришлось переключиться в совершенно другую эпоху и перейти сразу к другим образам. Если бы мы заглянули в лабораторию художника, ознакомились бы с историей его работы, то мы бы увидели, что первые, более ранние замыслы были значительно интереснее и свежее, чем то, что впоследствии получилось, и, к сожалению, в этой второй редакции я замечаю некоторые шаги назад. Например, сцена дуэли — мне она ближе и понятнее в своем первом варианте.
Работы А. Н. Самохвалова, которые также прошли у нас в академии, как-то необычайно разнообразны и слишком несобранны. Тут можно допустить, что художник находился под воздействием своих героев («История одного города» Щедрина), с которыми он сроднился, и никак не может отложить их «на полку» и перенестись в другую эпоху. Но нужно сказать, что есть замечательные по пятну вещи, есть тонкие, интересные, хорошо передающие эпоху вещи. Но в целом это не те коренные листы, которые войдут в анналы пушкинской иллюстрации.
А. Ф. Пахомов в начале своей работы также соприкасался с нами в Русском музее. В его работах чувствуется своеобразный подход художника нашей советской эпохи, он понял «Дубровского» так, как ему хотелось. Это право художника начать с того конца, с какого ему хочется, и ставить себе задачи изобразительного, а не литературного фронта. Мы можем найти кое-что, сближающее его с Самохваловым.
Иллюстрации к пушкинским «Сказкам» Е. А. Кибрика — значительный шаг вперед, в этой области это находка, открытие для художника, у которого были сильные предшественники.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.
Литографии К. И. Рудакова. 1936.

А. С. Пушкин. Каменный гость.
Рисунок А. Н. Якобсон. 1936.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.
Рисунок В. М. Конашевича. 1936.
В своих работах к «Повестям Белкина» Л. С. Хижинский не дал всего того, что мог дать и должен был дать. Там образа нет, эпохи тоже нет, словом, какие-то вариации на возможный пушкинский текст. Но формально это красиво и привлекательно. И творчество налицо, и труд, но сказать, чтобы это помогало читателю понять подлинного Пушкина, нельзя.
Приятно то, что художественная молодежь также подошла к этой серьезной работе. Я вот не знал, например, Т. Якобсон и должен сказать, что дерзаний много, но, к сожалению, еще мало твердой уверенности.
Одним словом, я должен сказать, что Ленинград, являясь застрельщиком в пушкинской иллюстрации в прошлом, дал все же значительные работы и теперь, перед 1937 годом. Москвичи в целом большого вклада в этой области тоже не сделали. Мы говорим о Кузьмине. Его иллюстрации к «Евгению Онегину» — это сплошная пародия и иногда доходит просто-таки до сближения с «Сатириконом».
Нельзя не отметить труда, проделанного В. М. Конашевичем к «Евгению Онегину». Здесь можно спорить, можно не соглашаться, но попытка дать тип Евгения Онегина байроновского склада — это достижение; затем его пейзажные рисунки просто восхитительны.
Однако он мог дать более спокойные рисунки, которые были бы реалистичны. В этих его рисунках есть элементы импрессионизма, передача игры света черной линией. Все эти формальные моменты, по-моему, не соответствуют основной задаче иллюстратора-реалиста. Но забыть, что сделано им большое дело — создание целой книги, нельзя.
Мне думается, если бы пушкинисты-специалисты по текстам помогли нам раньше, если бы сами художники начали бы работать раньше, то соревнование, которое мы проводим, проходило бы лучше.
Теперь как будто мы в курсе того, что сделано. Кроме того, готовится встречный план. К этому встречному плану относятся работы К. А. Клементьевой, которая делает иллюстрации к «Графу Нулину»; Н. А. Павлова — поиски образа Пушкина; знаю еще молодежь, которая работает над иллюстрациями к Пушкину.
Мне думается, что это можно только приветствовать, и думается еще, что эта волна интереса к Пушкину будет жить в нас не только в связи с юбилеем, но и во всей нашей дальнейшей работе.
Комментарии и дополненияБеседа на эту тему в редакции ленинградского журнала «Литературный современник» состоялась в начале ноября 1936 г. В числе участников беседы был известный пушкинист Б. В. Томашевский, историк русской литературы Н. Л. Степанов, писатели и критики Инн. Оксенов и С. Марвич, художники К. С. Петров-Водкин, Н. А. Тырса, С. Б. Юдовин, Е. А. Кибрик, а также ленинградские искусствоведы Э. Ф. Голлербах, Л. А. Динцеси, П. Е. Корнилов. Их выступления были опубликованы в юбилейном пушкинском номере «Литературного современника» (1937. № 1), текста которого мы придерживались, внося самые необходимые поправки, стремясь сохранить живую интонацию беседы.
В комментариях мы стремились соединить основные проблемы, возникавшие по ходу беседы, доходившей местами до острой дискуссии. Беседа в основном касалась вопросов иллюстрирования произведений Пушкина, затрагивая также проблемы иконографии поэта. Подробные сведения о многих упоминаемых в тексте произведениях графической пушкинианы содержатся в последних наиболее полных сводах материалов на эти темы (см.: Павлова Е. В. А. С. Пушкин в портретах: В 2 т. М., 1983; А. С. Пушкин в русской и советской иллюстрации: Каталог-справочник: В 2 т. / Сост. И. Н. Врубель и В. Ф. Муленкова, вступ. статья Е. Павловой. М., 1987). Исходя из общего замысла нашего издания, мы стремились возможно шире привлекать в комментариях разного рода исторический материал (периодику, литературную и художественную критику, каталоги выставок и т. п.).
Беседа «Пушкин в изобразительном искусстве» проходила на фоне небольшой выставки, специально устроенной там же, в редакции «Литературного современника». Теперь трудно точно определить состав этой выставки, но, судя по тексту самой беседы, это были главным образом новые иллюстрации ленинградских художников-графиков, исполненные к пушкинскому юбилею.
Н. Л. Степанов. Об иллюстрировании Пушкина
Николай Леонидович Степанов (1902–1972) — историк русской литературы. Окончил в 1925 г. Ленинградский университет и Институт истории искусств (словесное отделение). Печатался с 1926 г., в 1928–1933 гг. под его редакцией издано первое Собрание сочинений В. Хлебникова. Основные труды, посвященные творчеству Пушкина: «Лирика Пушкина. Очерки и этюды» (М., 1959), «Проза Пушкина» (М., 1962), «Поэты и прозаики» (из содерж.: «Письма Пушкина как литературный жанр», «Повесть, рассказанная Пушкиным»; М., 1966) и др. В пушкинские дни 1937 г. опубликовал ряд статей, в том числе «Путь Пушкина — к реализму», «Пушкин и классицизм» (Литературный Ленинград. 1937. № 5, 6); «О стиле лирики Пушкина» (Литературная учеба. 1937. № 2); «Пушкин в изучении B. Я. Брюсова» (Книжные новости. 1937. № 6) и др. Кроме беседы на тему «Пушкин в изобразительном искусстве» принимал участие в совещании «Пушкин в школе» (см.: Литературный современник. 1936. № 4) и в дискуссии «Пушкин в театре» (см.: Пушкин о драматургии // Там же. 1936. № 8).
Н. Л. Степанов. — В журнальной публикации статьи допущена опечатка в инициалах автора. Напечатано «И. Л. Степанов» — надо «Н. Л. Степанов».
…тот широкий размах работы, о котором свидетельствуют представленные здесь многочисленные экспонаты. — Другой участник беседы, Э. Голлербах, придерживался противоположного мнения. В статье «Пушкин и советские художники», посвященной выставке в «Литературном современнике», он писал: «Выставка охватила только последние иллюстрации, исполненные ленинградскими художниками, и о всех прочих работах приходится говорить заочно» (Литературный Ленинград. 1936. 11 нояб.).
Мне недавно пришлось беседовать с одним молодым американским художником, иллюстрирующим Достоевского. Его субъективное осознание Достоевского настолько далеко… мы имеем дело с совершенно произвольными ассоциациями… — Неясно, о каком американском художнике идет речь. Однако этот посторонний, на первый взгляд, пример объясняется не только строгими принципами историка литературы. Эпоха борьбы с формализмом, развернувшаяся в канун пушкинского юбилея, коснулась, как известно, и книжной графики. И тут всякая ассоциативная иллюстрация расценивалась как недопустимое проявление художественного произвола; особенно зловредную в этом смысле роль приписывали влиянию современного зарубежного искусства. Здесь же дискуссия проходит еще как бы в рамках полуакадемических понятий.
Иллюстрации Пушкина, которые делались раньше для вольфовских однотомников… далеки от произведений Пушкина. — Имеется в виду издание: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. / Рис. И. В. Симакова. СПб.: Т-во М. О. Вольфа, 1904. Далее приводятся имена популярных в свое время пушкинских иллюстраторов конца XIX в.: К. В. Лебедева — иллюстратора «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», «Капитанской дочки» и др. (для изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Т-во Сытина, 1899. Т. 1–2), Е. П. Самокиш-Судковской — иллюстратора «Евгения Онегина» (впервые: Нива. 1897. № 1; 1899. № 37. Отд. изд.: СПб.: Р. Голике и А. Вильборг, 1908), Павла П. Соколова — иллюстратора «Капитанской дочки», «Евгения Онегина» и др. (для изд.: М.: В. Г. Готье, 1891, 1893); С. С. Соломко — иллюстратора «Каменного гостя», «Сказки о царе Салтане» и др. (для изд.: СПб.: Изд. А. Суворина, 1895, 1896). Эти примеры, особенно иллюстрации Е. Самокиш-Судковской к «Евгению Онегину», будут фигурировать и в выступлениях других участников беседы в редакции «Литературного современника».
…образы Гоголя усваивались нами еще с детства по иллюстрациям Агина и Боклевского. И хотя эти иллюстрации далеко не идеальны и неадекватны гоголевскому тексту, но так или иначе целые поколения читателей по ним воспринимали произведения Гоголя… Поэтому сними необходимо считаться… — Скрытая полемика с позицией Ю. Тынянова, который был непримирим, в частности, к гоголевским иллюстраторам. «А ведь нам с детства навязываются рисованные „типы Гоголя“ — и сколько они затемнили и исказили в типах Гоголя. Собственно, половина русских читателей знает не Гоголя, а Боклевского или в лучшем случае Агина» (Тынянов Ю. Иллюстрация <1923> // Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 502).
В числе немногих интересных иллюстраций к Пушкину следует в первую очередь выделить иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику» и к «Пиковой даме»… и Добужинского к «Станционному смотрителю»… следует указать, однако, на их далекость и чуждость нашему пониманию Пушкина… — Отношение к мирискуснической пушкиниане — одна из главных тем беседы в «Литературном современнике», которую так или иначе затрагивают почти все ее участники. С одной стороны, в ходе беседы будут снова и снова признаны несомненные художественные достоинства мастеров «Мира искусства». С другой — их будут связывать, как первый докладчик, Н. Степанов, с «символистами» и «реакционно-идеалистической критикой», осуждать за «эстетизм» и «мистическое истолкование пушкинских сюжетов». Это отвечало духу времени — вспомним, что в правительственном решении от 13 мая 1936 г. о сооружении нового памятника Гоголю почти в тех же выражениях говорилось о необходимости снести старый памятник 1909 г., так как он «трактует Гоголя как пессимиста и мистика» (см. примеч. к преамбуле к дискуссии «Каким должен быть памятник Пушкину»[42]).
Здесь резко обозначился не только отход от устаревшей мирискуснической эстетики, в частности книжной, на что, говоря о «некнижности» «Медного всадника» с иллюстрациями А. Бенуа укажет Б. В. Томашевский (заметим, что подобные взгляды высказывались еще в начале 20-х гг.). В более широком смысле все эти полупризнания-полуотрицания мирискуснической традиции были знаком разрыва с русской культурой начала XX в., с эпохой Серебряного века (тогда этот термин не употреблялся). Наступало время, когда связь этой эпохи с Пушкиным или подвергалась идеологизированной критике, или ее вообще выносили за скобки, как бы пропускали. (Лишь в последние годы эта пропущенная пушкинская глава русской культуры восстанавливается в своих правах.)
Отход от предреволюционной пушкинской традиции сказался и в работе пушкинистов, и в переоценке изобразительной пушкинианы, и в преувеличении художественных достоинств новых иллюстраций. В ходе беседы слова о том, что работа над иллюстрированием «начата почти заново», что художники «сделали новый шаг», были почти у всех на устах. В этой ситуации С. Юдовин, выступивший следом за Н. Степановым, оказался исключением: «Мы не можем назвать ни одной новой работы, которая по масштабу своему могла бы сравниться с работой художников „Мира искусства“». Память о мирискуснической графической традиции тогда еще не была утрачена, многие выступавшие были воспитаны на ее образцах или являлись непосредственными учениками ее мастеров (полный разрыв с «Миром искусства» произойдет позднее, в конце 40-х гг.). В этом отношении существенно отметить, что в классический ряд иллюстраций А. Н. Бенуа к «Медному всаднику» (1903–1923, различные варианты) и «Пиковой даме» (1911), а также М. В. Добужинского к «Станционному смотрителю» (впервые экспонировались на выставке «Мира искусства» в 1905 г., отд. изд. — М.: Международная книга, 1934) тем же Н. Степановым были вписаны иллюстрации к «Пиковой даме», исполненные В. И. Шухаевым и изданные в Париже в 1923 г. Вспомним, что этот художник вернулся в Ленинград в 1935 г. и на следующий год экспонировал их на своей персональной выставке и на московской выставке «Советская иллюстрация за V лет. 1931–1936» (хотя эти работы не имели никакого отношения к советской иллюстрации, не говоря уже о том, что сильно расходились с датами, очерченными этой выставкой), тогда же издательство «Academia» наметило к переизданию «Пиковую даму» с иллюстрациями Шухаева, однако в 1937 г. издательство было ликвидировано, а сам художник репрессирован. Включение русской «эмигрантской» графики в юбилейную изобразительную пушкиниану на родине поэта, таким образом, состоялось в очень небольших объемах. (В 1999 г., к двухсотлетию со дня рождения А. С. Пушкина, в Париже состоялась выставка «Образы Пушкина. Работы русских художников-эмигрантов» из собрания Р. Герра, см.: Images de Pouchkine: Portraits d’exil dans l’oeuvre des peintres russes ?migr?s en France. 1920–1970. Collection Ren? Guerra. Paris, 1999.)
С. Б. Юдовин. Юбилейные издания
Соломон Борисович Юдовин (1892–1954) — художник-график. В юности занимался в мастерской витебского живописца Ю. Пэна, в 1911–1913 гг. — в школе Общества поощрения художеств, а также посещал в Петербурге мастерскую М. Д. Бернштейна и брал уроки у М. В. Добужинского. Главной сферой его творчества была гравюра. Из его работ в области книжной ксилографии 30-х гг. наиболее известны гравюры к «Жизни Ласарильо с Тормеса» (1931), «Повестям» Н. В. Гоголя (1935), «Путешествию Бениамина третьего» Ш. Абрамовича (1935, не издано) и др. Позднее оформил сборник «Поэты пушкинской поры» (1953–1954).
Издательство «Academia» по недостатку времени пошло по линии использования старых иллюстраций, иллюстрируя… заново… те произведения, которые… не имели иллюстраций. — Речь идет о первых четырех томах Полного собрания сочинений А. С. Пушкина (М.: Academia, 1936), в которых были репродуцированы по одной-две иллюстрации старых мастеров — В. Васнецова («Песнь о Вещем Олеге»), И. Билибина («Сказка о золотом петушке»), И. Крамского («Руслан и Людмила»), М. Врубеля («Моцарт и Сальери»), И. Репина («Евгений Онегин») — вперемежку с новыми, отмеченными С. Головиным рисунками современных иллюстраторов — А. Суворова, М. Горшмана, М. Родионова, А. Кравченко, Д. Шмаринова, Е. Хигера и др. Такому разностильному по части иллюстраций изданию С. Юдовин противопоставляет девятитомное Собрание сочинений А. С. Пушкина, выпущенное тем же издательством «Academia» (М.; Л., 1935–1938), для каждого тома которого разными современными мастерами были исполнены портреты-фронтисписы поэта (подробнее об этом см. ниже главу «Пушкин-лицеист»). Далее С. Юдовин говорит об иллюстративной серии Ленгослитиздата 1936–1937 гг., где каждая книга также была иллюстрирована одним мастером, серии, рисунки или литографии к которой составили основу выставки в редакции «Литературного современника».
Художник не шел по линии старых слащавых романтических иллюстраций и кинокартины… — Рассуждения о предшествующих рисункам А. Пахомова иллюстрациях к «Дубровскому» и современной экранизации этой повести встречаются и в выступлениях других участников беседы в «Литературном современнике». Так, Э. Ф. Голлербах, выступивший следом за Юдовиным, конкретизирует имена других иллюстраторов «Дубровского», называя кроме «плохих иллюстраций в „Ниве“» «средние рисунки Б. М. Кустодиева 1919 г.» (см.: Пушкин А.С. Дубровский. М.; П.: Госиздат, 1923) и работы Е. Е. Лансере (см.: Пушкин А. С. Сочинения. М.: Т-во А. И. Мамонтова, 1899). Что касается кинокартины, то Юдовин имеет в виду известный фильм «Дубровский» (сценарий К. Н. Державина, постановка А. И. Ивановского; Ленфильм, 1936), мнения о котором в ходе беседы разошлись. Если С. Юдовин полагал, что Пахомов «не шел по линии… кинокартины», то К. Петров-Водкин, напротив, утверждая, что «здесь имеется нечто и от фильма», прямо обратился к Пахомову с вопросом: «Вы смотрели его? Жаль. Вам не нужно было его смотреть». Определенную связь пахомовских рисунков с фильмом можно усмотреть в общности идейных постулатов «народности», как она понималась в середине 30-х гг. Так, если, по наблюдению Э. Голлербаха, в пахомовских рисунках «Дубровский спрятан, он как бы в тени, на первый план выдвинуты крестьяне», то и в фильме, хотя тут он и «не спрятан» (Дубровского играл Б. Н. Ливанов), «внимательный зритель, — по мнению кинокритика, — легко обнаружит отсутствие самой атмосферы пушкинской повести… Советский пушкинский фильм в сущности несет в себе удвоенный запас познавательных заданий. С одной стороны, он должен давать представление об исторической действительности, с другой — о творчестве самого поэта…» (Ефимов Н. Пушкин на экране // Искусство кино. 1937. № 2. С. 34).
Нельзя считать удачными иллюстрации Рудакова к «Евгению Онегину». Они несравненно слабее его… листов к Мопассану. — В дальнейшем ходе беседы эта оценка будет развернута другими выступающими. Так, Э. Ф. Голлербах остроумно заметит рудименты предыдущей работы художника в его «онегинских» иллюстрациях: «В отличных автолитографиях К. И. Рудакова больше „мопассановского“, чем пушкинского» (вспомним, что в 1935–1937 гг. Рудаков исполнил большую серию цветных автолитографий к «Милому другу» и другим романам Мопассана). Другой критик, Инн. Оксенов, объяснит причину неудачи Рудакова «несоответствием стиля пушкинского романа и стиля художника». (Характерно, что еще в 1923 г. критерий несходства стилей использовал для оценки иллюстраций Ю. Тынянов. «Манерные силуэты Добужинского подошли бы и к Марлинскому», — писал он об иллюстрациях М. В. Добужинского к «Барышне-крестьянке» (1923), см.: Книга и революция. 1923. № 4. С. 66.) Заключая беседу в «Литературном современнике», П. Е. Корнилов согласится с тем, что «Евгений Онегин» «не в плане Рудакова», и будет объяснять «мопассановское» в этих литографиях необходимостью слишком быстрого перехода художника «в совершенно другую эпоху… к другим образам». Речь здесь, собственно, шла о единстве авторского времени применительно к работе художника.
Следует отметить, что Рудаков не остановился на шести автолитографиях 1936 г. для Детгиза, которые, вероятно, и были выставлены в редакции журнала. На следующий год Ленгослитиздат выпускает новое издание «Евгения Онегина» с его же, чуть измененными литографиями. Впоследствии художник снова обращается к «Евгению Онегину», и в 1939, и в 1945–1949 гг., все больше удаляясь от Мопассана, но приближаясь скорее не к Пушкину, а, на наш взгляд, к Тургеневу или Л. Толстому, которых он в эти годы также иллюстрировал (см.: Рудаков К. И. Каталог выставки Л., 1971; Рудаков К. Рисунки к роману «Евгений Онегин» [8 цв. ил. в отд. папке]. Л., 1953).
Не особенно образны листы Хижинского к «Повестям Белкина», но что особенно удалось… это его гравюры «Пушкинский заповедник». — Подобное предпочтение пушкинских пейзажей Л. С. Хижинского его ксилографиям к «Повестям Белкина» было высказано в беседе еще Н. Степановым, а после С. Юдовина — К. Петровым-Водкиным, который заметил, что «художнику удалось без персонажей, даже без архитектурных дополнений передать характер пережитых Пушкиным пейзажей». Отметим также, что пушкинские пейзажи были исполнены Л. С. Хижинским в двух сериях и в двух разных техниках: ксилография и акварель (см.: Пушкинские места / Вступ. статья Д. П. Якубовича, гравюры на дереве Л. С. Хижинского. Л., 1936; Пушкинский заповедник / Акварели Л. С. Хижинского. Л., 1937). Кроме экспонирования в редакции «Литературного современника» (очевидно, только ксилографий) пейзажные работы художника составили его персональную выставку «Пушкинский заповедник», открывшуюся в начале декабря 1936 г. в ленинградском Доме кино.
Из молодых иллюстраторов следует отметить Якобсон с ее рисунками к «Станционному смотрителю» — На пушкинские рисунки А. Н. Якобсон также обратили внимание К. Петров-Водкин, Н. Тырса и П. Корнилов, однако неясно, какие именно ее иллюстрации они имели в виду. Рисунки Якобсон к «Станционному смотрителю» не были изданы, но демонстрировались на выставке в «Литературном современнике», о чем мы узнаем из текста выступления С. Юдовина. То же можно предположить о также неизданных ее рисунках к «Барышне-крестьянке». Эти рисунки вместе с ее опубликованными иллюстрациями к «Моцарту и Сальери» и «Скупому рыцарю» (см.: Пушкин А. С. Драмы. Л.: ГИХЛ, 1936), помимо выставки в ленинградском журнале, экспонировались в 1939 г. на «Выставке произведений графики ленинградских художников» в Ереване (см.: Выставка произведений графики ленинградских художников: Каталог. Ереван, 1939. № 433–438).
Э. Ф. Голлербах. Изобразительное искусство и Пушкин
Эрих Федорович Голлербах (1895–1942) — искусствовед, историк графики, библиофил. Основные издания: «История гравюры и литографии в России» (Пг., 1923); «История государственного фарфорового завода» (Л., 1924); «Встречи и впечатления» (Сост. Е. Голлербах. СПб., 1998) и др. Уроженец Царского Села, он в 1900 г. мальчиком присутствовал при открытии царскосельского памятника Пушкину работы Р. Р. Баха. Позднее, в 1927 г. напечатал библиофильское издание «Город муз» (2-е изд. — Л., 1930; силуэты работы автора). Начиная с 1919 г., публиковал статьи, посвященные Пушкину и изобразительной пушкиниане. Кроме выступления в «Литературном современнике», напечатал в 1936–1937 гг. ряд статей на «пушкинские» темы в газете «Литературный Ленинград»: «Пушкин и советские художники» (1936. № 52); «Поэмы Пушкина в иллюстрациях» (№ 53); «Итоги пушкинского конкурса» (№ 59); «„Евгений Онегин“ в иллюстрациях» (1937. № 2) и мн. др., а также издал два альбома: «А. С. Пушкин в портретах и иллюстрациях» (Лит. ред. А. Л. Слонимского. Л., 1937) и «А. С. Пушкин в портретах и иллюстрациях» (Пособие для учащихся средней школы / Сост. Э. Ф. Голлербах и В. Е. Евгеньев-Максимов. М.; Л., 1937). Замысел и структура этих изданий различались: в первом из них с целью дать «наглядную историю» интерпретации пушкинских иллюстраций и образа Пушкина был использован принцип «художественной хронологии» (по определению составителя); во втором — принцип «биографической хронологии», что продиктовало размещение различных иллюстраций, исполненных в разное время, вокруг отдельных произведений поэта (см.: Голлербах Э. Два пушкинских альбома // Книжные новости. 1937. № 1).
…вопрос о художественном достоинстве тех или иных портретов, картин и иллюстраций, связанных с Пушкиным, обычно решается отзывом присяжного пушкиниста… — Здесь, не называя имен, Э. Голлербах имеет в виду юбилейную издательскую практику 1936–1937 гг. Такая практика имела свою традицию. Вспомним известный случай с первым вариантом иллюстраций А. Н. Бенуа к «Медному всаднику», отвергнутых в 1903 г. «Кружком любителей русских изящных изданий», члены которого, по словам художника, «считали себя безапелляционными знатоками пушкинского образа» (Бенуа А. Воспоминания о Верещагине // Временник Общества друзей русской книги. III. Париж, 1932. С. 12). Между тем среди активных деятелей кружка были члены Лицейско-пушкинского общества М. А. Остроградский и П. Е. Рейнбот, последний известен своими работами о Пушкине и участием в создании Пушкинского Дома (см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…». М., 1985. С. 202–206).
…в пушкиноведении установилось… «неразборчивое» отношение к судьбе Пушкина в изобразительном искусстве. В «Литературном наследстве» появилось даже заявление, что образ Пушкина не представляет большой проблемы пушкиноведения. — В данном случае выпад против пушкинистов опровергается самим содержанием упоминаемого пушкинского тома «Литературного наследства» (Т. 16/18. М., 1934), где были опубликованы сообщения Б. Томашевского (Б. Борского), М. Беляева, С. Бессонова и Л. Гроссмана по иконографии поэта, а также обзоры П. Эттингера «Иллюстрированные издания Пушкина за годы революции» и Б. Казанского «Разработка биографии Пушкина» (в последнем упомянуты и ранние работы Голлербаха по изобразительной пушкиниане). Собственно указанное Голлербахом «заявление» в статьях «Литературного наследства» нам обнаружить не удалось, однако близкую точку зрения можно вычитать в статье И. Сергиевского «О некоторых вопросах изучения Пушкина», где пушкинская иконография не затрагивается специально, но с марксистских позиций резко критикуется биографический метод, в частности работы В. Я. Брюсова, М. О. Гершензона, В. В. Вересаева и других пушкинистов старой школы.

Участники беседы.
Н. Л. Степанов.
Рисунок П. В. Митурича. 1946.
С. Б. Юдовин.
Литография К. И. Рудакова. 1934.
…коснусь портретов Пушкина и картин биографического значения. — Обращение Э. Голлербаха, как и выступившего вслед за ним К. С. Петрова-Водкина, к примерам из живописной пушкинианы существенно расширило рамки беседы в «Литературном современнике», сосредоточенной до этого в основном на проблемах иллюстрации.
Помимо пушкинских работ И. К. Айвазовского и И. Е. Репина (на них подробнее остановится Петров-Водкин) Голлербах называет имена П. И. Геллера, автора картины «Гоголь и Жуковский у Пушкина в Царском Селе» (1910), и Г. Г. Мясоедова, имея ввиду его картину «Пушкин и его друзья слушают декламацию в салоне кн. 3. Волконской» (1905–1907); при упоминании имен В. А. Серова и П. Трубецкого речь идет об их работах, выполненных в 1899 г., к 100-летию со дня рождения поэта, — известной серовской акварели «Пушкин в парке» и бронзовом бюсте Пушкина работы Трубецкого. (Последний пример также фигурирует в записях Голлербаха «Скульптура и свет» (1938), см.: Голлербах Э. Встречи и впечатления. С. 284.)
Переходя к работам современных художников, Голлербах прежде всего останавливается на образце «анахронизма и нелепости» — офорте И. Я. Айзеншера «А. С. Пушкин в юности» (воспроизведенном в «Литературном современнике» при публикации романа Ю. Тынянова), который в свою очередь возьмет под защиту С. Марвич. Он будет утверждать, что та или иная неточность в исторических реалиях «никак не вредит гравюре». Однако в позиции Голлербаха, знатока графики, обнаружившего тонкое понимание атрибутики и одновременно выступающего за снижение ее роли в работах современных художников, можно заметить противоречие. Его равно не удовлетворяют ни пушкинские картины плодовитого Н. И. Шестопалова из-за отсутствия в них «стиля эпохи», ни портреты работы В. Е. Савинского и П. П. Кончаловского (к последнему критик еще вернется) — из-за присутствия в них непременных атрибутов ремесла поэта. Впрочем, такая, по определению Голлербаха, «паспортизация» портрета была характерна не только для упомянутых им произведений. В картине А. М. Герасимова «Пушкин в рабочем кабинете» (1937) «за всяческими предметами, набранными частью в Пушкинском Доме Академии наук, а частью… просто вынутыми из буфета художника, также не видно Пушкина…» (Беляев М. Д. Отражение Пушкина в изобразительном искусстве // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 6. М.; Л., 1941. С. 500).
Говоря далее об «интересных замыслах» Н. Шведе-Радловой, Голлербах, вероятно, имеет в виду и ее «Портрет А. С. Пушкина», отмеченный позднее третьей премией (как и портрет, исполненный В. А. Зверевым) на Ленинградском конкурсе, состоявшемся в конце декабря 1936 г. Факт, кстати, не прошедший мимо внимания ленинградских сатириков — их в то время особенно занимали пушкинские дела. Так, 24 января 1937 г. в газете «Литературный Ленинград» под пушкинским заголовком «Художник-варвар кистью сонной…» появилось сообщение: «На конкурсе живописных портретов Пушкина ни один портрет не получил первой премии». Рядом была напечатана карикатура И. Шабанова, на которой был изображен художник, копирующий «кистью сонной» знаменитый пушкинский портрет Кипренского. Под карикатурой следовали стихи без подписи:
Как много живописных бардов!Как много пышных бакенбардов!Готов уж не один портрет,А Пушкина… все нет и нет.
Замечательный, но весьма дискуссионный портрет написал П. П. Кончаловский.. — Судьба этого портрета характерна для пушкинской ситуации 30-х гг., его историю можно разделить на ряд этапов не только работы художника над самим портретом, но и взаимоотношений со зрителем и критикой.
В 1930–1932 гг. Кончаловский пишет большую картину-портрет «Пушкин» (позднее ее будут называть «Пушкин в Михайловском»), впервые она будет экспонирована на персональной выставке художника на Кузнецком мосту, открывшейся в самом конце декабря 1932 г., где займет центральное место и вызовет у одних восторг, у других — недоумение. Следуя традиции домашнего портрета — потом А. А. Сидоров скажет, что здесь Кончаловский «перетропинил Тропинина» (см.: Проблемы иконографии Пушкина // Пушкин: Сб. статей. М., 1941. С. 373), — художник написал поэта сидящим в свободной позе на диване в одной белой рубашке, почти голоногим, как бы в счастливый миг творческого вдохновения. Самым восторженным зрителем портрета оказался А. В. Луначарский: «Прежде всего нельзя не воздать хвалу Кончаловскому за то, что он взялся за Пушкина с самой трудной стороны… Изобразить момент творчества необычайно трудно. Но всякий другой Пушкин, не творящий, есть случайный Пушкин» (Новый мир. 1933. № 5. С. 267). Но такой, «не случайный» Пушкин, написанный в случайной позе, свободной и широкой кистью, не устроил другого критика: «Этот портрет Пушкина, в котором образ „физического“ человека с яркой печатью неги и беспечности эпикурейца, размашисто перешибает „духовный образ“ поэта» (Хвойник Игн. Выставка П. П. Кончаловского // Искусство. 1933. № 1/2. С. 217). Никак не отказывая художнику в виртуозном живописном мастерстве, не принял портрета и А. Эфрос. (Это его, вероятно, имеет в виду Голлербах, говоря, что «голоногий Пушкин шокирует „эстетов“».) Но Кончаловский не оставляет своего Пушкина и через полгода, в июле 1933 г. на выставке «Художники РСФСР за XV лет» в Историческом музее снова представляет тот же портрет, правда, в слегка измененном виде, чуть прикрыв ноги поэта и несколько упростив натюрморт. Но и такой портрет с поправками не был принят рядовым, не очень грамотным, но требовательным зрителем: «Хотелось бы, чтобы автор картины объяснил бы где-нибудь среди широкой публики, какими мотивами руководствовался он, изобразя (так в тексте. — Ю. М.) нашего гениального поэта в таком виде» (цит. по: Морозов А. И. К истории выставки «Художники РСФСР за 15 лет» // Сов. искусствознание-82. Вып. 1. М., 1983. С. 140). «Отпор зрителя» предсказывал А. Эфрос портрету и на пушкинской выставке 1937 г. Однако на сей раз этого не произошло. «Я не знаю, чем именно руководствовалось жюри Всесоюзной Пушкинской выставки, не пустив на экспозицию прекрасный портрет П. П. Кончаловского», — писал в те годы один из пушкинистов (Беляев М. Д. Указ. соч. С. 497). Не знаем и мы, но очевидно, что, если при своем появлении портрет рассматривали, пусть часто и критически, еще в категориях искусства, то теперь, в эпоху канонизации поэта, среди проектов монументальных пушкинских памятников или официальных портретов голоногий Пушкин, проказник Пушкин был явно не ко двору.
Еще три-четыре года назад портрет Кончаловского находился в Центре общего внимания; даже не сам портрет, а разговоры вокруг его бесчисленных переделок были фактом культурной жизни середины 30-х гг. В этом нетрудно убедиться, взглянув — как и в случае с итогами Ленинградского конкурса — в кривое зеркало пародии. В сатирическом сборнике «Парад бессмертных» (М., 1934), выпущенном к Первому съезду советских писателей, есть своя пушкинская страничка «Пушкин читает стихи Луговскому», которую открывает рисунок Б. Малаховского «По картине Кончаловского» (с. 26). Правильнее было бы сказать — по картине П. Кончаловского — Н. Ге, так как рисунок здесь точно повторяет историческую композицию Н. Н. Ге «Пущин у Пушкина в Михайловском». Только фигуры у Малаховского подменены и играют по сценарию истории с портретом Кончаловского. Пушкин, читающий стихи, здесь изображен по Ге, а голоногий — по Кончаловскому, который и сам присутствует в рисунке на месте «няни». В шарже Б. Малаховского заключена двойная пародия — на современного советского поэта В. Луговского, занявшего кресло Пущина и поучающего Пушкина:
Читать, дружок, — читать побольше надо…Жарова стихи.Перечитай внимательно раз двадцать,Потом писать попробуй… —и на современного живописца, автора портрета поэта. История с портретом была обыграна и в специальном примечании редакции:
От зрителя налево — Кончаловский,Известный тем, что написал картину,В которой снял подштанники с поэта.В художнике заговорила совесть,И он решил, подштопавши белье,Вернуть его немедленно поэту…Но, повторим, это было за три года до пушкинского юбилея. Теперь, в 1937 г., отношение к портрету переменилось. Сведения о том, что художник «в 1936 г. переработал свою известную картину „Пушкин“», мы узнаем лишь из очередного тома «Пушкинского временника». Если по традиции о работе Кончаловского и вспомнят на страницах сатирического «музея» юбилейного номера «Крокодила» (1937. № 3), то вспомнят как старый анекдот о «нашумевшей картине засл. деят. искусств П. Кончаловского: Пушкин без брюк…». Портрет не только не пустили на выставку, но, по существу, вынесли за скобки пушкинского юбилея. Ни в одном из юбилейных номеров художественных журналов, ни в «Искусстве», ни в «Творчестве», мы не встретим о нем и полслова. В этой ситуации сочувственное упоминание Голлербахом «Пушкина» Кончаловского нельзя не оценить, тем более что его позиция не встретит поддержки со стороны других участников беседы в «Литературном современнике», напротив, Л. А. Динцес снова будет говорить о «неприятном», «чересчур натурально домашнем Пушкине» Кончаловского.
Очень удался образ Пушкина-лицеиста В. А. Фаворскому… Надо отметить и портреты Пушкина работы Н. А. Павлова и К. И. Рудакова. — Перечень новых графических портретов Пушкина Голлербах начинает с портретов-фронтисписов В. А. Фаворского и Л. С. Хижинского к отдельным книгам тогда еще не законченного девятитомного Собрания сочинений А. С. Пушкина (М.; Л.: Academia, 1935–1938), отмеченных ранее С. Юдовиным. Однако интересен сам факт такого безоговорочного признания гравюры Фаворского со стороны Голлербаха, ревностного защитника мирискуснической петербургской традиции в графике, который раньше был, как правило, более чем сдержан по отношению к московскому мастеру.
Среди юбилейных графических портретов Голлербах выделяет работы К. И. Рудакова и Н. А. Павлова. Подробнее о них можно узнать из путеводителя по казанской выставке «А. С. Пушкин» (1937), где экспонировались два литографированных пушкинских портрета работы Рудакова и одиннадцать литографий и офортов Павлова на темы биографии поэта, среди них литография «Пушкин в книжной лавке Смирдина», отмеченная в декабре 1936 г. второй премией на Ленинградском пушкинском конкурсе.
С интересом ждем мы новых иллюстраций к Пушкину от И. Я. Билибина. — По возвращении в 1936 г. из эмиграции в Ленинград, И. Билибин приступает к работе над новым вариантом иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» (Л.: Худ. литература, 1938) и новыми декорациями к постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском театре), премьера которой состоялась 20 января 1937 г.
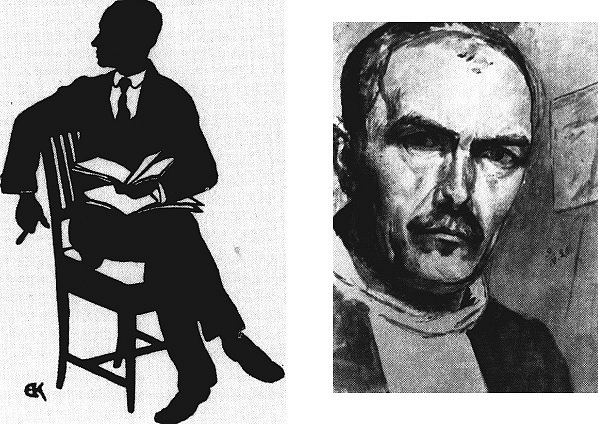
Участники беседы.
Э. Ф. Голлербах.
Силуэт Е. С. Кругликовой.
К. С. Петров-Водкин.
Автопортрет.
Рисунок. 1926.

Участники беседы.
Н. А. Тырса.
Автопортрет.
Сепия. 1928.
Б. В. Томашевский.
Фото.
Напомню, что пушкинские места отражены еще в рисунках… — Здесь имеются, вероятно, в виду не только пейзажи, написанные к юбилею, но и работы художников, еще в 20-е гг. обратившихся к этой теме. Из названных Голлербахом пейзажистов раньше других пушкинской темой занялся П. А. Шиллинговский, еще в 1924 г. исполнивший зарисовки Пушкинского заповедника, часть из которых он тогда же перевел в литографию («Пушкинские горы», «Село Михайловское», «Тригорское» и др.), а в 1929 г. — в ксилографию («Дорога в Петровское», «Мостик в парке»). Позднее, в 1936–1937 гг., он снова вернулся к этой теме, на юбилейной выставке 1937 г. в Казани экспонировались семнадцать его литографий из серии «Пушкинский заповедник» (см.: А. С. Пушкин: Путеводитель по выставке. Казань, 1937. № 95–111). Другим старым «пушкинистом» был живописец А. А. Осмеркин, посвятивший в 1928 г. пушкинским местам ряд картин («Святогорский монастырь. Вход к могилам Пушкиных и Ганнибалов» и др. «Таким образом, — вспоминал художник А. М. Нюренберг, — была написана серия „ультрареалистических пейзажей“, которую автор шутя подписывал „Осмеркин — Шишкин“. Кончаловский, взглянув на „пушкинские пейзажи“, сказал: „много природы, мало искусства“»; см.: Осмеркин А. А. Размышления об искусстве. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1981. С. 202). В 1936 г. Осмеркин пишет картину «Вид села Михайловского» и др., но главным образом в это время работает для театра, тоже на пушкинские темы (декорации к «Евгению Онегину» в Камерном театре, режиссер А. Я. Таиров (постановка не осуществлена), и к «Пушкинскому спектаклю» в Большом Драматическом театре в Ленинграде, режиссер А. Д. Дикий). В канун пушкинского юбилея группа ленинградских графиков, в которую входили и упоминаемые Голлербахом Л. С. Хижинский, Н. Э. Радлов, Т. М. Правосудович и А. В. Каплун, также работала в пушкинских местах бывшей Псковской губернии. В августе 1935 г. в музее Пушкинского заповедника была устроена выставка их работ (см.: Хроника // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936. С. 392; Там же. 3. М.; Л., 1937. С. 509). Серии литографий «Пушкинский заповедник» А. Каплуна и Т. Правосудович экспонировались и на юбилейной выставке 1937 г. в Казани (см.: А. С. Пушкин: Путеводитель по выставке. Казань, 1937. № 11–18, 56–59).
Упадок интереса художников к садово-парковым пейзажам Царского Села, отмеченный Голлербахом, и настойчивое внимание к среднерусским, деревенским «пушкинским уголкам» бывшей Псковской губернии объясняется не только их мемориальным характером, но и установкой на реализм в советском искусстве тех лет. Надо ли говорить, что для этой цели Царское Село мало подходило.
К. С. Петров-Водкин. Пушкин и мы
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) — живописец, художник театра, график. Поступил в 1895 г. в Центральное училище технического рисования бар. A. Л. Штиглица в Петербурге, откуда в 1897 г. перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у В. А. Серова. Посещал в 1901 г. школу А. Ашбе в Мюнхене и в 1906 г. академию Ф. Коларосси в Париже. Автор многих живописных работ, в том числе и знаменитого «Купания красного коня», впервые экспонированного на выставке «Мира искусства» 1912 г., а также портретов русских поэтов «Анна Ахматова» (1922), «Андрей Белый» (1932), воображаемого группового портрета «Пушкин, Андрей Белый и Петров-Водкин» (1932) и двух собственно пушкинских портретов (1937–1938). Работал в графике, в 1920-е гг. иллюстрировал ряд детских книг, позднее — «Избранные произведения» М. Горького (М., 1932). Опубликовал три автобиографические книги со своими рисунками: «Самаркандия» (Пб., 1923), «Хлыновск» (Л., 1930) и «Пространство Эвклида» (Л., 1932). В 1924 г. исполнил эскизы декораций и костюмов к «Борису Годунову» А. С. Пушкина для Большого драматического театра в Петрограде (постановка не осуществлена). В 1932 г. избран первым председателем Ленинградского областного Союза художников, в 1936–1937 гг. был также председателем его Пушкинской комиссии.
Статья «Пушкин и мы» напечатана в сокращенном виде в кн.: Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы / Сост., вступ. ст. и коммент. Е. Н. Селизаровой. М., 1991. Мы печатаем текст полностью по журнальной публикации. Кроме этой статьи ранее, в том же «Литературном современнике» (1935. № 9), были опубликованы ответы Петрова-Водкина на анкету «О Пушкине», а на страницах другого ленинградского журнала — «Резец» (1937. № 1), — краткие заметки художника: «Последние три года я работаю над Пушкиным…» (см. приложение к настоящему разделу).
Литературный критик Мирский… выступил с нелепым заявлением, что Пушкин — узкий националист. — Речь идет о статье Д. Мирского «Проблема Пушкина» (Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934), которая подверглась резкой критике еще до 1937 г. «Статья эта больше всего характерна своей неисторичностью. Основные тезисы Д. Мирского об узконациональном характере творчества Пушкина, о полном компромиссе с правительством Николая I и его лакействе уже послужили поводом к ожесточенной и справедливой критике», — писал в 1936 г. С. Гессен (Литературный современник. 1936. № 1. С. 219). См. также: Гиппиус В. В. Проблема Пушкина; Мирский Д. П. Ответ моим критикам // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936.
…что можно вспомнить из наших иллюстраций к биографии Пушкина?.. дуэль, затем Пушкина вносят в квартиру после дуэли. — Имеются в виду многократно репродуцированные произведения конца XIX в. — картина А. А. Наумова «Дуэль Пушкина с Дантесом» (1884) и акварель П. Ф. Бореля «Возвращение Пушкина с дуэли» (1885). Характерно, что тема дуэли и смерти поэта заняла едва ли не главное место в работах советских художников, выполненных к пушкинскому юбилею 1937 г. Так, на конкурсе, организованном Пушкинским комитетом Союза художников и Ленизо, куда поступило более 200 работ, вторые премии по живописи (первая осталась неприсужденной) были присуждены А. А. Горбову — за картину «Дуэль Пушкина с Дантесом» и В. Ф. Федорову — за «Погребение» («Похороны в Святогорском монастыре») (см.: Голлербах Э. Итоги Пушкинского конкурса // Литературный Ленинград. 1936. 23 дек.). На Всесоюзной пушкинской выставке 1937 г. кроме указанной работы Горбова экспонировалась также картина Г. К. Савицкого «Пушкин перед дуэлью» (см.: Краткий путеводитель по выставке, посвященной столетию со дня смерти А. С. Пушкина. М., 1937. С. 80). Помимо этого в юбилейном пушкинском альбоме, составленном Э. Голлербахом, были воспроизведены картины на ту же тему, исполненные Н. И. Шестопаловым (1926) и студентом Академии художеств С. К. Матросовым (1936) (см.: А. С. Пушкин в изобразительном искусстве. С. 20, вкл. перед с. 29). Преддуэльный мотив был несколько драматизирован и в лучшем, по признанию критики, произведении на Всесоюзной пушкинской выставке, большой картине-портрете Н. П. Ульянова «У лестницы» («Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу», 1935–1937). По замыслу самого художника, «эта лестница ведет Пушкина к Черной речке» (Ульянов Н. П. У дворцовой лестницы // Советское искусство. 1937. 11 февр.). Однако строгий пушкинист упрекал картину за «упущение из виду того, что сам Пушкин, как… вполне светский человек уже из одного самолюбия никогда бы так не выдал в обществе своих чувств» (Беляев М. Д. Указ. соч. С. 499).
Отметим также, что на выставке юных художников в Ленинградском Дворце пионеров и на Всесоюзном конкурсе «Лучший рисунок к произведениям Пушкина», куда поступило не то пять, не то шесть тысяч детских работ, и на Всесоюзной пушкинской выставке (в разделе «Пушкин в творчестве советских детей») также фигурировала тема дуэли. Биографическая дуэль Пушкина с Дантесом была представлена в рисунках 11-летних ленинградцев Терезы Когновицкой и Соломона Энштейна, литературная — Онегина с Ленским — изображена в рисунках 14-летнего москвича В. Евдокимова, 15-летнего жителя Саратова Левы Герасимова, 16-летнего рисовальщика-самоучки из Кировского края Евгения Чеснокова. Мы указываем только те детские рисунки, которые смогли извлечь из пушкинских журналов юбилейного года (см.: Костер. 1937. № 2; Резец. 1937. № 7; Творчество. 1937. № 3; Огонек. 1937. № 2/3; Искусство. 1937. № 2). Наряду с рисунками существовал и детский фольклор вроде разыгранного Д. Хармсом диалога с маленьким Кириллом, у которого нет и тени сомнения в бессмертии поэта:
— А ты видал Пушкина?
— И ты можешь посмотреть на Пушкина, — сказал я, — в этом журнале его портрет.
— Нет, — сказал Кирилл, — я хочу посмотреть на живого Пушкина.
— Это невозможно, — сказал я.
(Хармс Д. О Пушкине / Публ. Вл. Глоцера // Мурзилка. 1987. № 6).Печатались в юбилейном году и современные «лицейские» стихи на тему «Воскрешения», истолкованного, правда, на советский лад:
Александр Сергеевич, проснитесь скорее!Оглянитесь кругом…Говорили Вы правду: калмыки и финныТоже Ваши читают с вниманьем слова,У прилавков толпятся огромной лавинойИ про Вас говорят: «Пушкин был голова»(Костер. 1937. № 2. С. 100).
После… выплывает нелепейшая вещь — «Пушкин на берегу Черного моря»… — Имеется в виду картина И. К. Айвазовского 1868 г. Затем, снова обращаясь к истории изобразительной пушкинианы, Петров-Водкин называет картины И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. „Прощай, свободная стихия“» (1887) и И. Е. Репина «Дуэль Онегина с Ленским» (1901, первый вариант на ту же тему — акварель в изд. П. П. Кончаловского, 1899).
Дальше уже идут ропетовские «петушки»… — Здесь Петров-Водкин переходит к пушкинским иллюстрациям, выполненным в «русском стиле», названном «ропетовским» по имени архитектора конца XIX в. И. П. Ропета (И. П. Петрова). К иллюстрациям подобного типа он относит рисунки И. Я. Билибина к «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о золотом петушке» (первое изд. — СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1907, 1910; переиздаются до настоящего времени), а также — С. В. Малютина к «Сказке о царе Салтане» и «Руслану и Людмиле» (М.: Изд. А. И. Мамонтова, 1899).
Еще можно упомянуть о работе палешан над Пушкиным… образ самого Пушкина у них не доведен дальше понимания Крамского… — Сравнивая образ Пушкина в иллюстрации И. Н. Крамского «У лукоморья» с выполненными художниками-палешанами росписями Ленинградского Дворца пионеров, Петров-Водкин, вероятно, имеет в виду композицию на ту же тему А. Дыдыкина (см.: Пушкинская комната во Дворце пионеров // Резец. 1937. № 7). Издательство «Academia» в 1937 г. также выпустило пушкинские сказки с иллюстрациями художников-палешан: И. П. Вакурова («Сказка о золотом петушке»), И. М. Баканова («Сказка о мертвой царевне»), Д. Н. Буторина («Сказка о попе и о работнике его Балде»), И. И. Зубкова («Сказка о рыбаке и рыбке»), И. И. Голикова («Сказка о царе Салтане»), см:. Жидков Г. В. Пушкин в искусстве Палеха. М.; Л., 1937.
Вспоминаю лишь смысл: «Пушкин, в бурю, в грозу, не забывай нас.» — Здесь Петров-Водкин перефразирует строки из стихотворения А. Блока «Пушкинскому дому» (1921): «Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!»
…нам, «изошникам», трудно подойти к Пушкину… он настолько максимально чеканит образ… что не остается хвоста, за который можно ухватиться… — Та же мысль содержится в черновых записях художника: «Пушкину не повезло в изоискусстве, ибо он сам величайший мастер образа и его трудно дополнить…» (Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления… С. 326. Запись от 15 октября 1936 г.).
Пушкин среди иллюстраторов тоже одинок… Что дал Бенуа к «Медному всаднику»?.. А Пушкин как иллюстрирует себя? — Называя Пушкина «иллюстратором», а его рисунки — «иллюстрациями» и буквально сравнивая их с работами художников-графиков (в данном случае с иллюстрациями А. Бенуа к «Медному всаднику»), Петров-Водкин отдал дань характерному для 30-х гг. пафосу открытия и всеобщего поклонения рисункам поэта. Между тем такой взыскательный исследователь пушкинских рисунков, как А. Эфрос, полагал, что только рисунок «Пушкин и Онегин» — «единственный образец, так сказать, официальной иллюстрации — рисунка, которым Пушкин не только зрительно пояснял свое произведение… но и давал профессионалу-художнику обязательную схему для „картинки“ к „Евгению Онегину“» (Эфрос А. Рисунки поэта. М., 1933. С. 305).
Я помню только одну замечательную иллюстрацию… Это «Сказка о царе Салтане» — рисунки Врубеля. — Неточность. По-видимому, имеется в виду картина М. А. Врубеля «Тридцать три богатыря» (1901, Гос. Русский музей). Врубель также выполнил в 1900 г. декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», а в 1901 г. — декоративное панно «Царь Салтан» для дома И. А. Морозова в Москве.
Я начал бытовую картину из жизни советских писателей. — Выступление проясняет этапы работы художника над завершенной в 1932 г. картиной «Пушкин, Андрей Белый, Петров-Водкин». В том же году картина экспонировалась на выставке современного русского искусства в Филадельфии (ныне ее местонахождение неизвестно, воспроизведена в кн.: К. Петров-Водкин. Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Л., 1986. С. 250). Фотография несохранившегося варианта картины, где изображены Пушкин, Федин, Шишков, Андрей Белый, опубликована в статье: Епатко Ю. Г. Автопортрет с… Пушкиным. Пушкиниана художника К. С. Петрова-Водкина // Новый часовой. 1998. № 6/7. С. 299).
…я остановился на том, чтобы дать Пушкина в Болдине. — Портрет «Пушкин в Болдине» был написан к Всесоюзной пушкинской выставке, открывшейся в 1937 г. в Москве. Однако жюри выставки его отклонило, как и картину П. П. Кончаловского «Пушкин в Михайловском», и Петров-Водкин, согласно воспоминаниям его жены, уничтожил портрет, разрезав холст на куски (см.: Петрова-Водкина М. Ф. Мой великий русский муж // Волга. 1971. № 9. С. 173–174; Она же. Воспоминания // Вперед (г. Пушкин). 1975. 20 мая — 5 июня; Петров-Водкин К. С. Письма… С. 328, коммент. Е. Селизаровой; Епатко Ю. Указ. соч. С. 302). Необходимо также отметить, что, хоть пушкинский портрет Петрова-Водкина и не был допущен на выставку, его не обошла своим вниманием критика — вероятно, портрет был снят в последний момент. В статье «Советские художники на пушкинском юбилее», напечатанной за 5 дней до открытия Всесоюзной выставки, А. Эфрос, не скрывая, что пишет свой обзор в канун ее открытия («еще не все свезено в музей, и не все я видел»), рассматривает, однако, работу Петрова-Водкина как реальный экспонат. Критик пишет о «неудаче большого художника», которую, по его мнению, отчасти искупает «разработка головы поэта, тонкой по очерку, умной и выразительной» (Советское искусство. 1937. 11 февр.). Но в «Крайком путеводителе по выставке», подписанном к печати 14 февраля 1937 г., т. е. за два дня до открытия экспозиции, портрет Петрова-Водкина уже не фигурирует. Он по-прежнему остается в поле зрения критики, но ее интонация резко меняется. Так, на страницах пушкинского номера журнала «Искусство» (где этот портрет был репродуцирован) С. Разумовская пишет уже об «искаженных чертах лица — безлобого, дегенеративного, только внешне отдаленно напоминающего пушкинское» (Искусство. 1937. № 2. С. 16). Другой автор увидел в портрете «живой труп в красном халате» (Беляев М. Д. Указ. соч. С. 499–500). Суждения эти характеризуют вкусы своего времени. Точнее, их скорую перемену.
Позднее, в 1937–1938 гг., Петров-Водкин выполнил этюд «Пушкин в Петербурге» («Пушкин на Неве»), который впервые был экспонирован почти через тридцать лет, на персональной выставке художника в 1966 г. (ныне хранится в Гос. музее А. С. Пушкина в Москве).
Что касается новых иллюстраций <…> А. Н. Самохвалов еще заражен Салтыковым-Щедриным… — Здесь следует краткий обзор новых пушкинских работ ленинградских художников, специально выставленных в редакции «Литературного современника» к беседе «Пушкин в изобразительном искусстве». Как сообщала «Литературная газета», «выступление Петрова-Водкина встречено с исключительным вниманием и интересом… По просьбе собрания художник дал подробную оценку всем работам, подготовленным Гослитиздатом для юбилейных пушкинских изданий» (Александров А.Иллюстрации к Пушкину: На обсуждении в «Литературном современнике» // Литературная газета. 1936. 11 нояб.). Начиная свой обзор с пушкинских иллюстраций А. Н. Самохвалова, Петров-Водкин отмечает их прямую связь с предшествующей работой художника. Речь идет об автолитографиях Самохвалова к «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (М.; Л., 1935). Мысль о влиянии самохваловских щедринских иллюстраций на пушкинские повторил П. Корнилов в заключительном слове беседы в «Литературном современнике». Подобная ситуация «перетекания» графических образов уже была отмечена С. Юдовиным и Э. Голлербахом в случае с иллюстрациями К. И. Рудакова к Мопассану и Пушкину.
Митрохин <…> что касается трагизма «Пира во время чумы», то он сделал его как перевод с английского. — В связи с митрохинскими рисунками Петров-Водкин вспоминает мхатовскую постановку пушкинской трагедии 1915 г. с декорациями А. Бенуа, в оценке которых не расходится с мнением одного из первых рецензентов пушкинского спектакля: «О постановке „Пира во время чумы“ не хочется говорить после того, как сам А. Бенуа с делающей ему честь искренностью признавался, что „было ошибкой“ его намерение показать уголок старой Англии…» (Тугендхольд Я. Пушкинский спектакль (письмо из Москвы) // Аполлон. 1915. № 4/5. С. 102).
О пушкинских рисунках Митрохина см. также его собственную статью в приложении к настоящему разделу.
Лапшин был введен в систему постановкой пушкинского спектакля… — Неясно, о каких рисунках идет речь, — имеются ли в виду эскизы декораций и костюмов к «Каменному гостю» и «Скупому рыцарю», исполненные Н. Ф. Лапшиным в 1936 г. для юбилейного пушкинского спектакля в Большом Драматическом театре (режиссер В. В. Лютце; спектакль запрещен после генеральной репетиции); или цветные рисунки Лапшина к несостоявшемуся изданию «Евгения Онегина» на английском языке, эскизы к которым экспонировались на студийной выставке в ленинградском Доме архитектора в 1939 г. (сообщено Б. Д. Сурисом).
Работы Ец вызывают интерес… — Речь идет, по-видимому, о рисунках И. М. Еца к «Дубровскому», также экспонировавщихся позднее на выставке ленинградских художников в Ереване (см.: Выставка произведений графики ленинградских художников: Каталог. Ереван, 1939. № 36).
Н. А. Тырса. Иллюстрация и творчество
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — график и живописец. Учился в Петербурге в Высшем художественном училище при Академии художеств (1905–1909) и в Школе живописи и рисования Е. Званцевой (1907–1910) у Л. С. Бакста. Первая оформленная книга — «Комедия о царе Максимилиане и непокорном сыне его Адольфе» (Пг., 1921), первая иллюстрированная детская книжка — «Козлик» (Пг., 1923). В 1920–1930-е гг. иллюстрировал множество детских книг Б. Житкова, В. Каверина, Н. Тихонова и др. Наиболее известные рисунки Тырсы к «Республике ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (Л., 1927) переиздавались и позднее. Автор графических портретов Анны Ахматовой (1928). Во второй половине 30-х гг. иллюстрирует произведения русской классической литературы — «Пиковую даму» А. С. Пушкина (Л., 1937), «Анну Каренину» Л. Н. Толстого (Л., 1939), «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1941). Опубликовал ряд статей по разным вопросам искусства, в том числе о книжной иллюстрации.
Статья «Иллюстрация и творчество» перепечатана Б. Д. Сурисом в его книге «Н. А. Тырса. Жизнь и творчество» (СПб., 1996) с некоторыми редакционными сокращениями по исправленной стенограмме. Мы печатаем текст статьи полностью по журнальной публикации, несмотря на погрешности записи, сохранившей, однако, интонацию устной речи и непосредственность диалога Тырсы с К. С. Петровым-Водкиным. При этом учтен ряд исправлений, сделанных во второй публикации статьи.
…Пушкин был не то что в опале, а не проверен до конца <…> Причислить его к «добропорядочным» не удается. «Подозрительный дворянин» тоже не выходит. — Имеется в виду «классовый подход» к Пушкину, характерный для социологической критики и широко распространенный в 20-е гг. В этом смысле пушкинский юбилей сыграл положительную роль, сняв с поэта подобные обвинения. Своего рода комментарием к словам художника может служить рисунок Л. Бродаты на обложке пушкинского номера сатирического журнала «Крокодил» (1937. № 2), где рабочие срывают с московского памятника поэту надписи: «Обуржуазившийся дворянин», «Либеральный землевладелец», «Мелкопоместный помещик», «Эпикурействующий стоик», «Деклассированный феодал», «Выразитель…» и другие клише марксистской эстетики.
…почему повсюду без конца михайловские, тригорские дубы… почему… запечатлевать заново построенные дома… или совсем изменившийся за сто лет пейзаж?.. Почему бы не взяться за творчество Пушкина? — Здесь, вероятно, заключена и скрытая полемика с теми, кто, подобно Э. Голлербаху, уделил много внимания изобразительной пушкиниане биографического характера. Биографизм, полагает Н. Тырса, отвлекает от интереса к творчеству поэта, чем собственно и должна заниматься иллюстрация. Увлечение биографизмом, особенно сказавшееся во время пушкинского юбилея, привело, по выражению другого автора, к «перепроизводству „Пушкинских мест“» (Беляев М. Д. Указ. соч. С. 510). Автор обзора «Отражение юбилея Пушкина в изобразительном искусстве», говоря о тех пейзажах, которые «не проникнуты пушкинским настроением, а просто протоколируют то, что видим сейчас мы и чего отнюдь не видел Пушкин», прямо ссылается на суждения Н. Тырсы: «Тех же читателей, кто упрекнет нас в недостойности подобного подозрения, мы отошлем к… беседе в редакции „Литературного современника“, где именно в этих грехах упрекал своих собратьев художник Н. А. Тырса» (Там же).
Может быть, когда-нибудь мне удастся не ограничиться пятью литографиями… — На малое количество «блестящих рисунков» Н. Тырсы к «Пиковой даме», что соответствовало параметрам юбилейной серии, указывал еще Э. Голлербах, находя их «бедными» рядом с иллюстрациями А. Н. Бенуа. К этому сравнению прибегали почти все, кто в ходе беседы или за ее пределами касался новых иллюстраций к «Пиковой даме». К. С. Петров-Водкин, полагая, что Н. Тырса здесь «шагнул далеко вперед» А. Бенуа, перевел это сравнение в план различия в методе иллюстрирования (там «голые события», тут «образы событий»). Оценка иллюстраций современного художника прежде всего была продиктована отказом от мирискуснической традиции и — шире — от традиций русской культуры начала века. И тут, на примере «Пиковой дамы», участники беседы указывали на «их далекость и чуждость нашему пониманию Пушкина», как, открывая дискуссию в «Литературном современнике», говорил еще Н. Степанов. Впрочем, так говорили тогда не только в стенах редакции журнала. Характерна в этом смысле дневниковая запись К. И. Чуковского (от 28 ноября 1936 г.): «А в другой школе, на Кирочной (вместо церкви) — я попал на Пушкинский вечер. Некий человек из Русского музея организовал в школе „выставочку“ и отбарабанил о мистике Ал. Бенуа и о реализме Тырсы — школьники слушали с тоской…» (Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 149).
Б. В. Томашевский. Пушкинская книга и художник
Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — историк литературы, текстолог, пушкинист. Член Пушкинской комиссии Академии наук и Ленинградского пушкинского комитета, созданного в связи со столетием со дня смерти поэта. Принимал участие в подготовке Полного академического собрания сочинений А. С. Пушкина. Первые пушкинские работы опубликованы в 1915–1916 гг. в журнале «Аполлон». Среди многочисленных исследований Томашевского есть ряд статей, специально посвященных пушкинским рисункам, иконографии поэта, а также иллюстрированию и оформлению его произведений: «Писатель и книга. Очерк текстологии» (Л., 1928; 2-е изд. — М., 1959. Разделы: «Психология набора», «Способы факсимильного издания рукописей», «О художественном оформлении собраний сочинений» и др.); «Иконография Пушкина до портретов Кипренского и Тропинина» (Лит. наследство. М., 1934. Т. 16/18. Под псевд. «Б. Борский»); «Пушкин и романы французских романтиков (К рисункам Пушкина)» (Там же); «Мелочи о Пушкине. Виньетка к „Цыганам“» (Пушкин. Временник пушкинской комиссии. 2. М.; Л., 1936); «Автопортреты Пушкина» <1936> (Пушкин и его время. Вып. I. Л., 1962); «Отражение творчества Пушкина в иллюстрациях его времени» <1936–1937> (Там же); и др.
Кроме беседы на тему «Пушкин в изобразительном искусстве» выступал в этом же журнале в дискуссии «Пушкин в театре» (За подлинного Пушкина // Литературный современник. 1938. № 8). Участвовал в 1950 г. в обсуждении итогов конкурса на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде.
Мы не имеем… иллюстрированного Пушкина <…> не лежит ли причина подобного явления в существе самого творения Пушкина… — Первый обозреватель дискуссии в «Литературном современнике» отмечал: «Нужно ли считать принципиально невозможным воплощение пушкинских замыслов… На этот вопрос, поставленный Б. Томашевским, не дано прямого ответа» (Александров А. Указ. соч.). Многие положения выступления Б. Томашевского были развернуты им в статье «Отражение творчества Пушкина в иллюстрациях его времени». Эта статья, опубликованная позднее в сб. «Пушкин и его время» (Вып. 1. Л., 1962), предназначалась, по-видимому, для неосуществленного монументального издания «Пушкин в изобразительном искусстве» (под общей редакцией И. К. Луппола), которое готовило к пушкинскому юбилею издательство Московского областного Союза советских художников. Издание должно было включить в себя всю пушкинскую иконографию: автопортреты, автоиллюстрации, прижизненные и посмертные портреты Пушкина и иллюстрации к его произведениям. Все издание было рассчитано на три тома, из которых первый должен был быть посвящен прижизненной пушкинской иконографии, второй должен был охватывать 1837–1917 гг., а третий — советский период. «Первый том, общим объемом около 50 печ. листов, — сообщал „Пушкинский временник“, — в ближайшее время сдается в производство. В него входят следующие статьи: В. А. Десницкий. Восприятие и истолкование Пушкина на разных этапах русской истории и идеологии; А. М. Эфрос. Автопортреты Пушкина; его же. Современники в изображениях Пушкина; Д. П. Якубович. Автоиллюстрации Пушкина; А. М. Эфрос. Прижизненные изображения Пушкина; И. Э. Грабарь. Пушкин в изобразительном искусстве его эпохи; М. Д. Беляев. История прижизненных портретов Пушкина; Б. В. Томашевский. Отражение творчества Пушкина в прижизненных иллюстрациях к его произведениям» (см.: Хроника // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936. С. 389). О подготовке этого издания кратко упоминает Н. Н. Пунин в письме к А. А. Ахматовой от 3 июня 1936 г. (см.: Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000. С. 333).
Необходимо озаботиться не только о стиле самих иллюстраций, но и о стиле всей книги, о стиле полиграфического оформления. — Б. Томашевский был едва ли не единственным участником беседы, который хотя бы в историческом плане затронул эти проблемы. Впрочем, занятая иллюстрациями, им мало внимания уделяла и критика. Из специальных материалов тех лет на эту тему см.: Днин А. Академический Пушкин // Полиграфическое производство. 1936. № 4; Кузьминский К. А. С. Пушкин в изданиях к столетней годовщине со дня его гибели // Там же. 1937. № 2.
С. Марвич. Новое в пушкинской иконографии
С. Марвич (Соломон Маркович Красильщиков, 1903–1970) — писатель. В 1924 г. окончил Ленинградский университет. Писал в основном на историко-революционные темы. Автор романов «Дорога мертвых» (1936) и «Сыновья идут дальше» (1940), а также биографических повестей о Н. А. Добролюбове «Студент Добролюбов» (1955) и «Стезею правды и добра» (1965). Кроме беседы на тему «Пушкин в изобразительном искусстве» выступал в редакции «Литературного современника» на совещании «Пушкин в советской школе» (1936. № 4); ранее в том же журнале были опубликованы его ответы на анкету «О Пушкине» (1935. № 12). Марвич напечатал также рассказ «Прогулка в крепость» в пушкинском номере другого ленинградского журнала — «Звезда» (1937. № 1).
Пушкинская иконография никак не ответила на такие темы, как Пушкин и народ и политическое лицо Пушкина. — Подобные требования были характерны для атмосферы юбилея 1937 г. Даже устроенная по утвержденному правительством плану Всесоюзная Пушкинская выставка, целью которой была поставлена задача показать «жизнь Пушкина, его борьбу с самодержавием и его гибель в этой борьбе», заслужила немало упреков. Ее ругали за «недостаточно представленный в экспозиции общественно-политический фон эпохи» и требовали «усилить показ общественно-политической биографии Пушкина» (Итоги работы Всесоюзной Пушкинской выставки // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 4–5. M.; Л., 1939. С. 571, 574, 577). Между тем, если обратиться к путеводителю по выставке, становится очевидным, что она и без того была сильно политизирована. Экспозиция имела разделы: «„Вольные стихи“ Пушкина», «Лица, оказавшие влияние на политическое развитие Пушкина», «Связи Пушкина с членами тайных обществ», «Политические стихотворения Пушкина», «Рукописи Пушкина и цензура», «Пушкин и движение Пугачева», «Враги Пушкина» и т. п. (см.: Краткий путеводитель по выставке, посвященной столетию со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина. М., 1937).
Если вернуться к выступлению С. Марвича, то можно сказать, что по идеологизированности своей лексики он едва ли не превосходит других участников беседы в редакции журнала. Характерно, что свои ответы на вопросы анкеты «О Пушкине», содержащие, кстати, немало интересных наблюдений, он заканчивает словами: «Советский журналист со стажем, я люблю Пушкина за то, что он был великолепным журналистом» (Литературный современник. 1935. № 12. С. 231).
Не могу согласиться с замечанием Э. Ф. Голлербаха относительно гравюры Айзеншера «Пушкин в лицее». — В оценке гравюры сказалось различие в подходах к произведению искусства историка-царскосела и современного писателя, по мнению которого художник имеет право на «хронологическую ошибку». К этому следует добавить, что ошибка здесь особенно заметна, так как офорт имеет иконографический характер: Пушкин-лицеист на ней как будто прямо пересажен за стол со знаменитой гравюры Е. Гейтмана (1822). Другая «цитата» — фигурная чернильница, подаренная поэту через 18 лет после окончания им лицея, — не позволяет оценивать офорт в жанровых рамках биографического портрета. Вероятно, безразличие художника и его ревностного защитника к исторической точности объясняется их стремлением выйти за рамки исторического жанра и адаптировать образ поэта ближе к современности. Отметим также, что И. Я. Айзеншер был знатоком в области графических техник, автором книги «Техника офорта» (Л; М., 1939).
Инн. Оксенов. Художник и тема
Иннокентий Александрович Оксенов (1897–1942) — поэт, литературный критик, переводчик. Начал печататься как поэт с 1915 г. в «Новом журнале для всех». Составитель сб. «Современная русская критика» (Л., 1925). В начале 20-х гг. сотрудничал в журнале «Книга и революция», в частности, опубликовал там статью «О поэтическом слухе Пушкина» (1921. № 8/9). Принимал участие в деятельности Пушкинского общества, с 1937 г. состоял его ученым секретарем. Автор ряда статей на пушкинские темы: «О „Медном всаднике“» (Литературный Ленинград. 1936. № 59); «Маяковский и Пушкин» (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 3. М.; Л., 1937) и др., а также брошюры «Жизнь А. С. Пушкина. Речь на собрании в Музее „Последняя квартира Пушкина“ 10 февр. 1937 г.» (Послесл. Конст. Федина. Л., 1937). Кроме статьи «Художник и тема», представляющей собой текст его выступления в редакции «Литературного современника», в этом номере журнала (1937. № 1) напечатано также его стихотворение «Пушкинские Горы». Ранее, в четвертой книге альманаха «Ковш» (М.; Л., 1926) Оксенов опубликовал стихотворение «Пушкин в Крыму».
…мне хотелось бы провести параллель между работой художников и поэтов на пушкинские темы… — Этот тезис своего выступления Инн. Оксенов начинает развивать на примере стихотворений В. Маяковского, Б. Пастернака, Э. Багрицкого, посвященных Пушкину. Хотя названные Оксеновым стихи не имеют прямого отношения к столетию со дня смерти поэта, они столь часто перепечатывались, особенно в год юбилея, что их первоначальная дата стерлась в сознании читателей. Так, не только «Юбилейное» Маяковского, но и «Тема» Пастернака, пушкинские стихи Багрицкого и другие вошли в антологию «Пушкин в русской поэзии» (М., 1937).
Пушкинские юбилеи отмечались и раньше, собственно, стихи Багрицкого были написаны в 1924 г. к 125-летию со дня рождения поэта. Но это были еще «литературные» юбилеи, которые предполагали только литературные игры. Впрочем, и вне юбилея еще можно было вольно разговаривать с «отчаянным классиком», как назвал Пушкина А. Архангельский, автор многих знаменитых литературных пародий, в том числе на «Юбилейное» Маяковского (1927) и на «Парней» А. Прокофьева (1934). Последняя начиналась словами: «Душа моя играет, душа моя поет! / А мне товарищ Пушкин руки не подает…» Неудивительно, что в 1927 г., в дни очередного пушкинского юбилея (90-летие со дня смерти), сатирический журнал еще мог позволить себе вмешаться в разговор Маяковского с Пушкиным и напомнить современному поэту об «Азбучной истине». Так назывался рисунок в «Бегемоте» (1927. № 7), где, согласно алфавиту, были выстроены кубики, некоторые — с живыми буквами «Л», «М» (с фигуркой Маяковского), «Н», «О», «П» (с фигурой Пушкина, сошедшей с пьедестала опекушинского памятника) и «Р». Помещенная под рисунком перефразированная цитата из «Юбилейного»: «Нам в веках (у Маяковского: „После смерти нам“. — Ю. М.) стоять почти что рядом — вы на „П“, а я на „М“» — сопровождалась примечанием редакции «Бегемота»: «Милый! Обратите внимание на азбуку. Между вами все-таки есть некоторое НО». Этот шарж, казавшийся невинным при своем появлении, через 10 лет, в канун пушкинского юбилея, сам становится удобным предлогом для критики: «…какой-то профессиональный остроумец (имя его утрачено) в каком-то юмористическом журнале комментировал эту строку такой карикатурой… Мы должны знать, почему эти два имени соединены в сознании советских читателей» (Тренин В. Разговор Маяковского с Пушкиным // Тридцать дней. 1936. № 10. С. 92). Позднее А. Тышлер в рисунке для обложки книги Маяковского «О поэзии» (М., 1939) усадит его и Пушкина, занятых дружеской беседой, за один столик. Правда, сохраняя и здесь вкус к театральной условности, художник усадит их на сцене, полузакрытой занавесом. Маленькое «НО» было перечеркнуто в эти годы и на карте Москвы. Тот же Инн. Оксенов в одной из первых статей на тему «Маяковский и Пушкин» (потом их будет множество) разъяснял «глубокий смысл совпадения правительственных решений об учреждении Пушкинского комитета и переименовании Триумфальной площади в Москве в площадь Маяковского» (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 3. М.; Л., 1937. С. 283). Вспомним, что соседняя Страстная площадь была переименована в Пушкинскую через два года, в 1937-м. Разумеется, все это было не простым совпадением. Канонизация одного, но «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» происходила на фоне новой канонизации другого. Или наоборот. В ситуации официального политизированного юбилея дерзкое, в духе 20-х гг., к тому же еще со шлейфом пародий и карикатур, само стихотворение «Юбилейное» было не слишком удачным примером.
Более созвучными 1937 году оказались мемориальные стихи Э. Багрицкого, где «…Пушкин падает в голубоватый / Колючий снег…», где «Наемника безжалостную руку / Наводит на поэта Николай!» и где звучит и тема отмщения, правда разыгрываемая в другую эпоху и в других обстоятельствах: «Я мстил за Пушкина под Перекопом…». Этим строкам еще можно найти некоторые визуальные параллели, но не в иллюстрациях, а в дуэльных юбилейных картинах, как правило, не очень высокого качества.
Ближе к нашим проблемам пример Пастернака, его стихотворение 1918 г. «Тема с вариациями» («Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа / Скала и — Пушкин… / И больше ничего»). Тут нельзя не согласиться с Оксеновым, назвавшим эту тему «совершенно „айвазовской“», хотя, нам кажется, что есть здесь и отсылка к вступлению к «Медному всаднику». Но если у Айвазовского и Репина в картине «Пушкин у моря. „Прощай, свободная стихия“» получилась, как говорил К. Петров-Водкин, «сплошная бутафория», то пастернаковские стихи, по замечанию критика, «как нельзя более противоположны всякой „айвазовщине“ в поэзии и искусстве». Это наиболее высокий и убедительный пример нового истолкования старой, замученной темы. Параллелей между поэзией, посвященной Пушкину, и иллюстрациями к его произведениям, однако, как видим, критику установить не удалось. Для иллюстрации ему пришлось ввести дополнительные критерии.

Участники беседы.
С. Марвич.
Шарж Б. Малаховского. 1935.
И. Оксенов.
Рисунок О. Э. Визель. 1926.
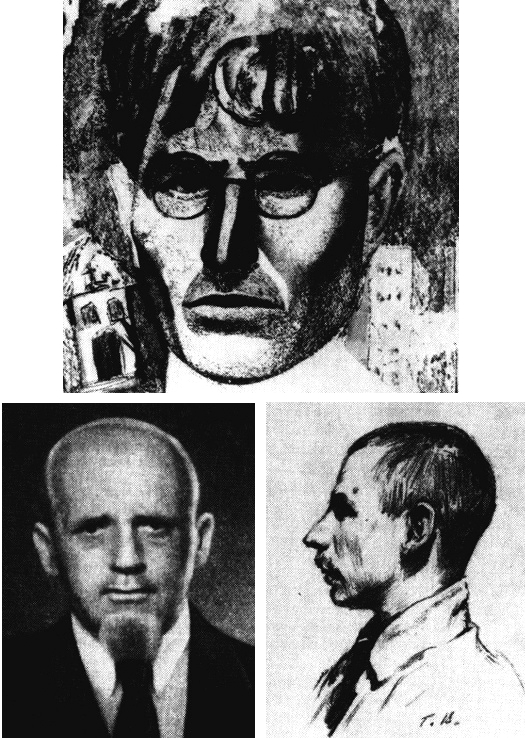
Участники беседы.
Е. А. Кибрик.
Автопортрет.
Акварель. 1928.
Л. А. Динцес.
Фото.
П. Е. Корнилов.
Литография Г. С. Верейского. 1924.
Очень хорошо, что Кибрик не взялся, например, за «Онегина»… — Речь идет о несоответствии стиля художника стилю писателя, о чем применительно к К. И. Рудакову — иллюстратору «Евгения Онегина» говорили еще С. Б. Юдовин и Э. Ф. Голлербах, а вслед за ними будут говорить и Инн. Оксенов и П. Е. Корнилов, считая, что художнику больше подходит Мопассан. Однако, высоко оценив иллюстрации Е. А. Кибрика к пушкинским «Сказкам» и в то же время предположив, что тому же Кибрику вряд ли бы удался «Евгений Онегин», Инн. Оксенов исходит из более тонкой дифференциации при выборе художником «своей темы» — выборе не писателя, а близкого ему произведения.
…да будет нам позволено сказать… что иллюстрация к пушкинским произведениям должна стоять на высоте подлинно народного искусства. — Неожиданный, на первый взгляд, поворот автора от тонких материй поэзии к понятиям «народности» применительно к пушкинским иллюстрациям был не случайным. Оксенов хорошо понимал требования времени, которое диктовало упрощение культуры и ее приобщение к языку и запросам народного искусства. В этом смысле показательна статья С. Ромова «Художники и народное творчество», напечатанная еще летом 1936 г. в журнале «Тридцать дней» (№ 7) и посвященная выставке «Советская иллюстрация за Улет. 1931–1936» в Москве. Вчерашний парижский критик, в 20-е гг. идеолог русской авангардной группы «Удар» в Париже, Ромов здесь не был похож на самого себя. Он клянет книжную ксилографию, призывая «эту Америку закрыть», он ругает московских художников группы «13» («что внесли они в советскую графику, кроме легкомыслия и беспринципности?»), забыв, что еще недавно сам был среди ее первых защитников. Более доброжелателен он к Д. А. Шмаринову и Кукрыниксам. Но главное в другом, к обзору выставки в Музее изобразительных искусств он подверстывает выставку колхозной самодеятельности в парке культуры: «Это, пожалуй, самое отрадное явление, после многих выставок последнего времени. Тут все свежо и интересно». После этого уже не удивляет заключительная фраза статьи: «От единения и взаимодействия нашего профессионального и самодеятельного искусства зависит успех не только изобразительного, но и всех искусств нашей великой социалистической страны». Это было напечатано за четыре месяца до пушкинской беседы в «Литературном современнике», а буквально через несколько дней после нее, 15 ноября того же года, в «Правде» была опубликована статья П. М. Керженцева «Фальсификация народного прошлого» (о «Богатырях» Демьяна Бедного), за текстом которой стоял проект решения Политбюро ЦК ВКП(б) о снятии спектакля со сцены Московского камерного театра; один из пунктов решения указывал, что пьеса Д. Бедного «огульно чернит богатырей русского былинного эпоса…» (см.: Максименков Л. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция. 1936–1938. М., 1997. С. 221). Надо ли говорить, что это было событие, выходящее за рамки театральной жизни и наложившее свою печать и на пушкинский юбилей. В подобной атмосфере критик, точно чувствующий требования времени, и заговорил о «народности» и даже выдвинул такой, к счастью, не прижившийся, неологизм, как «народные иллюстрации». Но если Инн. Оксенов декларирует идею «народности» в достаточно риторической форме, то выступившие вслед за ним художник Е. Кибрик и этнограф Л. Динцес почти целиком посвятили свои речи этой теме.
Е. Кибрик. В поисках народности
Евгений Адольфович Кибрик (1906–1978) — художник-график. Учился в Одесском художественном институте (1922–1925) и во ВХУТЕИНе в Ленинграде (1925–1927). Входил в «Коллектив мастеров аналитического искусства — Школа П. Филонова», с которой публично порвал в 1930 г. Первые графические работы (рисунки в журнале «Юный пролетарий», иллюстрации к «Подпоручику Киже» Ю. Тынянова, 1930) выполнены в стиле филоновской школы. В 1932 г. в оформлении Кибрика издан роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», где на фронтисписе был помещен литографированный групповой портрет «А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов» (первый вариант — ксилография). Групповой портрет и три литографии к пушкинским сказкам экспонировались на выставке «А. С. Пушкин» (Казань, 1937). В середине 30-х гг. получил известность как иллюстратор «Кола Брюньона» Р. Роллана. Позднее иллюстрировал «Легенду об Уленшпигеле» Ш. де Костера (1938), «Тараса Бульбу» (1945) и «Портрет» (1979) Н. Гоголя, сборник «Героические былины» (1950) и др., а также «Бориса Годунова» А. С. Пушкина (1965). Автор книги «Работа и мысли художника» (М., 1984), в которую, однако, не вошла его статья об иллюстрациях к пушкинским сказкам.
Мне хотелось бы остановиться еще на одной особенности пушкинских сказок. Они… «сказки среди белого дня». — С этим поворотом от графических стилизаций на темы пушкинских сказок к «здоровому „фламандскому“ натурализму» (по определению Инн. Оксенова) связан и труднообъяснимый сейчас успех кибриковских иллюстраций в те годы. Эти иллюстрации оказались все же проходной работой для самого художника и не закрепились собственно в детской книге.
Л. А. Динцес. О народности
Лев Адольфович Динцес (1895–1948) — археолог, историк народного искусства, музейный деятель. Окончил в 1920 г. Киевский археологический институт. С 1924 г. жил в Ленинграде, работал в пригородных дворцах-музеях, в Гос. академии истории материальной культуры, в Русском музее, где в 1937 г. организовал Отдел народных художественных ремесел (ныне — Отдел народного искусства). Ряд его научных трудов посвящен истории русской графики: «Герои Гоголя в изобразительном искусстве» (Л., 1936; 2-е испр. изд. — Л., 1937. В соавт. с П. Е. Корниловым); «Неопубликованные карикатуры „Гудка“ и „Искры“» (М., 1939) и др.
Пушкин не имеет, как Гоголь, своего Агина и Боклевского. А влиянию таких иллюстраторов… трудно не поддаться. Пример… иллюстрации Н. В. Алексеева к «Мертвым душам»… — Речь идет о гравюрах ленинградского художника Н. Алексеева к «Мертвым душам», исполненных в 1930–1931 гг. (см.: Н. В. Алексеев. 1894–1934. Сборник памяти художника. Л. 1936; Динцес Л. А., Корнилов П. Е. Герои Гоголя в изобразительном искусстве… Ил. 52–56).
…гнетущее впечатление произвел на меня первый опубликованный в печати плакат к пушкинским дням… Внизу проходит фотомонтажная демонстрация. — Не вполне ясно, о каком плакате идет речь. Как сообщал «Временник Пушкинской комиссии» (М.; Л., 1937. Вып. 3. С. 511), к 100-летию со дня смерти поэта Изогиз выпустил три плаката: «Пушкин для детей» (худож. И. П. Буев и Б. В. Иорданский), «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…» (худож. Б. Г. Кноблок) и «Слава великому Пушкину» (худож. Г. Клуцис). Само по себе использование «чужого слова», особенно в фотомонтажном плакате, было вполне правомерно. Так, на пушкинском плакате Клуциса «фотомонтажная демонстрация» проходит перед фотографией памятника Пушкину в Детском Селе. В произведениях на пушкинские темы можно неоднократно наблюдать прямые и скрытые цитаты. Известно, что главным иконографическим источником для всех последующих изображений юного поэта была гравюра Е. Гейтмана. Не только для изображений, но даже для фильма «Юность поэта», что, впрочем, и не скрывали авторы фильма, поместив на фронтисписе отдельного издания сценария фильма старую гравюру и портрет В. Литовского, исполнителя роли Пушкина-лицеиста, в гриме «под гравюру». В качестве другого примера укажем также на рисунок 9-летнего ленинградца Вадима Сапрыгина «Пушкин на берегу Невы», за которым тянется след собственно пушкинского рисунка, где поэт нарисовал себя рядом с Евгением Онегиным.
…не стоит долго останавливаться… на портрете Керн с вертлявым Пушкиным… — По сообщению печати, в 1936 г. для музея Пушкинского заповедника был приобретен и заказан ряд картин, в том числе и «смеющийся Пушкин» и «Пушкин и Керн в Михайловском» работы Н. К. Шведе-Радловой (см.: Хроника // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936. С. 392).
…старинные лубки на пушкинские темы… должны привлечь наше внимание. — Здесь в качестве примера «народного образотворчества» указаны два лубка на пушкинские темы, подробные сведения о которых содержатся в позднейшем исследовании С. А. Клепикова «А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке» (М., 1949): 1. «Под вечер, осенью ненастной, / В пустынных дева шла местах…» Гравюра резцом и пунктиром. М., 1832. Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом); 2. «Талисман» («Там, где море вечно плещет / На пустынные скалы…» Гравюра резцом и пунктиром. М., 1833. Гос. Исторический музей. Не останавливаясь специально на художественных качествах описываемых им лубков, С. Клепиков отмечает их большое число, свидетельствующее о популярности А. С. Пушкина в народе. Исследователю удалось выявить всего 49 «пушкинских» лубков с повторениями и вариантами, хотя, как он полагает, их было много больше, около 260.
С взглядами, подобными тем, что высказал Л. Динцес, на примере тех же двух лубков вступил в полемику Б. В. Томашевский в статье, написанной им в 1936–1937 гг., но изданной много позднее: «Два известных нам лубка… являются, конечно, демократическими в очень ограниченном значении этого слова. Это примитивные по исполнению, но всецело зависящие от господствующего официального стиля, подражательные, мещанские произведения… Эти листы не отражают своего самостоятельного отношения к произведениям Пушкина. Особенно показателен в этом отношении „Талисман“… Получается впечатление, что не художник иллюстрировал стихи Пушкина, а издатель подыскивал подходящий текст для готового рисунка… Поэтому этот лубок только очень условно можно считать иллюстрирующим Пушкина» (Томашевский Б. В. Отражение творчества Пушкина в иллюстрациях его времени. С. 343).
«…они до наших дней дожили свежие, румяные, молодые, одетые по обмундированию и по моде 1820-х и 1830-х годов». — Неточная цитата, у А. Бенуа: «Одетые по моде и по обмундированию…» (Бенуа А. Игрушки // Аполлон. 1912. № 2. С. 53). Не вполне точен Л. Динцес и в упреках Бенуа в безразличии к «хронологии типов» игрушек. В своей статье Бенуа выступает не столько как историк искусства, сколько как художник и собиратель, о чем он сам предупреждает читателя: «Быть может, „Аполлон“ ждал, что я напишу для серьезного журнала исследование, очерк, что я расскажу, что откуда пошло и как одно к другому относится, где центры производства и проч. Но это не мое дело. Это когда-нибудь сделает этнографический отдел Музея Александра III в почтенном издании своих „материалов“. Следовало бы это сделать…» (Там же. С. 52). Кроме статьи А. Бенуа в том же номере «Аполлона» была напечатана статья Н. Д. Бартрама «о возможности возрождения в игрушке народного творчества», а в разделе «Хроника» пространная заметка «Современная игрушка» (за подписью «Emile Magne»). Статьи А. Бенуа и Н. Бартрама были украшены серией цветных гравюр «Игрушки», исполненной В. Д. Фалилеевым. Как известно, А. Бенуа и другие художники «Мира искусства» сыграли большую роль в пробуждении в русском обществе интереса к народному искусству (игрушке, лубку, детскому рисунку и т. д.).
…стилизаторство и подлинно народное творчество легко различить… на нынешней выставке украинского народного искусства. — Речь идет о Первой республиканской выставке украинского народного искусства, состоявшейся летом 1936 г. в Киеве, а затем экспонированной в Москве. См.: Василенко В. Украинское народное искусство // Искусство. 1936. № 5.
Вредные традиции дореволюционных «показательных» мастерских Галаганов, Терещенко… — Имеются в виду народные промыслы, принадлежавшие потомственным украинским промышленникам и сахарозаводчикам, известным еще с середины XIX в. в качестве владельцев художественных мастерских, культивировавших в разных видах прикладного искусства возрождение стиля украинской старины (см.: Ковалинский В. Меценаты Киева. Киев, 1995).
П. Корнилов. Вчера и сегодня
Петр Евгеньевич Корнилов (1896–1980) — историк русской графики, музейный деятель. В 1920-е гг. заведовал кабинетом гравюр Центрального музея Татарии, вместе с П. М. Дульским принимал участие в составлении каталогов и устройстве выставок современных русских графиков в Казани. С 1932 г. живет в Ленинграде, заведует Отделом рисунка Русского музея. Среди его работ по истории русской графики: «Герои Гоголя в изобразительном искусстве» (Л., 1936; 2-е испр. изд. — Л., 1937. В соавт. с Л. А. Динцесом); «Русская гравюра XVI–XIX вв.» (Л.; М., 1950); «Офорт в России XVII–XX вв.» (М., 1953) и др. Принимал участие в организации ряда пушкинских выставок, автор статьи «А. С. Пушкин в советской графике» (А. С. Пушкин: Путеводитель по выставке. Казань, 1937) и вступ. статьи к каталогу выставки «А. С. Пушкин в изобразительном искусстве» (Л.; Калуга, 1966. В соавт. с Н. А. Михиным). Участвовал в 1950 г. в обсуждении итогов конкурса на памятник А. С. Пушкину в Ленинграде.
…не мешает напомнить историю иллюстраций к произведениям Пушкина. — Вопреки пафосу отрицания старой пушкинской иллюстрации, присущему беседе в редакции «Литературного современника», П. Корнилов в своем заключительном слове стремится подчеркнуть значение этой художественной традиции. Начинает он с конца XIX в., с юбилейного — к 100-летию со дня рождения поэта — иллюстрированного издания сочинений А. С. Пушкина в трех т. (М.: Т-во А. И. Мамонтова, 1899), которое было предпринято издателем П. П. Кончаловским (отцом художника), специально привлекшим к участию в нем современных художников. Из упомянутых П. Корниловым иллюстраторов (перечень их здесь далеко не полон) И. Е. Репиным был исполнен рисунок «Дуэль» к «Евгению Онегину», В. А. Серовым — «Пушкин в парке» (для фронтисписа) и к «Зимней дороге», Е. Е. Лансере — к «Выстрелу», А. Н. Бенуа — к «Дубровскому» и «Пиковой даме» (1-й вариант). М. В. Добужинский указан по ошибке, он не принимал участия в издании. В журнале «Мир искусства» (1899. № 16/17) С. П. Дягилев опубликовал статью «Иллюстрации к Пушкину», посвященную этому изданию и содержащую ряд интересных суждений об особенностях самой природы этого вида искусства и о праве художника на субъективность, праве «его собственного взгляда на данную поэму, повесть, роман» (Дягилев С. Иллюстрации к Пушкину // С. Дягилев и русское искусство. М., 1982. Т. 1. С. 96).
Следует отметить, что в своих исторических экскурсах П. Корнилов не всегда последователен. Прежде всего это коснулось «Мира искусства»; уважительно говоря об иллюстрациях А. Н. Бенуа к «Медному всаднику» и «Пиковой даме», Корнилов в то же время повторяет клише 1930-х гг. об «отрицательных рамках эстетики „Мира искусства“», «о ложных традициях „Мира искусства“» и т. п.
Я хочу напомнить вам 18-й, 19-й, 20-й годы… вспоминаю эти маленькие книжечки… — Речь идет о пушкинских изданиях в серии «Народная библиотека», которую выпускало в 1919–1923 гг. Государственное издательство (сначала — Литературно-издательский отдел Наркомпроса). Всего было выпущено 19 пушкинских дешевых книжечек маленького формата, где художнику, как правило, для иллюстрации отводилась только обложка. В качестве оформителей здесь выступали Д. Митрохин («Кавказский пленник» и др.), В. Замирайло («Полтава» и др.), А. Арнштам («Евгений Онегин»), А. Лео («Медный всадник» и др.). Некоторые издания выходили и с несколькими иллюстрациями — А. Бенуа («Капитанская дочка»), Б. Кустодиева («Руслан и Людмила» и «Дубровский»), И. Симакова («Выстрел», «Метель»). Часть иллюстраций осталась неизданной, часть была издана позднее, вне серии (Борис Годунов / Ил. Н. Купреянова. М.; Пг., 1923; Домик в Коломне / Ил. В. Лебедева. М.; Пг., 1924). Списки оригиналов рисунков и изданий «Народной библиотеки» опубликованы в приложении к работе: Захарова Д. В. Серия «Народная библиотека» и ее иллюстраторы // Очерки по русскому и советскому искусству. Л., 1974.
Из двух неопубликованных протоколов «Заседаний комиссии по изданию русских классиков и народному просвещению», состоявшихся 24 и 31 января 1918 г. (машинопись, архив семьи К. И. Чуковского, М.), мы узнаем о дискуссиях, которые велись при определении принципов подготовки «Народной библиотеки». Главное внимание было уделено текстологическим проблемам, обострившимся в связи с введением новых правил правописания, а также характеру предисловий к этим изданиям. Предметом обсуждения были и вопросы шрифта, оформления и иллюстрирования серии. Тут для нас особенно интересны высказывания А. Н. Бенуа относительно иллюстрированных изданий Пушкина. На заседании комиссии 31 января 1918 г. А. В. Луначарский говорил о различных путях иллюстрирования. Вопрос стоял о том, выпускать ли эклектические издания типа собрания сочинений А. С. Пушкина под ред. С. А. Венгерова (СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1907–1915), содержащего большой, но разностильный иллюстрированный материал, рисунки разных художников, фотографии «пушкинских мест», театральных спектаклей и т. п., или поручать иллюстрирование «одному лицу, или коллективу художников, объединенных одним духом». «Для А. В. Луначарского, — подытоживал протокол, — предпочтительно последнее, как осуществление особенно желаемого теперь в жизни перехода от индивидуальной работы к сотрудничеству». Не вступая прямо в полемику вокруг индивидуального или коллективного иллюстрирования (нетрудно предположить, что его позиция была отлична от позиции Луначарского), А. Бенуа, как следует из протокола заседания, затронул эту тему с другой стороны:
«На поставленный А. В. Луначарским вопрос об элиминировании эклектического иллюстрирования А. Н. Бенуа высказывается категорически против такого иллюстрирования; он ненавидит брокгаузовские издания — неприятно, например, встречать Бориса Годунова… в разных видах; сказывается при таком осматривании только любопытство… Затрагивая затем тот вид иллюстрирования, когда оно делается при помощи работ современных писателю художников, А. Н. Бенуа в русском художественном прошлом не находит ничего, на чем можно было бы остановиться… например, у Иванова и Галактионова все бледно, жалко, сбивает, Пушкин здесь фарфоровый. Полезности же за таким видом документального иллюстрирования, когда даются портреты, виды рабочей комнаты и т. п., отрицать не приходится».
Нам следует остановиться еще на одном месте протокола. Возражая Луначарскому, настаивающему на наглядности и просветительном характере иллюстраций к «Народной библиотеке», художник Н. И. Альтман «высказывается за иную точку зрения на иллюстрацию, когда она служит не полностью читателю, а имеет собственную ценность, когда перед нами особое искусство книжной графики». Желая примирить эти разные точки зрения, Л. М. Рейснер обратила внимание комиссии на пример из классической пушкинианы: «Задача иллюстрирования разрешается вполне у гения… напр. у Врубеля в его „Моцарте и Сальери“. Нужно быть очень художником, чтобы ужились оба принципа — и художественный и истолковывающий поэта».
…Ленинград, являясь застрельщиком в пушкинской иллюстрации в прошлом, дал… значительные работы и… перед 1937 годом. Москвичи… большого вклада в этой области… не сделали. — Здесь П. Корнилов отдает дань традиции исторического диалога двух столиц, затронувшего не только проблему памятника Пушкину, но и, как видим, графическую пушкиниану. Вспомним, что в свое время даже С. Дягилев, рассматривая пушкинские юбилейные издания 1899 г., счел необходимым предупредить читателя: «Все, о чем мы будем говорить, издано в Москве… Издания Кончаловского, А. Мамонтова и каталоги пушкинских выставок исполнены в Москве» (Дягилев С. Указ. соч. С. 95). А за четыре года до пушкинского юбилея 1937 г. А. Эфрос, как будто предвидя подобные разговоры, писал по поводу выставки П. Кончаловского: «А что скажут потомкам, что могут сказать эти десятки и сотни холстов Кончаловского? Они говорят… Москва, как от века, была большой деревней, а Петербург, как всегда, красовался барочно-ампирными зданиями, решетками: здесь и там читали Пушкина и изображали его» (Эфрос А. Выставка П. Кончаловского // Известия. 1933. № 59). В юбилей 1937 г. традиционный антагонизм Москвы и Петербурга сохранялся, но были и общие замыслы, как, например, уже неоднократно упомянутое нами девятитомное Собрание сочинений Пушкина («Academia», 1935–1938) с портретами поэта, которое издавалось в Москве, но куда были привлечены и московские (В. А. Фаворский, Н. И. Пискарев и др.), и ленинградские мастера гравюры (Л. С. Хижинский, С. М. Мочалов). Что касается примера с москвичом Н. В. Кузьминым, то критика в адрес его рисунков к «Евгению Онегину» не носила исключительно топографический характер, против них выступали не только ленинградцы, как П. Корнилов, но и сами москвичи (М. З. Холодовская, позднее А. Д. Чегодаев). И все же необходимо отметить, что в связи с юбилеем 1937 г. ленинградцы развили необычайную активность, о чем, кстати, говорят и печатаемые нами материалы двух ленинградских дискуссий на пушкинские темы, подобных которым в Москве не было устроено.
Нельзя не отметить труда, проделанного В. М. Конашевичем к «Евгению Онегину». Здесь можно спорить… — Позднее, вспоминая собственные трудности, с которыми он столкнулся во время иллюстрирования «Евгения Онегина», В. Конашевич размышлял об отсутствии «зрительного» образа у Пушкина, противопоставляя ему в этом смысле Л. Толстого. Мысли В. Конашевича по этому поводу так или иначе пересекаются с суждениями К. Петрова-Водкина и Б. Томашевского. Приводим отрывок из доклада Конашевича 1938 г.: «Много раз я слышал, например, сетования на то, что мы до сих пор не имеем хороших, в какой-нибудь мере ценных иллюстраций к „Евгению Онегину“. Перечитайте этот роман и посмотрите, много ли там данных для такого зрительного восприятия — в особенности его героев. Что о них говорит Пушкин? Мы узнаем только, что Ленский был брюнет и носил длинные волосы („и кудри черные до плеч“), узнаем, что Ольга была блондинка и хорошенькая. Начав чертить ее образ, Пушкин сейчас же отсылает читателя к любому роману, где вы „найдете, верно, ее портрет“. То есть сразу же лишает ее каких бы то ни было особенных, ей одной присущих внешних черт. О наружности Татьяны мы узнаем только, что „ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей“. О других, о самом Евгении мы знаем еще меньше. Все, что о них говорится, — все чистая литература. Не видя сам внешним человеческим зрением своих героев, Пушкин дает большой простор своим читателям. Читать, не представляя зрительно, не все могут (этим и оправданы иллюстрации в книге). Но, не имея никакого толчка в романе к зрительному восприятию образов, всякий Онегина и Татьяну представляет себе по-своему, в меру своего вкуса и культуры. Художник делает то же самое, и его представление, его образы могут повиснуть в воздухе, ничем не поддержанные в романе. Конечно, это никак и никоим образом не снижает и даже не обедняет это великое произведение. Пушкин остается в кругу чисто литературных представлений. Создавая образы Онегина и Татьяны, он не совершает экскурсов в область живописных, пластических представлений, оставаясь всегда в пределах литературы, в пределах ее приемов и возможностей. Но как гениально он их использует! Его герои живут не внешней жизнью, как только зрительные представления, но живут какой-то глубокой внутренней жизнью. Потому, может быть, их гениальные образы так властно укладываются в самой глубине нашего сознания и остаются там навсегда. Сила Пушкина, может быть, как раз в том, что он всегда остается только поэтом, что ему всегда достаточно средств его искусства. Но какие великие трудности возникают вследствие этого перед художником, который возьмется иллюстрировать это в самом деле гениальное произведение». (Конашевич В. М. О рисунках Н. А. Тырсы к «Анне Карениной» Л. Толстого <1938> // Конашевич В. М. О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1968. С. 208, 209).
Из работ современных авторов о рисунках В. Конашевича к «Евгению Онегину» см.: Букатов В. Новое в иллюстрировании романа «Евгения Онегина»: годы 1930-е // Венок Пушкину. Альманах библиофила. Вып. XXIII. М., 1987.
К этому встречному плану относятся работы К. А. Клементьевой… иллюстрации к «Графу Нулину»… — На пушкинской выставке 1937 г. в Казани экспонировалась литография К. Клементьевой к «Графу Нулину» (см.: А. С. Пушкин. Путеводитель по выставке. Казань, 1937. № 25).
Приложение
Из «анкет о Пушкине»Для пушкинского юбилея характерен массовый, по понятиям того времени, опрос представителей различных социальных групп населения.
Тема эта могла бы стать темой отдельного исследования, хотя на довольно однотипные вопросы были получены достаточно однотипные ответы. В сдержанности или, напротив, в пылком энтузиазме высказываний сказалась общая гнетущая атмосфера тех лет и в то же время искренняя любовь к поэту.
Опрос, часть результатов которого мы перепечатываем, был проведен еще задолго до юбилея и до начала дискуссий, материалы которых помещены выше. Именно журнал «Литературный современник» еще осенью 1935 г. начал анкетирование, обратившись к читателям со словами: «Советский читатель высоко ценит гениальное творчество Пушкина: рабочие, колхозники, академики, инженеры, школьники — независимо от возраста и профессии — читают и перечитывают Пушкина. Голоса этих читателей — голоса людей труда, науки и искусства — и стремится показать редакция журнала, помещая здесь ряд ответов на анкету о Пушкине.
Какие стороны творчества Пушкина, какие его произведения особенно действенны для читателя великой эпохи строительства социализма, какие вопросы пушкиноведения особенно актуальны, какой тип издания хотелось бы иметь нашему читателю — вот тот круг вопросов, с которыми обратилась редакция к участникам анкеты.
В ближайших номерах анкета будет продолжена — будет напечатан ряд ответов рабочих, красноармейцев, представителей научной и художественной интеллигенции» (Литературный современник. 1935. № 9. С. 168).
Публикация ответов на анкету растянулась на три года и печаталась в четырех номерах журнала (1935. № 9, 12; 1936. № 3; 1937. № 1).
Мы перепечатываем ответы художников Д. И. Митрохина, К. С. Петрова-Водкина и Н. Э. Радлова, чьи размышления, можно сказать, подготовили беседу в юбилейном номере журнала об иллюстрировании произведений Пушкина. Художник-график Д. И. Митрохин не принимал прямого участия в беседе «Литературного современника», но так или иначе затронул здесь проблемы, которые будут обсуждаться в редакции через некоторое время. Другое дополнение — «пушкинские» заметки К. Петрова-Водкина в журнале «Резец», также, как и в случае Митрохина, оказавшиеся не учтенными в литературе об этом художнике.
Ответы К. Петрова-Водкина на вопросы анкеты «Литературного современника» перепечатаны в сокращенном виде в кн.: Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. Мы печатаем этот текст полностью по первой публикации.
Д. И. МИТРОХИН
Началось со сказок. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». В детстве попался разрозненный том Пушкина. Затем «Евгений Онегин»; запоминался целыми главами наизусть. На полях книги я делал рисунки, робкие попытки иллюстрации.
Первое выступление на выставке: рисунки к «Сказке о попе и о работнике его Балде».
Любовь к Пушкину все возрастает. Всегда обращаюсь к нему как к источнику жизнерадостности, ума и безукоризненного ритма.
Нахожу эти свойства особенно яркими в его лирике и письмах.
Очень люблю рисунки Пушкина. Какая в них сила образа и какой уверенный почерк!
Хотелось бы иметь однотомник Пушкина, очень хорошо изданный. Он должен быть напечатан на превосходной бумаге, отлично оттиснутым шрифтом глубоко черного цвета (а не серого). И тип шрифта должен быть выбран из самых простых и четких. Однотомник — без иллюстраций.
И одновременно с ним — бесконечное множество отдельных книжек иллюстрированных. Большинство произведений Пушкина должно быть издано с иллюстрациями. Ведь наша книга никогда не имела столько превосходных иллюстраторов, как в наши дни (имена их известны каждому любящему книгу).
Литературный современник. 1935. № 9.
К. С. ПЕТРОВ-ВОДКИН
В раннем детстве первое произведение Пушкина, с которым я встретился, было:
Прибежали в избу дети…Мне трудно разобраться сейчас, как и откуда оно забрело в безграмотный наш мирок, но я помню, как эта баллада была для меня близка даже по месту действия и по действующим лицам. Она слилась для меня с Волгой. В квартале от нас, у обрыва была та самая изба, в которую «прибежали дети». Прибежали они к рыбаку-отцу. Это были два сорванца мальчика, ото льда до льда шнырявшие Волгой.
Встречавшиеся мне стихи Пушкина я долгое время не связывал с именем их автора: они врывались в мою жизнь и становились как бы моими. В начальной школе, благодаря хорошему учителю, я уже знал наизусть некоторые поэмы, пейзажи из «Евгения Онегина», отдельные сцены из «Бориса Годунова». Часто я пел стихи Пушкина, и это мне доставляло большое наслаждение и углубляло переживание мною через Пушкина окружающей действительности.
Гораздо позднее открылся мне и Александр Сергеевич.
Его одиночество, одиночество человека, переросшего свое время, для меня составляло центр трагизма жизни поэта. И семейная жизнь, на которую он положил столько надежд, не дала ему необходимого уюта. В семейной жизни Пушкина, как в фокусе, собрана в одну точку вся современная мелочность с царем-меценатом во главе, путавшая казарменную шагистику с ритмом поэзии и всюду совавшая свое собственническое попечение.
Страшным моментом для меня была интрига перед дуэлью. Это когда великое сердце и зоркий ум Александра Сергеевича были побеждены сворой дрянных, безысходных обстоятельств. Гений, принадлежавший массам, дышавший легкими всей страны, делается собственностью кучки пошляков, бессмысленной системой их жизни загнан в самую щель этой системы, и эта щель остается для Пушкина единственным фактическим, натуралистическим миром. Отсюда и финал трагедии приобретал глубокий для меня смысл.
Пушкин смертельно ранен. Передним подставной самец-противник. Пушкин напрягает свои последние силы, чтобы пристрелить навсегда — конечно, не манекена, торчавшего перед ним, но пристрелить вместе с ним всю мерзость сдавившей страну пошлости.
Тогда я полюбил Пушкина и как человека на всю мою жизнь.
С ростом во мне живописца Пушкин становится мерилом художественного такта, вытравляющим из меня упрощенную самодельщину и провинциальное захлебывание Западом.
Во все гиблые моменты русского искусства — будь то ложноклассика, «ропетовские петушки», натурализм, декадентство — Пушкин оставался маяком, на который правили передовые работники искусства.
Пушкин первый за нашу творческую историю поборол до конца монашеско-византийское влияние на мысль и ритмику русского художника. Он первый подошел к зарисовке образа непосредственно и вплотную, оголив образ от стилизаторства и сюсюканья над ним.
Помню волнение, с которым я впервые подходил к «Девушке с урной». Меня волновала мысль: а вдруг Пушкин ошибся, увековечил стихом одно из обыденных, подражательных произведений начала XIX века (фонтан «Девушка с урной», работы Соколова 1810 года)? Моя юношеская радость была неописуема: среди пустотелых гамбургских копий, среди академического вздора я увидел действительную жемчужину Детскосельских парков, передо мной была она, пушкинская:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.Дева печальна сидит, праздный держа черепок…С величайшей стройкой жизни, объединившей в Союз советских социалистических республик миллионы людей многих национальностей, когда сбылись слова поэта:
И назовет меня всяк сущий в ней язык, —при такой огромной аудитории Пушкин приобретает еще большее значение для советского искусства: его гений, окрыляющий тягу к творчеству, вызовет в массе трудящихся появление новых, невиданных до сей поры талантов.
Сверхмощное мастерство, широта замыслов, четкость художественных образов и глубочайший солнечный оптимизм Пушкина дают нам, работникам искусства, пример к созданию таких произведений, которые станут ценностями мирового масштаба, достойными стать вровень с могучим строительством нашей великой родины.
Пушкиноведам, мне казалось, следовало бы изучить и проанализировать по способу, принятому в живописи: пушкинский натюрморт, пейзаж и жанр в его бытовых вариациях.
Хотелось бы, чтобы пушкиноведы уделили больше внимания исследованию звуковых и ритмических особенностей пушкинской речи, ведь эти особенности и вскрывают органический смысл и доходчивость его до читателя.
Пора окончательно разобраться во многих ошибочно приписываемых поэту произведениях, а также — вычеркнутое по художественным соображениям Пушкиным в его черновиках не вводить в собрание сочинений неакадемического порядка.
Мне представляется очень удобным для читателя издание трехтомника: лирика, проза и письма поэта.
Мы не богаты портретами Пушкина. Описания современниками его внешности — самые разноречивые: поискать и запечатлеть в живописи образ Пушкина в нашем представлении о нем мне бы и хотелось попытаться.
Работу над этим я уже начал.
Литературный современник. 1935. № 9.Последние три года я работаю над Пушкиным. О том, насколько сложна и ответственна эта тема, говорить не приходится. Я хочу изобразить Пушкина в Болдине (осень 1833 года) в простой комнатной обстановке захолустного поместья. Вторая болдинская осень в творческом отношении была плодотворной для поэта: Пушкин закончил «Историю Пугачевского бунта», написал «Медного всадника» и ряд других произведений. Но вместе с тем вокруг него все сильнее и сильнее свивалась паутина интриг. Гениальный художник находился в состоянии общественной изоляции. Напряженность творческой мысли и социальное одиночество — вот то, что мне хочется запечатлеть в образе Пушкина.
Мне было бы трудно сказать, что больше всего я ценю в Пушкине. Я люблю Пушкина всего, целиком. «Борис Годунов» меня поражает удивительной способностью поэта перенестись в историческое прошлое, «Капитанская дочка» — правдивостью и теплотой изображения Пугачева, элегические произведения поэта — глубокими философскими раздумьями.
Пушкин проявил исключительное дарование в описании пейзажа (особенно в «Евгении Онегине»). И едва ли превзойден великий поэт в своем изображении натюрморта. Он дает его с поразительной выпуклостью, рельефностью. Вспомните в «Евгении Онегине» описание комнаты Онегина:
…Стол с померкшею лампадойИ груда книг, и под окномКровать, покрытая ковром,И вид в окно сквозь сумрак лунный,И этот бледный полусвет,И лорда Байрона портрет,И столбик с куклою чугуннойПод шляпой с пасмурным челом,С руками, сжатыми крестом.Или в стихотворении «Утопленник»:
В дымной хате мужикаДети спят, хозяйка дремлет,На полатях муж лежит…Я смело могу сказать: на творчестве Пушкина, его пластических образах, стройности, строгости, простоте рисунка я учился живописи. И поэтому сейчас моя работа над Пушкиным для меня не является случайной.
Резец. 1937. № 1.
Н. РАДЛОВ
Я не помню, когда и при каких условиях я впервые ознакомился с творчеством Пушкина, так же как я не помню, когда я начал впервые рисовать или читать. Я не могу указать на главнейшие встречи с Пушкиным, как не могу вспомнить первые впечатления от архитектуры Петербурга. Я так же мало могу дать себе отчет о влиянии Пушкина на мое творчество и идейное развитие, как установить, какое влияние на мое физическое развитие имели утренние завтраки.
Мне кажется, что Пушкин — это фактор биографии каждого из нас, он входит составной неотъемлемой и трудно определяемой частью в наше детство, формирует наше мировоззрение, дает критерий для оценок, сопутствует нашему развитию во все периоды нашей жизни. Без Пушкина мы были бы другими. Может быть, мне его заменил бы Диккенс и я был бы англичанином?
Поэтому вопрос о любимейших произведениях Пушкина и чертах его личности, наиболее мне близких, — это вопрос о состоянии моего развития на данное время, о моем возрасте. Мне думается, что каждый из нас должен пройти через всего Пушкина. Должен «больше других его произведений» любить все его произведения. Я больше всего любил и «Девятнадцатое октября 1925 г.», и «Медного всадника», и мелкие драматические произведения, и «Пиковую даму».
Сейчас меня интересуют больше всего письма, критические произведения Пушкина. Думаю, что в них мы могли бы найти неисчерпаемый источник оценок и указаний и для нашего советского искусства.
Меня интересует отношение Пушкина к изобразительным искусствам. Указывали на то, что интерес Пушкина к скульптуре значительно больше, чем к живописи. Мне думается, что причиной этому является низкий уровень русской живописи в его эпоху. Насколько чуток он был к переживанию картины, свидетельствует «сон Татьяны», написанный, конечно, под влиянием Босха. Картина его школы, несомненно, висела в Тригорском (в чьих-то мемуарах она упоминается как картина школы Мурильо, вероятно потому, что это имя было в моде). Я хотел бы узнать от пушкинистов об отношении Пушкина и к архитектуре.
Литературный современник. 1937. № 1.
Комментарии и дополненияД. И. Митрохин
Первое выступление на выставке: рисунки к «Сказке о попе и о работнике его Балде». — Речь идет о XXVI выставке Московского училища живописи (1904), где, помимо рисунков к сказке о Балде, Д. Митрохин выставил два рисунка к «Сказке о золотом петушке» и три — к «Сказке о царе Салтане» (см.: Каталог XXVI выставки картин учащихся училища живописи, ваяния и зодчества. М., 1904. № 88–94). Рисунки остались неизданными, сведения о них (кроме «Сказки о попе и о работнике его Балде»), как и факт участия Д. Митрохина в этой выставке, не учтены в литературе о художнике.
Большинство произведений Пушкина должно быть издано с иллюстрациями. Ведь наша книга никогда не имела столько превосходных иллюстраторов, как в наши дни… — Однако в дальнейшем внимательно следивший за юбилейными пушкинскими новостями Д. Митрохин вынужден будет признать, что «Пушкинский конкурс дал мало хорошего материала» (письмо П. Д. Эттингеру от 25 декабря 1936 г.), что, «говоря по правде, примечательного очень мало в пушкинских изданиях» (письмо П. Д. Эттингеру от 11 марта 1937 г.). В то же время говоря о юбилейной пушкиниане, он отметил профессиональные достоинства ксилографий Л. Хижинского «Пушкинские места», а также иллюстрации Е. Кибрика, А. Самохвалова и особенно А. Пахомова (см.: Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания. Л., 1986. С. 173, 316). В свою очередь, адресат Д. Митрохина, тонкий знаток графики, мимо внимания которого, кажется, не прошло ни одно иллюстрированное издание, П. Эттингер, в одном из ответных писем художнику резюмировал: «Пушкину же в юбилейный год определенно не везет» (письмо Д. И. Митрохину от 28 декабря 1936 г.: Там же. С. 315).
К. С. Петров-Водкин
…я впервые подходил к «Девушке с урной». — Речь идет о статуе П. П. Соколова «Девушка с кувшином» («Молочница с разбитым кувшином»), установленной в 1810 г. в Царском Селе, где в 1927 г. поселился К. Петров-Водкин. Этой скульптуре А. С. Пушкин посвятил стихотворение «Царскосельская статуя» (1830).
…и запечатлеть в живописи образ Пушкина… мне бы и хотелось попытаться. Работу над этим я уже начал, — О работе К. С. Петрова-Водкина над портретами А. С. Пушкина см. его статью «Пушкин и мы» (наст. изд., с. 104–111[43]) и комментарии к ней. Печатаемые в настоящем разделе тексты позволяют прояснить обстоятельства и характер возникновения этих замыслов и уточнить даты начала работы над портретами.
Н. Радлов
Насколько чуток он был к переживанию картины, свидетельствует «сон Татьяны», написанный, конечно, под влиянием Босха. Картина его школы, несомненно, висела в Тригорском… — В комментариях к «Евгению Онегину» Ю. М. Лотман, подтверждая сходство «шайки домовых» из «сна Татьяны» с образами «Искушения св. Антония» И. Босха, ссылается на статью В. Ф. Боцяновского «Незамеченное у Пушкина» (Вестник литературы. 1921. № 6/7), а также на книгу Н. Л. Бродского «„Евгений Онегин“. Роман А. С. Пушкина» (Изд. 5-е: М., 1964. С. 236), автор которой, в отличие от Н. Радлова, указывал, что картина висела не в Тригорском, а в Михайловском и принадлежала не школе Босха, а была копией с картины Мурильо на ту же тему.
Я хотел бы узнать от пушкинистов об отношении Пушкина и к архитектуре. — Из юбилейных статей на эту тему см.: Дурылин С. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина // Архитектура СССР. 1937. № 3; из более поздних работ см.: Томашевский Б. В. Петербург в творчестве Пушкина // Пушкинский Петербург: Сб. материалов. Л., 1949; Медерский Л. А. Архитектурный облик пушкинского Петербурга. Л., 1949; Алексеев М. П. Пушкин и Петербург; Савинов А. Н. Художники пушкинского Петербурга // Пушкинский Петербург /Автор-сост. А. М. Гордин. Л., 1974; Гордин А., Гордин М. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
III. Иконографические этюдыИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
— Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину
— «Пиковая дама» в русской графике
— Пушкин-лицеист
— Листки «неюбилейного» пушкинского календаря
(Прогулки с Пушкиным. — Домик в Коломне. — «Натюрморт с маской Пушкина»)
Спор футуристов с пушкинианцами у памятника ПушкинуТема «Пушкин и футуризм» — одна из главных тем истории русской культуры XX века — еще ждет своих исследователей, хотя и имеет свою литературу[44]. Мы ограничим свою задачу. Будем касаться этой темы главным образом через призму «памятника». Памятника Пушкину.
Канонизация Пушкина в виде памятника создавала возможность противопоставить друг другу памятник Пушкину и собственно поэта Пушкина. Это началось еще при символистах. Андрей Белый вспоминал потом о стремлении своего поколения «отмыть» Пушкина «от штампов конца столетия», снять «к Пушкину приставшую пыль», утверждая, что «Брюсов-то со всеми своими странностями ближе к Пушкину, чем культ бюста Пушкина»[45]. Понятие «бюст» здесь почти тождественно понятию «памятник».
Еще решительней стремились развенчать памятник футуристы: «Мне нравится беременный мужчина / как он хорош у памятника Пушкину…». (В другой редакции этого стихотворения Бурлюка: «Лишь он хорош у памятника Пушкина»[46].)
Тему Пушкина Д. Бурлюк громко заявил в своей публичной лекции «Пушкин и Хлебников», прочитанной им 3 ноября 1913 года в Петербурге в Концертном зале Тенишевского училища. Текст лекции не сохранился, и о нем можно судить только по афише и газетным откликам.
Еще накануне 3 ноября лекция стала предметом для обсуждения. Так, «Биржевые ведомости» предостерегали читателей: «Неужели пойдут?» И далее в форме заклинания: «Будем верить, что такт и уважение к Пушкину удержат публику от посещения этой кощунственной лекции. Есть же у нас хоть что-нибудь святое»[47].
Примерно в тех же тонах были выдержаны непосредственные отклики на лекцию. Едва ли не все петербургские газеты поместили на следующий день после выступления Бурлюка сенсационные заметки. Характерны их заголовки: «Пушкин и… Хлебников» («Новое время»[48]), «Пушкин и… футуристы» («Петербургский листок»[49]), разделяющие тремя точками эти имена и тем самым как бы исправляющие кощунственную некорректность самой темы. Только более культурная газета «Речь» обошлась без этого многозначительного разделительного знака, но в самом тексте статьи поднялась до высокой ноты, до пафоса пушкинского Сальери, перефразируя его знаменитый монолог: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля».
«Мне не смешно, — писал критик „Речи“, укрывшийся под инициалами Л. В., — когда маляр негодный сопоставляет солнце русской литературы и московского маньяка» (маньяк здесь, конечно, Хлебников). В той же заметке автор язвительно сообщает: «Пушкин — если только я правильно расслышал выражение г. Бурлюка — это „мозоль русской жизни“»[50]. Про «мозоль» писали и другие газеты. И «Петербургский листок», и газета «День». Особенно резвилось по поводу лекции Бурлюка «Новое время». Но что газеты. Журнал «Аполлон» в своей художественной летописи устами небезызвестного теоретика стиха Валериана Чудовского строго заклинал: «Какова бы ни была цель „исканий“ у поэтов-футуристов — допущенное некоторыми из них постыдное и гнусное кощунство над священной памятью Пушкина мы клеймим глубочайшим нашим презрением»[51].
На этом фоне еще интереснее другие, противоположные высказывания, пусть и не предназначенные для публики: «А вообще о футуристах и о том, как они судили о Пушкине, не судите по газетам, и особенно по „Новому времени“. Вы не можете себе представить, до чего газеты все искажают. При свидании расскажу. А вообще футуристы явление очень уродливое, но сложное. И потому судить о них приходится не по-газетному»[52]. Это из письма матери Александра Блока А. А. Кублицкой-Пиотух, написанного через десять дней после лекции Бурлюка, письма из дома Блока. Да и слова самого поэта в его записных книжках тоже можно считать откликом на ту же лекцию: «А что если так: Пушкина научили любить опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а… футуристы. Они его бранят по-новому, а он становится ближе по-новому»[53].
Та же газетная шумиха, хотя и в меньшем масштабе, поднялась в Москве и после того, как 11 ноября того же 1913 года Бурлюк повторил свою лекцию в Москве, где среди его слушателей оказался и молодой Р. Якобсон. «Когда Бурлюк объявил доклад — это были расклеены афиши на Политехническом музее и вокруг — доклад „Пушкин и Хлебников“, у меня тогда был жестокий спор с моим отцом, который говорил: „Какое безобразие!“, а я говорил: „Совершенно не безобразие“»[54]. Спор вокруг Пушкина перерастал в извечный спор «отцов и детей».
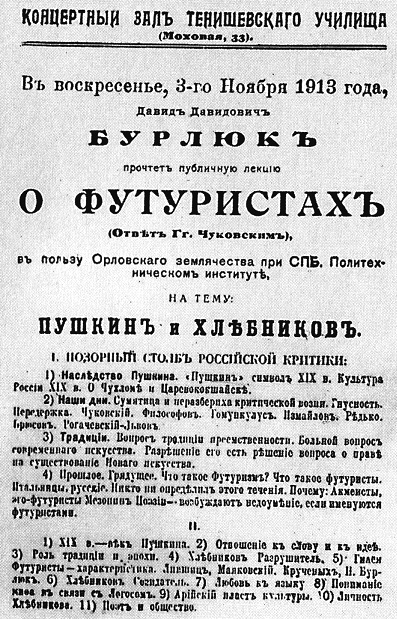
Афиша лекции Д. Бурлюка «Пушкин и Хлебников».
Санкт-Петербург, Тенишевское училище, 3 ноября 1913 г.
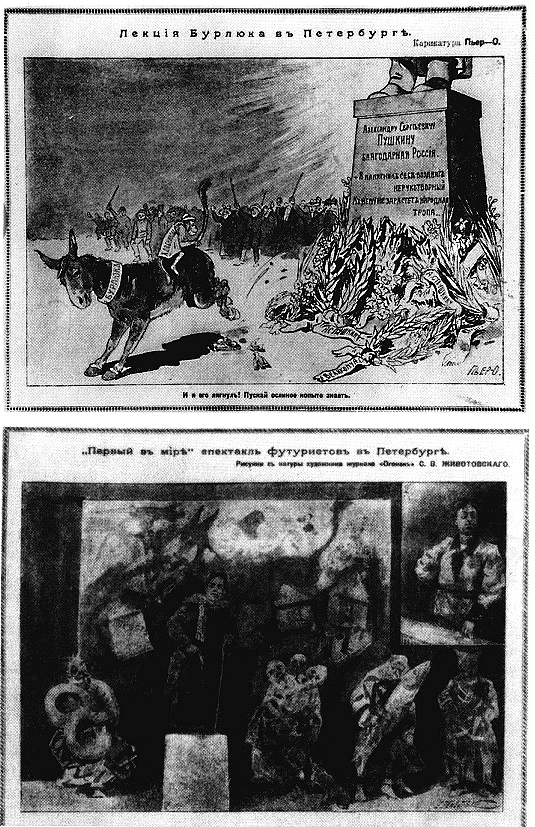
Лекция Бурлюка в Петербурге.
Карикатура Пьера-О (С. В. Животовского) (Огонек. 1913. № 45).
«Первый в мире» спектакль футуристов в Петербурге.
Рисунок с натуры С. В. Животовского (Огонек. 1913. № 50).
Не станем здесь пересказывать содержание газетных заметок. Для нашего сюжета важнее другое. Тот факт, что на волне этой шумихи возникает тема памятника Пушкину. Ожившего памятника.
Он фигурирует в сатирическом стихотворении «Бурлюки», принадлежавшем неизвестному нам поэту, печатавшемуся под псевдонимом «Хафиз» и постоянно сотрудничавшему в те годы в московской газете «Раннее утро», где этот текст и был напечатан. Критическая статья здесь разыграна как пьеса, где участвуют три персонажа: Пушкин, Гоголь и Бурлюк. Заметим, не просто Пушкин, а, как указано в ремарках, Пушкин «с пьедестала», не просто Гоголь, а Гоголь «с Пречистенского бульвара», то есть с памятника, который был установлен всего за четыре года до публикации «Бурлюков», в 1909 году.
Вот начало этой «пьесы», кажется, не вошедшей до сих пор в пушкиниану:
Пушкин (с пьедестала). Я памятник себе воздвиг нерукотворный…
Гоголь (с Пречистенского бульвара). Любезный Пушкин, брось! Теперь не в моде ты…
А кончается она обращением Пушкина к Гоголю:
Пойдем и, встав на пьедесталы,Дадим дорогу Бурлюку!..[55]А вот другой факт того же порядка, но уже с переводом полемики на язык графики. После петербургской лекции Бурлюка в журнале «Огонек» (№ 45) появляется карикатура, подписанная «Пьер — О.» (псевдоним известного карикатуриста С. Животовского), карикатура, на которой присутствует памятник Пушкину в окружении толпы людей с палками — «пушкинианцев», по выражению футуристов, — изгоняющих осла, в виде которого изображен Бурлюк и на спине которого сидит обезьянка с надписью «Хлебников». Характерно, что самого памятника по существу на карикатуре нет, нарисован лишь пьедестал, воспроизведен лишь текст надписи. Памятник фигурирует здесь как скульптурная цитата.
Так уже не только имя Пушкина, а памятник Пушкину становится предметом критики футуристов и одновременно охранной грамотой ревнителей строгой памяти поэта. Памятник становится литературным фактом.
Подпись под карикатурой гласит: «И я его лягнул! Пускай ослиное копыто знает». Присутствие «осла» на карикатуре имело и другой смысл, оно содержало явный намек на общество художников «Ослиный хвост» (Ларионов, Гончарова, Малевич, Татлин, Шагали др.), взявшее себе имя в честь нашумевшей мистификации в парижском Салоне Независимых 1910 года, где был выставлен холст, написанный хвостом осла. Осел становится эмблематическим знаком футуристов. Он будет фигурировать и в тексте под «рисунком с натуры» того же Животовского, помещенном в «Огоньке» (№ 50) в связи с постановкой трагедии «Владимир Маяковский» (декабрь все того же 1913 года). Только в роли осла теперь будет выступать не Бурлюк, а Маяковский и в роли «оскорбленного» — не памятник Пушкину, а бюст Комиссаржевской, в помещении театра которой («Луна-парк») происходил «первый в мире» спектакль футуристов. И, что для нас существенней, здесь тоже будет фигурировать памятник, точнее его пьедестал. Автор, он же герой трагедии, оказывается живым памятником. И этот факт был замечен современниками. Один из них, актер А. Мгебров, присутствовавший на спектакле в «Луна-парке», вспоминал: «Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в своем собственном костюме. Он был как бы над толпою, над городом: ведь он — сын города, и город воздвиг ему памятник. За что? Хотя бы за то, что он поэт. „Издевайтесь надо мною! — словно говорил Маяковский. — Я стою, как памятник, среди вас“. <…> Всего этого, разумеется, не говорил Маяковский, но мне казалось, что он говорил так»[56].
Все эти примеры из литературы и графики второго и третьего сорта ставили памятник в реальное пространство, снимая с него классическую тогу.
II
В собственно футуристических текстах можно вычитать не только парафразы из Пушкина, но и полупародийные стихи на пушкинские скульптурные темы, прежде всего на «Медный всадник». Это и «Последняя петербургская сказка» В. Маяковского, и поэма В. Хлебникова «Памятник», хотя она и посвящена памятнику Александру Шработы П. Трубецкого. Вопреки своим постулатам, поэты-футуристы, продолжая собственно пушкинскую, а затем и символистскую традицию, по-своему утверждали концепцию «ожившей статуи» (определение Р. Якобсона). И одновременно скульптурное обличье поэта позволяло им переводить стрелы своей полемики на нерукотворный образ в буквальном смысле этого слова. Заключая свою статью «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» примерами из того же Хлебникова и того же Маяковского, Р. Якобсон приводит эпиграмму Маяковского на В. Брюсова в связи с его работой над «Египетскими ночами»: «Что / против — Пушкина иметь? / Его кулак / навек закован / В спокойную к обиде медь». Здесь образ Пушкина отождествлен с памятником Петру.
Собственно скульптура интересовала футуристов не со стороны искусства ваяния, а как — о чем мы уже говорили — скульптурная цитата, материальный символ канона, статуарный двойник, «знак знака» (по Р. Якобсону). Поэтому они не могли пройти мимо московского памятника поэту работы А. Опекушина, который до сих пор остается главным пушкинским памятником, к тому же имеющим особый характер.
Особенность опекушинского памятника заключалась еще и в том, что в сознании современников (да и не только современников) он был как бы авторизован самим поэтом. Такой мемориальный характер ему придавали высеченные на памятнике стихи: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Надпись, как мы не раз говорили, воспринимали буквально.

В. С. Барт. Рисунок к стихотворению А. С. Пушкина «Вишня».
(Выставка «Ослиный хвост», Москва, 1913).

«Пушкин по-футуристически».
Рисунок Ф. И. Шаляпина. 1922.
Уже не Пушкин, а «Памятник-Пушкина», в одно слово, как у Марины Цветаевой, становился литературным образом, который органически врос в жизнь Москвы, стал своего рода восклицательным знаком в тексте города. Много позднее В. Фаворский объяснял этот факт следующим образом: «Памятник не только выражает определенную идею, дает характеристику своего героя, но и образует вместе с ним некое „силовое поле“ вокруг себя. Это ведь не только скульптура, но произведение, ритмически влияющее иногда на очень большое пространство… Не все памятники обладают этим удивительным свойством»[57]. Фаворский считал, что такое «силовое поле» есть у памятника Пушкина в Москве.
В создании этого поля немалую роль играла та историко-литературная аура, которая создалась вокруг памятника. Тверской бульвар и для футуристов был территорией литературной. Достаточно вспомнить, что манифест «Пощечина общественному вкусу» сочинялся в общежитии «Романовка», которое находилось у Никитских ворот. И, как знать, не имел ли в виду футуристический постулат «сбросить Пушкина с парохода современности» памятник, мимо которого футуристы ежедневно проходили. Вспомним также, что греческое кафе, где Маяковский впервые встретился с Пастернаком, было расположено тоже на Тверском бульваре, недалеко от памятника.
III
Если распространить на поэзию футуристов заключительную формулу статьи Якобсона: «Статуи пушкинских стихов нельзя найти ни в какой глиптотеке», то нас не должны удивлять и стихи Бурлюка «Мне нравится беременный мужчина…». «Примером крайнего контраста» назовет их И. Терентьев[58]. Тут и футуристическая риторика, и футуристический эпатаж, и попытка резкого снижения образа. Все это производило оглушающее впечатление на современников. Но по существу в этом не было ничего оскорбительного. Нарушить спокойную к обиде медь, оживить имя поэта, увидеть его своим современником — вот цели, которые они преследовали. Точнее всего смысл их идей выразил В. Хлебников, написав в 1915 году: «Будетлянин — это Пушкин… в плаще нового столетия, учащий… смеяться над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина „с парохода современности“ Пушкин же, но за маской нового столетия»[59].
Главным способом «оживления» памятника был для футуристов диалог. И с памятником, и с поэтом. В такой диалог, разделяя, однако, Пушкина и памятник, обращаясь к ним то в первом, то в третьем лице, вступил Хлебников: «Мы ехали мимо Вашего памятника. Там Вы стояли, — сказал мне кто-то насмешливо. <…> Я не раз проходил мимо этого черного, кудрявого чугунного господина с шляпой в руке. И всегда поднимал на него глаза. Кто он?»[60] (Существует предположение, что Хлебниковым была написана поэма «Памятник Пушкину»[61].) Традицию подобного диалога, только более пространного и злободневного, продолжит в 1924 году Маяковский в известном стихотворении «Юбилейное», которое в афише его устных выступлений будет прямо именоваться «Разговор с А. С. Пушкиным». Памятник присутствует (или, точнее, «отодвинут») и в полемичных Маяковскому словах автора по поводу А. Крученых: «Встреча Крученыха с Пушкиным произойдет не у монумента на Страстной, а в уже близком признании массами нашего заумника…»[62]

Памятник Пушкину.
Рисунок П. В. Митурича. 1936.

В. Хлебников у памятника Пушкину.
Рисунов В. Е. Татлина. 1939.
(В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940. Фронтиспис).
В постфутуристическое время, когда футуризм уже сошел со сцены, постепенно сходит на нет и полемика вокруг Пушкина. Еще в 1928 году лефовцы, полагая себя преемниками футуристов и выступая против «разборки лесов вокруг Хлебникова», утверждали, что «отделение Хлебникова от футуризма — теоретически реакционная работа <…> именно так всегда делают классиков и именно так стремятся окончить литературную группировку»[63].
В конце 30-х годов не без влияния официальной канонизации Маяковского была предпринята попытка канонизировать и Хлебникова. Канонизировать с участием памятника Пушкину. Попытка эта была закреплена рисунком Владимира Татлина на фронтисписе к «Неизданным произведениям» В. Хлебникова (1940), книги, составленной Н. Харджиевым и Т. Грицем. Татлин нарисовал романтического, несколько идеализированного молодого поэта, сидящего на скамейке Тверского бульвара возле памятника Пушкину. По словам Н. Берковского, «на портрете, который рисовал Митурич (тут ошибка, речь идет о рисунке Татлина. — Ю. М.), за Велимиром Хлебниковым видна легковейная тень Пушкина, и Хлебников имел право быть напутственным этой тенью»[64].
Самая мысль нарисовать Хлебникова возле пушкинского памятника принадлежала Харджиеву[65], а не была, как полагают некоторые исследователи, просто «уверенной художественной догадкой»[66] автора рисунка. Желая как-то легализовать имя поэта, который не получил истинного признания и которого еще долго будут именовать «поэтом для эстетов»[67], Харджиев подал художнику эту идею.

Памятник Гоголю.
Карикатура М. В. Добужинского. 1909.
Так, чтобы ввести поэта в историю русской литературы, понадобилось прислонить его к Пушкину. К памятнику Пушкина. Тем самым в графике была по-своему реализована идея лекции Бурлюка, прочитанной в 1913 году, «Пушкин и Хлебников». Реализована без всякого многоточия. В конечном счете прав здесь оказался Юрий Тынянов, заметивший по другому поводу: «Любое литературное поколение либо борется с Пушкиным, либо зачисляет его в свои ряды… либо, наконец, пройдя вначале первый этап, кончает последним…»[68] Футуристы в этом смысле не были исключением.
ПРИЛОЖЕНИЕ
БУРЛЮКИПушкин (с пьедестала): От этой красоты воняет грязнойЯ памятник себе воздвиг неруко- свалкой;творный Ее кумир — помойка и навоз.Гоголь (с Пречистенского бульвара): Стремясь достигнуть славы жалкой,Любезный Пушкин, брось! Теперь Бурлюк высоко понял нос.не в моде ты. Пушкин (задумчиво):Теперь пошел арап нахальный, Какие странные поэты…наглый, черный Но где ж высокие заветы,Служитель новой красоты. Где идеала светлый храм?Гоголь (махнув рукой): Бурлюк (сердито):Мой друг, назло былым мечтам Сиди и не ори, а там хоть прова —Явилась новая фаланга лись!Кубистых рыцарей и дам, Хочу о Пушкине сказать я,А в светлом храме пляшут танго Чтоб дать вам верное понятьеИ рукоплещут бурлюкам. Об этом старичке, который,Пушкин (с любопытством): черт возьми,Хотел бы я взглянуть на новых Зачислен в гении людьми!корифеев! Для футуристов Пушкин — мощи,Гоголь (мрачно): Его поэзия гнусна,Охота слушать дураков! Стихи бездарны, рифмы тощи,Но, если хочешь ты попасть на суд Вредит нам эта старина,лакеев, Долой прилизанных поэтов!Пойдем в собранье бурлюков! Нас, символических творцов,(Закрывают лица плащами и Тошнит от сладких их сюжетов.отправляются на лекцию Бурлюка.) Читайте только бурлюков!Пушкин (у дверей): Как свиньи, роемся в грязи мы;Позвольте нам билет! Носами тычемся в навоз,Бурлюк (подозрительно): Творим навозные стихи мы,Я где-то видел ваши лица, Но грязь и вонь нам слаще роз!Вы не сотрудники ль газет? Идите смело вслед за нами,Тогда ступайте вон! Довольно вам В отхожей яме жизни суть.глумиться. Вы попадете с бурдюкамиПушкин (скромно): На самый новый верный путь!Нет, он прозаик, я поэт!.. Публика (аплодируя):Бурлюк (снисходительно): Вот это ловко! Браво, браво!Ага, из старичков! По рожам Пушкин (Гоголю):видно разом. Пойдем отсюда, Гоголь, друг!Ну что же, лезьте вверх! Учитесь, Здесь нам с тобой не место, право,как писать! Здесь гордо царствует бурлюк,Пушкин (вздохнув): Нам эти речи слушать стыдно,Ах, Гоголь, у меня заходит ум Но, так как жизнь идет стремглав,за разум! Мы устарели, очевидно,Но делать нечего! Страдать, так От современности отстав.уж страдать! Когда-то, полные стремленья,(Садятся на заднюю скамейку) Смотрели смело мы вперед.Бурлюк (с эстрады): Мы ждали мира возрожденья,Презренная толпа! Хоть ты и Благословляли жизни ход;идиотка; Мы твердо верили, что скороНо, к черни относясь безгневисто Все переменится вокруг,и кротко, Но, полный хамства и задора,Тебе я искладу бурлючный символ На смену нам пришел бурлюк.мой, Исчезли наши идеалы…А ты пошевели бездарною башкой Мой друг, я чувствую тоску…И все сказанное запомни, Пойдем и, встав на пьедесталы,Не возражая ничего мне!.. Дадим дорогу бурлюку!..Публика (ошарашенная):Однако, черт возьми!.. Прекрасно,браво, бис!ХАФИЗРаннее утро. 1913. № 264. 15 нояб. С. 2.
«Пиковая дама» в русской графикеВ воспоминаниях Александра Николаевича Бенуа есть отдельная глава, почти целиком посвященная «Пиковой даме». Не столько повести Пушкина, сколько опере Чайковского, на премьере которой, состоявшейся 7 декабря 1890 года в Петербурге, присутствовал молодой художник, еще и не помышлявший быть иллюстратором. «Меня лично „Пиковая дама“ буквально свела с ума, превратила на время в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого»[69]. Так Бенуа уверовал в возможность воскресить это прошлое средствами другого искусства: «Музыка „Пиковой дамы“ получила для меня силу какого-то заклятия, при помощи которого я мог проникнуть в издавна меня манивший мир теней»[70]. Существенным для Бенуа было и другое: то, что опера, «не переставая быть иллюстрацией или инсценировкой рассказа Пушкина, стала чем-то характерным для него — Чайковского». Оказалось, что литературный текст не мешал проявить себя композитору, — мысль, к которой не раз будет возвращаться Бенуа уже как художник-иллюстратор.
I
Через девять лет после премьеры, в канун 100-летия со дня рождения Пушкина, московский издатель П. П. Кончаловский, задумав выпустить иллюстрированное издание сочинений поэта, обратился к разным художникам, в числе них был и маститый Репин, и еще молодой Константин Сомов, который, оставив за собой «Графа Нулина», написал издателю, «что есть Шура Бенуа и что он может сделать иллюстрации к „Пиковой даме“»[71]. На эту тему Сомов уже переговорил с Бенуа, который, вероятно, сам и выбрал «Пиковую даму». «Шура, — сообщал тут же Сомов, — кажется, охотно примется и даже до ответного письма возьмется за рисование»[72]. Хотя участие Бенуа в этом издании ограничилось одной иллюстрацией и одной заставкой, именно они, наряду с рисунками К. А. Сомова и Е. Е. Лансере, были отмечены С. П. Дягилевым в статье «Иллюстрации к Пушкину»: «…это единственные настоящие иллюстрации к рассказам Пушкина, сделанные специально для этих рассказов, без них не существующие и, с другой стороны, ярко выражающие характер творчества самих художников»[73].
Второй раз Бенуа приступил к иллюстрированию «Пиковой дамы» в 1905 году, после работы над рисунками к «Капитанской дочке» и к «Медному всаднику»; последние, как известно, были отвергнуты «Кружком любителей русских изящных изданий», но получили широкую известность благодаря их публикации на страницах журнала «Мир искусства» (1904. № 1). К «Пиковой даме» Бенуа на этот раз исполнил семь слегка подцвеченных черных акварелей. Серия эта, по-видимому, осталась незаконченной, в ней отсутствуют и заключительная сцена карточной дуэли Германна с Чекалинским, и такой драматический момент, как смерть графини[74]. Но линия Германна уже в этой серии прослежена художником шаг за шагом, по законам драматургического, почти кинематографического действия. Германн, замерший у подъезда дома графини в ожидании отъезда ее черной кареты (эту композицию Бенуа использует в последней редакции иллюстраций), Германн, осторожно вступающий в пустынный дом графини (большой рисунок, воспроизведенный в пушкинском томе автотипией на отдельной вклейке), маленькая фигурка Германна, удаляющаяся из дома графини после ее смерти (художник заменит эту сцену виньеткой с изображением Германна, спускающегося по круглой потайной лестнице), фигура Германна, возвышающаяся над гробом графини (похожий рисунок войдет в окончательный вариант иллюстраций).
Эти рисунки предназначались для Комиссии народных изданий при Экспедиции заготовления государственных бумаг, однако напечатаны были не отдельной книгой, как, очевидно, предполагалось, а в брокгаузовском томе, который содержал иллюстрации самых разных художников и который, вероятно, имел позднее в виду А. Эфрос, назвав подобные издания «своего рода универсальными магазинами книжных нарядов»[75]. К тому же напечатаны рисунки были только через пять лет после их исполнения, когда Бенуа был уже занят работой над новым вариантом иллюстраций к «Пиковой даме». В том же 1910 году А. Бенуа опубликовал в киевском журнале «Искусство и печатное дело» статью «Задачи графики», в которой специально говорил о правах и обязанностях иллюстратора: «…здесь художник становится в зависимость от другого творчества, и если не обязан всецело подчиниться ему, то во всяком случае не должен забывать о необходимости гармоничного сочетания своей работы с той, в которую он призван войти <…>. Графику можно рассматривать двояко: или как иллюстрация, или как украшение. И то и другое должно непременно служить делу книги…»[76]
Такие задачи ставил перед собой и сам Бенуа, особенно в работе над последним вариантом своих иллюстраций к «Пиковой даме», тем более что предназначались они не для издательства, а были выполнены по заказу знаменитой в то время петербургской типографии Р. Голике и А. Вильборг. На этот раз художник не ограничился серией однотипных рисунков, он сочинил целую книжную партитуру, которую составили семь страничных иллюстраций, шесть заставок, семь концовок, шесть маленьких акварелей к эпиграфам и два фронтисписа ко всему изданию.
Тема карточный игры, тайна трех карт нашла здесь и свое буквальное графическое выражение.
II
Книгу большого формата in quarto (в четвертую долю листа) открывает фронтиспис, на котором впервые появляется Пиковая дама, но появляется в виде «дамы пик», словно вытянутой из колоды игральных карт. На втором фронтисписе, к эпиграфу из «Новейшей гадательной книги»: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность», Бенуа помещает другую карту, составленную из двух половинок, однако картинки не повторяют зеркально друг друга, как на обычных игральных картах. Ясный чистый профиль молодой графини с розой в руке — на верхней половине карты и сухой профиль старухи с колючей веткой — на нижней. Два возраста, два различных образа. «Дама пик» опять становится Пиковой дамой, игральная карта — иллюстрацией к повести[77]. Такая же краткая портретная формула игры как судьбы и судьбы как игры сопровождает эпиграф из анонимной переписки на французском языке к четвертой главе: «7 Mai 18**. Homme sans moeurs et sans religion!» («Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого»). Германн — червонный валет с тузом в руке — наверху, и его же поникшая фигурка в смирительной рубашке — внизу. Реалии повести — игральные карты — оказываются здесь двойными портретами, графическими знаками роковой судьбы ее героев. Не случайно в книге они уменьшены до размеров колоды пасьянсных, гадательных карт[78].
Вынося пушкинские эпиграфы к разным главам на отдельные страницы, Бенуа делает их значимыми и в чтении, и в оформлении книги, уравнивает с большими иллюстрациями. Они тоже печатались отдельно от текста, тоже наклеены на плотную бумагу книжного листа, как на паспарту, их тоже обегает бледная цветная рамка типографского бордюра, очерчивая вокруг них белое поле. Кажется, карта лежит на плоскости страницы, как на зеленом сукне стола. И вместе с тем она не чужая книге: печатная графика, как известно, начиналась тоже с игральных карт. Разбросанные по тексту заставки и концовки составляют еще один ряд графических ремарок, но относящихся непосредственно к сюжету повести. Наконец, семь больших страничных иллюстраций, по одной к каждой главе:
Глава I. Графиня в Версале
-''- II. Туалет графини
-''- III. Германн у подъезда дома графини
-''- IV. Германн и мертвая графиня
-''- V. Явление графини Германну
-''- VI. Германн у Чекалинского
Иллюстрация к заключению
Так, очевидно, самим художником поименованы рисунки в каталоге выставки «Мира искусства» 1911 года[79], на которой они были экспонированы и заслужили одобрение долго не принимавшего Бенуа И. Е. Репина («У него есть воображение, есть вкус и чувство эпохи»)[80].
В иллюстрациях к «Пиковой даме» Бенуа перешел от черно-белой графики, бытовавшей в его время, к живописной цветной акварели. Вот почему они оставляют ощущение великолепия интерьерной, театральной живописи. Иллюстрации сменяют друг друга, как декорации или интерьеры разных эпох. Зеленое сукно стола, кружева платьев, высокие парики, свет канделябров, зеркала, весь антураж столь излюбленного Бенуа XVIII века, в сцене в Версале — время и место действия первой иллюстрации. И зеленое сукно в петербургском доме Чекалинского, куда приходит Германн. Как будто та же композиция, но здесь все иное: и интерьер, и обстановка, и персонажи, — художник переносит нас в другой, уже XIX век. Прозаический быт дома бедного офицера в иллюстрации «Явление графини Германну» напоминает жанры П. А. Федотова, художника, которого высоко ценил А. Н. Бенуа, а сцена «Германн у подъезда дома графини», несмотря на то, что действие на этот раз вынесено на петербургскую улицу, имеет привкус театральности, идущей скорее от оперной традиции «Пиковой дамы».
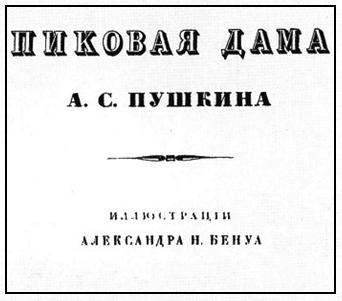
Пушкин А. С. Пиковая дама / Иллюстрации А. Н. Бенуа.
СПб.: Издание Р. Голике и В. Вильборг, 1911.
Титульный лист.

А. С. Пушкин. Пиковая дама.
Рисунки А. Н. Бенуа. 1911.

А. С. Пушкин. Пиковая дама.
Рисунок А. Н. Бенуа. 1911.

А. С. Пушкин. Пиковая дама.
Рисунок А. Н. Бенуа. 1911.
Впрочем, Бенуа и не скрывает сценического характера своих иллюстраций. Последняя большая иллюстрация к Заключению уже не имеет никакого отношения к сюжету и целиком сочинена художником. Здесь нет ни карт, ни Германна, ни Пиковой дамы. Только пустая театральная сцена и костлявая фигура Смерти, огромная тень которой пляшет на опущенном зеленом занавесе, и еще часы на стене, но без стрелок. Игра окончена, гаснут свечи, и последний музыкант покидает зал. Его согнутая, уходящая из картины фигурка напоминает тень человека, оказавшегося возле парикмахерских манекенов на одном из петербургских пейзажей Добужинского. Так графическая партитура к пушкинской повести, начатая художником с игральной карты и сцены в Версале, заканчивается за пределами города Пиковой дамы. Уже сам по себе такой театрализованный финал переводит графическое повествование в план театрального представления. Недаром композиция этой сцены так походит на композицию театрального листа из знаменитой «Азбуки в картинах» Александра Бенуа[81], только там занавес раскрыт, и мы видим персонажей итальянской комедии дель арте — Пьеро, Арлекина и Коломбину, — которые фигурируют и в блоковском «Балаганчике».
По аналогии с азбукой и эту серию рисунков можно было бы назвать «„Пиковая дама“ в картинах…», если бы Бенуа ограничился только страничными иллюстрациями. Правда, роль его собственно в оформлении «Пиковой дамы» оказалось прояснить не так просто, — тем более что, в отличие от своих товарищей по «Миру искусства», сам Бенуа, как правило, шрифты не писал и слыл больше иллюстратором, чем оформителем, — если бы не сохранившееся письмо художника одному собирателю, написанное почти через тридцать лет после выхода книги. «Очень рад, что Вам… достался хороший экземпляр той книги, в которой я решился передать в определенных образах (увы, местами грешащих неточностями) чудесную повесть Александра Сергеевича, пленившую меня с самой ранней моей юности!.. Могу еще сообщить, что переплет является уменьшенным повторением переплета той книги образцов издательства Плюшара, которая была в моей библиотеке, а „форзац“ воспроизводит одну из бумажек начала XIX века из моего (богатейшего!) собрания таких Vorsatz-papier…»[82] К этому следует добавить, что елизаветинская гарнитура, которой набирались многие издания «Мира искусства» и которой набрана «Пиковая дама», по свидетельству Д. И. Митрохина, была разработана, по-видимому, по инициативе самого А. Н. Бенуа[83]. «Пиковая дама» с иллюстрациями Бенуа и вступительной статьей Н. О. Лернера была выпущена типографией Р. Голике и А. Вильборг в 1911 году в трех вариантах. (Как сообщал журнал «Известия преподавателей графических искусств», «10-рублевый экземпляр „Пиковой дамы“ издан в красивом бумажном переплете, но для любителей имеются экземпляры в более роскошных переплетах в 12 и 15 рублей. Кроме того, выпущено 50 особенно роскошных нумерованных экземпляров по 35 руб. без пересылки»)[84]. До сих пор в собраниях библиофилов встречаются разные экземпляры «Пиковой дамы» в разных переплетах, в бумажном (точнее, в картоне, оклеенном белой бумагой), в белом шелке и сафьяне.
Работа над «Пиковой дамой», как известно, не ограничилась для Бенуа иллюстрированием книги. В 1921 году на сцене Мариинского театра в Петрограде он поставил в своих декорациях оперу Чайковского, на премьере которой, состоявшейся в том же самом зале, он сам когда-то присутствовал.
III
На этом историю иллюстрирования Александром Бенуа «Пиковой дамы» можно было бы и закончить, если бы его рисунки не вписались так плотно в сознание целой эпохи. Так или иначе каждый, кто вступает на территорию «Пиковой дамы», не сразу может выбраться из колеи, проложенной ее первым иллюстратором. Даже пытаясь перевести пушкинскую повесть на язык другого искусства.
Когда начинающее русское кино обратилось к «Пиковой даме», оно тоже было вынуждено оглядываться на иллюстрированное издание Р. Голике и А. Вильборг. И демонический профиль знаменитого Ивана Мозжухина — кинематографического Германна в фильме Я. А. Протазанова, вышедшем на экран в 1916 году, казался прямо срисованным с иллюстраций Бенуа. (В предисловии к либретто фильма, где он прямо назывался «киноиллюстрацией», говорилось, что «выбор пал именно на „Пиковую даму“, так как сценичность этой повести давно уже признана»)[85].

Pouchkine A. La dame de picue. Paris, 1923.
Рисунок В. И. Шухаева.

Pouchkine A. La dame de picue. Paris, 1923.
Рисунки В. И. Шухаева.

Pouchkine A. La dame de picue. Paris, 1928.
Цв. гравюра на дереве А. А. Алексеева.

Pouchkine A. La dame de picue. Paris, 1928.
Цв. гравюра на дереве А. А. Алексеева.
От Бенуа не сразу оторвалась и сама книжная иллюстрация. У В. И. Шухаева, иллюстрировавшего «Пиковую даму» в начале 20-х годов для французского издания[86], взгляд на пушкинскую повесть был другим, но и он не смог отвести взгляд от рисунков своего предшественника. В известном смысле шухаевские рисунки можно рассматривать не только применительно к пушкинскому тексту, но и как вариации на темы рисунков Бенуа, как иллюстрацию иллюстраций. Тот же иллюстративный план, тот же сценарий, тот же самый Петербург «Пиковой дамы», который в памяти петербуржцев, особенно тех, кто оказался в эмиграции, имел свои адреса:
— На Литейном, прямо, прямо,Возле третьего угла.Там, где Пиковая ДамаПо преданию жила!(Агнивцев Н. Блистательный Санкт-Петербург.Берлин, 1923).Правда, в рисунках Шухаева больше, чем у Бенуа, собственно петербургского текста, города не только «Пиковой дамы», но и собора Смольного монастыря, Адмиралтейской иглы. Художник как будто знает все наперед, он не читает, а то ли перечитывает пушкинский текст, то ли перелистывает рисунки старой книги. Перечитывает, однако, жестче и острее. Там, где у Бенуа целая декорация, как в сцене «Германн у подъезда дома графини», у Шухаева две заставки, два кадра, один из которых крупным планом — голова Германна в высоком офицерском кивере на фоне регулярно расставленных петербургских домов, другой — общий, отъезд графини, где мы видим лишь колесо кареты, ноги слуг, край платьев. Перелистывая парижское издание «Пиковой дамы», все это замечаешь не сразу, холодноватая стильность рисунков напоминает манеру начала века, но резкость и острота символов характерны уже для графики 20-х годов.
От рисунков Бенуа рисунки Шухаева отделяет чуть больше десяти лет, но принадлежат они разным эпохам. Новый иллюстратор тоже играет в карты и с картами, но Пиковая дама или «дама пик» у него не просто тихо вступает в книгу, как в издании 1911 года, карта со старой графиней тут брошена поверх, покрывая собой изображение молодой графини, как будто сошедшей с французской гравюры XVIII века. Другую карту Шухаев делит не по горизонтали на две половины, а режет по диагонали, из угла в угол. Игральная карта здесь не знак судьбы, олицетворенный в портретных миниатюрах, а зеркальная маска смерти. И на других шухаевских рисунках графиня выглядит то ли символом смерти, то ли ее призраком. Шухаев договаривает там, где Бенуа только намекал, выводя фигуру Смерти за пределы повествования. Тема «Пиковой дамы», как будто такой далекой для начала 20-х годов, решена Шухаевым не как тема игры с судьбой, а как тема игры со смертью, хотя решена еще за карточным столом.
Следы «Пиковой дамы» тянутся и дальше, за пределы пушкинской повести. Мотив карточной игры содержится и в гравюрах Николая Купреянова, и в офортах Василия Масютина, но уже отдельно от Пиковой дамы, лишь с «дамой пик» на руках.
Однако к концу 20-х годов сама мифология темы карт и карточной игры лишилась романтического привкуса и нередко служила объектом пародии, в которой реалии карточной дуэли были причислены к реквизиту старого мира. («Валеты с веревочными усиками», «короли с дворницкими усами», «дама, нюхающая бумажные цветки» — такая колода карт будет фигурировать в знаменитом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».)

А. С. Пушкин. Пиковая дама.
Гравюра на дереве А. И. Кравченко. 1939–1940.

А. С. Пушкин. Пиковая дама.
Цв. литография Н. А. Тырсы. 1936.
Но и позднее «Пиковую даму» читали не как романтическую прозу, а как еще одну повесть Ивана Петровича Белкина. Об этом прямо говорил Виктор Шкловский в середине 30-х годов: «Я дал подробную характеристику „Пиковой дамы“ потому, что мне важно установить отсутствие мистического содержания в повести»[87]. Новым читателям Пушкина демонизм Германна казался чуждым, и критики тех лет полагали, что он присочинен его интерпретаторами, прежде всего Александром Бенуа, у которого, как они утверждали, Германн «ближе к Раскольникову, чем подлинный герой „Пиковой дамы“»[88].
В книжной иконографии «Пиковой дамы» произошла полная смена декораций. Даже в гравюре на дереве, изъяснявшейся обычно на языке символов и аллегорий. Неудивительно, что романтическая гравюрная реплика Алексея Кравченко к пушкинской повести выглядела в конце 30-х годов запоздалой. Больше отвечали духу времени литографии Николая Тырсы 1936 года. Идея художника сделать Пушкина непосредственным зрителем карточной игры Германна, идея выхода автора на сцену была во вкусе русской графики того времени. Не случайно современники расценили этот замысел художника как шаг вперед по сравнению с «Пиковой дамой» Бенуа.
Последующие иллюстраторы еще дальше уйдут в петербургский пейзаж, портрет, в партию Лизы и Германна, разыгрывая ее как некое подобие партии Татьяны и Онегина, а тема рока, судьбы, фортуны, тема карт и карточной игры — «тройка, семерка, туз», — по существу, надолго исчезнет с зеленого сукна русской графики.
Пушкин-лицеистЕсть такие произведения книжной графики, которые давно оторвались от первоначального местожительства, перешагнули свое время и свое книжное пространство.
Многие ли помнят, что «Портрет Достоевского» был награвирован В. А. Фаворским для первого издания «Литературной энциклопедии» или что его же не менее знаменитая гравюра «Пушкин в лицейские годы» открывала первый том собрания сочинений поэта, выпущенного в 1935–1938 годах издательством «Academia»? Уже одно это заставляет нас вспомнить об этих изданиях и восстановить их довольно запутанную историю.
Изданием сочинений Пушкина в девяти маленьких томиках, выпущенных под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, «Academia» начинала ту, можно сказать, стихию пушкинских изданий, которыми было отмечено столетие со дня смерти поэта. «Можно с уверенностью сказать, что все сто лет, прошедшие с печального года гибели Пушкина, — писал А. Эфрос, — никогда художников так сильно не тянуло к облику поэта и к образам его произведений… Столетие смерти Пушкина советские художники встречают прямо-таки потоком бюстов, статуй, картин, рисунков, медальонов, гравюр… У нас есть чем продолжить старую иконографию Пушкина — равноправно, крупно, свежо, а иногда и волнующе!»[89] (Впрочем, дальше критик несколько умерил юбилейный пафос и признавал «скромные результаты» этого праздника, но к числу немногих его удач относил гравюру «Пушкин-лицеист».)
Собрание сочинений Пушкина, о котором идет речь, хотя и было потом заслонено более академичными или богато иллюстрированными юбилейными изданиями, занимает среди них особое место. Оно было задумано и должно было выйти в канун юбилея. В разделе хроники пушкинского тома «Литературного наследства» сообщалось, что «в издании „Academia“ печатается полное собрание сочинений Пушкина в девяти томах с комментариями. Издание будет малого формата, на тонкой бумаге. Все девять томов выйдут одновременно»[90].
Из воспоминаний одной из сотрудниц издательства узнаем также, что все девять томиков должны были иметь еще и общий застекленный футляр, нечто вроде книжной полочки[91]. Таким образом, в домашнем интерьере советского человека предполагался свой книжный пушкинский уголок, наряду с настольной пушкинской скульптурой. Однако изготовить такие «пушкинские полочки» в тираже не удалось — были сделаны единичные экземпляры, как не удалось и осуществить это издание в один год (первые шесть томов вышли в 1935 году, за два года до юбилея).
Интересен сам тип этого издания. Прежде всего из-за его формата. «Карманный Пушкин», причем не один томик, а девять, полное собрание его сочинений. Такого издания раньше не было. «Исчерпывающее по полноте собрание сочинений Пушкина дается не в виде монументальных томов типа „венгеровского“ издания Брокгауза и Ефрона или старого (незаконченного) академического издания, которое торжественно ставилось под стекло на полку и частенько накрепко забывалось там, — писал Д. Д. Благой. — Данное издание выпускается в девяти миниатюрных, со вкусом оформленных томиках, которые могут быть всегда под рукой, „в дороге и дома“, удовлетворяя потребность наиболее частого общения с творчеством величайшего нашего художника слова»[92].

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 9 т. Т. 1. М.; Л. Academia. 1935.
Титульный разворот.
Оформление Н. И. Пискарева.
Речь шла о типе миниатюрного издания, тираж которого — 20 000 экз. — для издательства «Academia», обычно выпускавшего свои книги в количестве 5–10 тысяч экземпляров, был по тем временам очень большим. Печаталось собрание сочинений в типографии «Гознак» на тонкой бумаге высоких сортов.
Любопытно, что выход первых пушкинских томиков совпал с началом выпуска Малой серии «Библиотеки поэта», которая начала издаваться параллельное Большой серией, затеянной Издательством писателей в Ленинграде двумя годами раньше. Но если Малая серия, выпускаемая в наши дни уже третьим изданием, не раз меняла свой формат — от более узкого к квадратному, — стремясь выполнить непременные условия издания стихов, требующие строгого соблюдения авторского графического рисунка стихотворения[93], то в пушкинском собрании сочинений все эти тонкости были учтены сразу. И формат — в 1/32 долю листа (55 х 82 1/32 если перевести на современные стандарты, то он будет примерно соответствовать 1/48 доле листа). И гарнитура шрифта — латинская (теперь ее называют «литературная»), свободная по своему начертанию. И самый кегель шрифта — не корпус и не петит (которым набиралась Малая серия «Библиотеки поэта»), а редко применяющийся в книге боргес, 9-й кегель с довольно крупным очком, но в то же время достаточно емкий, чтобы печатать стихотворный текст без переносов, строка в строку, как у поэта.
Собственно, малый формат стихотворных сборников существовал и в пушкинские времена, и в начале нашего века, и в 20-е годы — это были, как правило, тонкие тетрадки, и выпускались они не в переплете, а в обложке; переплетались они уже потом, в соответствии со вкусами своего времени и личными пожеланиями владельца. Обложка в 30-е годы уступила место издательскому переплету и в изданиях поэзии. Книжный блок был замкнут крышкой переплета. От книжного художника требовалось исполнить не композицию обложки, своего рода графический лист, а оформить некую объемную форму, имеющую еще и корешок. Известно, что издания «Academia» славились своими переплетами, правда, обычно прикрытыми суперобложкой, которую на этот раз, видимо, сочли излишней.
Томики одеты в строгий серый ледерин, двойная беговка с тонким орнаментом, тисненная на крышке переплета, забирая часть его под корешок, как бы отдаленно напоминает о составных любительских переплетах пушкинской поры. Мемориальный характер издания был подчеркнут и атрибутами традиционной символики. Золотая лавровая ветвь украшает надпись на корешке, а гравированная виньетка в виде лаврового венка рядом с наборным шрифтом посвятительных надписей: «1837–1937», «К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ» — начинает титульный лист. Но это еще не все. В развороте с титульным листом в центре белого листа фронтисписа напечатана маленькая гравюрка, тоже напоминающая виньетку, в книге она названа «маркой» (на обороте второго титульного листа читаем: «Марка и переплет Н. И. Пискарева»). Традиционные атрибуты соединены здесь с новой символикой: раскрытая книга — с орнаментом из роз, монограмма художника — с мемориальными датами, профиль поэта — с фигурками рабочего и колхозницы. (Так, за два года до мухинской скульптуры гравюрный вариант этой знаменитой эмблемы 30-х годов оказался эмблемой пушкинского издания.) Книжная орнаментика, выполненная «фанатиком книги», как называли Н. Пискарева его современники, противостояла тому оголению внешнего облика изданий, которое еще недавно культивировала книжная эстетика конструктивизма. Но сам аллегорический характер гравюрки, в которой художник хотел выразить свой восторг и преклонение нового читателя перед Пушкиным, шел во многом от геральдики труда, над которой упорно трудился Н. Пискарев после революции, работая над книжными знаками и другими «мелочами гравюры». Впрочем, теперь, в середине 30-х годов, такая символика казалась чем-то наивным. Тот же Д. Благой в уже цитированной нами рецензии замечал: «Несколько комическое впечатление… производит виньетка: розы подкладываются под висящий в пустоте бюст Пушкина», тем самым отставляя в сторону не только аллегорию, но и главные художественные принципы ксилографии 20-х годов, сформулированные В. Фаворским, и среди них возможность сочетания «разнопространственного» на одном листе, где белое не «пустота», а тоже пространственное понятие — «воздух белого листа»[94].
Издание пушкинского собрания сочинений растянулось на четыре года. Менялось содержание томов, менялись портреты поэта, но из тома в том повторялся титульный разворот с его гравированными виньетками, служивший своего рода эпиграфом ко всему изданию.
И все же не только тип издания и его оформление заставляют вспомнить это собрание сочинений. Каждый том сопровождал оригинальный гравированный портрет поэта, помещенный в виде вклейки на развороте со шмуцтитулом, или, точнее сказать, со вторым титульным листом. «Давать при каждом томике по портрету Пушкина, выполненному специально для настоящего издания современными нам художниками, — очень хорошо, — писал Д. Благой и тут же прибавлял: — Хотя надо было бы наряду с этим дать и некоторые лучшие старые портреты». Однако следование подобным рекомендациям смешало бы старые портреты с новыми, гравюры репродукционные с современными, наконец, разрушило бы ту чистоту гравюрных идей, на которой, собственно, и выросла школа Фаворского, не говоря уже о том, что была бы нарушена определенная стройность замысла.

В. А. Фаворский. Пушкин в лицейские годы.
Гравюра на дереве. 1-й вариант. 1935.
В. А. Фаворский. Пушкин в лицейские годы.
Гравюра на дереве. 1935.
Впрочем, в гравюрном замысле издания были и свои изъяны. Том с «Евгением Онегиным» сопровождала гравюра И. Павлова, исполненная по рисунку Н. Кузьмина, уже прославившегося к тому времени своими рисунками к Пушкину. Но репродукционная гравюра, даже в руках опытного мастера, не могла передать живость перового рисунка, да и сам Кузьмин отступил здесь от внушений пушкинской графической манеры, в чем и был секрет успеха его рисунков к отдельному изданию «Евгения Онегина», напечатанному издательством «Academia» в 1933 году. Другим примером уже прямого отступничества от первоначального замысла был портрет Пушкина к последнему, 9-му тому, выпущенному в 1937 году, портрет, исполненный Г. А. Васильевым в другой технике, литографии, которая резко нарушила ксилографический строй издания (в том же томе была помещена еще одна литография Г. Васильева с изображением посмертной маски Пушкина). Этот факт можно объяснить трудностями завершения издания, так как в 1937 году «Academia» прекратила свою деятельность и 7-й, пропущенный том был издан в 1938 году с гравюрой Ф. Константинова уже Гослитиздатом. По словам художественного редактора «Academia» М. Сокольникова, последние три тома должны были быть украшены портретами Пушкина «в ксилографиях Г. Ечеистова, Э. Будогосского и П. Павлинова»[95]. Нельзя не пожалеть, что ни Будогосский, ни особенно Павлинов, который еще в 1924 году исполнил превосходный пушкинский портрет, не приняли участия в этом издании.
Другая трудность заключалась в необходимости выстроить портретную галерею на территории собрания сочинений, где в основу распределения материала по томам положен не хронологический, а жанровый принцип. В этих обстоятельствах та или иная гравюра могла быть лишь очень условно соотнесена с содержанием того или иного тома, хотя биографическая линия была задана первой гравюрой «Пушкин в лицейские годы» В. Фаворского, открывавшей 1-й том. Если перелистать все девять томиков, оказывается, что «возраст поэта» не всегда совпадает с хронологическими рамками тома. Так, за гравюрой с изображением Пушкина-лицеиста следует гравюра А. Суворова «Пушкин перед дуэлью», она помещена во втором томе, содержащем стихотворения 1821–1830 годов, когда до последней дуэли было еще несколько лет и несколько томов сочинений. (Через два года тот же Суворов почти повторит свою гравюру, уже в гипсовой статуэтке для фарфора.) Что это было, простая небрежность, а такое случалось и в изданиях «Academia», или этот временной сдвиг был связан с отмечаемой датой и ощущение трагической предопределенности было необходимо внушить читателю юбилейного издания, не дожидаясь выхода последнего тома? Или тут сработал какой-то общий рефлекс нашей мифологизированной памяти — при имени Пушкина прежде вспоминать о его судьбе, а уж потом — о творчестве? Как писала в свое время Марина Цветаева: «Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт…»
Для современных мастеров гравюры это издание было пробой сил в таком трудном жанре, как пушкинская иконография, имевшая свои, и давние, традиции.
Девять томов, девять портретов, девять разных художников.
Очень уж разным оказался образ поэта и сам стиль этих гравюр, выполненных художниками, принадлежавшими к различным школам ксилографии. Если Н. Пискарев, Г. Ечеистов и Ф. Константинов были мастерами круга Фаворского, то Л. Хижинский и С. Мочалов представляли более традиционную ленинградскую гравюру. Достаточно сравнить условно-романтический портрет поэта со всеми атрибутами творчества на ровно заполненной штрихом гравюре С. Мочалова (т. 4) и как бы парный ему, изображенный примерно в том же состоянии, но более простой и в то же время самоуглубленный образ «Пушкина в Болдино» на гравюре Н. Пискарева (т. 6), у которого было совсем другое понимание черного и белого, самого характера штриха. Впрочем, романтическая, «медальонная» гравюра поэта другого ленинградского мастера — Л. Хижинского к 3-му тому оказалась среди немногих портретных удач этого ряда.

А. А. Суворов. Пушкин перед дуэлью.
Гравюра на дереве. 1934.
Л. С. Хижинский. Пушкин.
Гравюра на дереве. 1935.

С. М. Мочалов. Пушкин.
Гравюра на дереве. 1935.
Г. А. Ечеистов. Пушкин.
Гравюра на дереве. 1936.
Скромные результаты этого издания можно объяснить и трудностями темы, и непоследовательностью замысла, и положением гравюры в то время, когда ее условности стали казаться чем-то искусственным и от нее начали требовать несвойственной ей психологической характеристики образа, что заметно и в портретах к последним пушкинским томикам. Характерно, что автор юбилейной статьи «Портреты Пушкина в графике» Н. Вышеславцев утверждал, что желание создать поэтический образ сковывает сама «статистическая, „деревянная“ природа доски»[96]. И, следуя этой логике, причислил даже гравюру Фаворского к числу неудач, с чем, однако, не согласилась редакция журнала, сделав на сей счет специальное примечание. Критик увидел в гравюре Фаворского лишь зависимость от известного прижизненного портрета поэта, сопровождавшего первое издание «Кавказского пленника» 1822 года, портрета, гравированного Е. Гейтманом в пунктирной манере по рисунку то ли Карла Брюллова, то ли, как это убедительно доказывает Эфрос, поэта К. Батюшкова[97].
Но гравюра Гейтмана была для Фаворского только иконографическим подлинником для работы, которая имела несколько ступеней. Есть первый вариант, пейзажный, далеко отстоящий от окончательного, есть готовая гравированная доска, перерезанная крест-накрест штихелем самого гравера, есть, наконец, большой карандашный рисунок «Пушкин-лицеист», сделанный в процессе работы над гравюрой, но не для прямого перевода. Он много больше даже по формату. Рисунок, исполненный вроде по гейтмановской гравюре и так не похожий на нее. Теперь, когда стали широко известны карандашные портреты Фаворского, кажется, что их строгость и просветленная чистота перешли и в его Пушкина.
Многие полагают, что рисунок выше гравюры, хотя в ней больше поэта. Печать юного гения заключена в замкнутую гравюрную форму, сохраняя дистанцию между зрителем и образом поэта. Открытая форма рисунка сокращала эту дистанцию. Неудивительно, что в юбилейные дни рисунок был переведен в разряд выставочных и ему явно отдавали предпочтение перед гравюрой. Впрочем, художественная критика укоряла и рисунок за отвлеченность, ее не устраивала «чистота линий, приближающая живое лицо к фарфоровой маске»[98]. Время настойчиво требовало «живого Пушкина».
Листики «неюбилейного» пушкинского календаря (20–30-е годы)В иконографии Пушкина есть свои некалендарные дни. Речь идет о произведениях, никак не связанных с юбилейными торжествами или приуроченных к литературным датам, которые не отмечались так помпезно, как 100-летие со дня смерти поэта.
Назовем некоторые из них. Это задуманный петроградским издательством «Аквилон» «Пушкинский календарь» к 125-летию со дня рождения поэта с тонкими элегическими рисунками В. Конашевича, так и оставшийся неизданным[99]. Это и превосходный гравюрный портрет Пушкина работы П. Павлинова (1924), в первом варианте которого вокруг головы поэта было подобие нимба[100]. Это, наконец, самый ранний советский скульптурный Пушкин В. Домогацкого, который впервые был экспонирован не на какой-либо из пушкинских выставок, а на 2-й выставке «Общества русских скульпторов», состоявшейся в Москве весной 1927 года. Через десять лет бюст Домогацкого будет показан на юбилейной пушкинской выставке и критика отнесет его к немногим произведениям, достойно продолжающим старую пушкинскую иконографию[101]. Однако сам скульптор четко проводил границу между прижизненными портретами поэта и портретами посмертными, «воображаемыми», называя собственный бюст «Пушкиным в кавычках»: «Живого и работать нам нет никакого смысла. Это лежало на обязанности Тропинина и Кипренского…»[102] — говорил Домогацкий, не подозревая, что через десять лет понятие «живой Пушкин» станет обязательным требованием. Впрочем, проведя, как он говорил, «под знаком Пушкина» совсем не юбилейный по размаху празднеств 1927 год, он скоро почувствует на себе тяготы официального заказа, будучи вынужденным через три года исполнить новый упрощенный бюст поэта, на этот раз для массового распространения (перед смертью скульптора образец бюста был уничтожен по его просьбе).
В этой ситуации образ поэта, скорее, находит свое отражение в камерных формах, вплоть до кукол для детского театра. «И я с совершенно равным вниманием и серьезностью строю маленький движущийся памятник Крылова и Пушкина, — писал скульптор И. Ефимов в 1929 году, — как если бы я делал его для вековечной бронзы»[103]. Скульптурный памятник уступает место скульптурному бюсту, графическому портрету, книжной иллюстрации. Как правило, они не вписывались в юбилейные дни 1937 года (случай с бюстом Домогацкого скорее исключение), хотя для своего времени были более характерны, чем те, которые зафиксированы на листах юбилейного пушкинского календаря. Остановимся на некоторых из этих произведений.
I
Издание «Евгения Онегина» с рисунками Н. Кузьмина, задуманное издательством «Academia» к 100-летию первого издания пушкинского романа, немного опоздало и вышло в начале 1934 года.
Об этих рисунках много писали, отмечая их стилистическую связь с собственно пушкинскими рисунками. В самом деле, работы Кузьмина оказались синхронны второму рождению пушкинской графики, известной и раньше, но именно в 30-е годы попавшей в центр всеобщего внимания и ставшей предметом специального исследования. Именно в это время А. Эфрос выпускает ряд книг о рисунках Пушкина. Беглая скоропись пушкинского пера, мелькание его профилей создавали некую иллюзию присутствия поэта. В этой ситуации сходство почерка современного художника с пушкинским объясняет успех и уязвимость этих рисунков. Одни увидели в них «сплошную пародию»[104]. Другие встретили их с воодушевлением, особенно в литературной среде.

П. Я. Павлинов. Пушкин.
Гравюра на дереве. 1924.
Собственно, они и вышли из стен домашней пушкинской «академии» М. Цявловского, «где, — как вспоминал сам художник, — чуть ли не каждый вечер происходили пушкинские чтения, где каждый раз кто-нибудь приносил сенсационную новость: в те годы, близкие к 100-летнему пушкинскому юбилею, то и дело происходили открытия — то новый автограф, то неизвестный факт биографии Пушкина»[105]. Таким своего рода открытием были и рисунки Кузьмина. Пушкин оказывался вблизи, почти на дружеской ноге. Нечто подобное предложит современному читателю М. Зощенко, сочинив в канун юбилея «копию с прозы Пушкина — шестую повесть Белкина…»[106]. Во всем этом было что-то от милой литературной, точнее литературоведческой, игры. Теперь, с рисунками Кузьмина, к ней прибавилась и доля графической мистификации.
Неудивительно, что одним из первых, кто оценил работу Кузьмина, был все тот же исследователь пушкинских рисунков. «Между кузьминскими рисунками и пушкинскими нет посредников, — писал А. Эфрос в 1934 году, — Кузьмин перечеркнул сто лет онегинской графики. Он начал там, где Пушкин кончил»[107].
Так состоялся перевод языка пушкинской графики на язык современной графики и современной книги. Это был дерзкий шаг, тем более что сами пушкинские рисунки неотделимы от его рукописей, от материи письма. Отрицавший, как известно, жанр иллюстрации, Ю. Тынянов относил пушкинские рисунки либо к «рисункам вообще», либо к «рисункам по поводу». «Во всех этих случаях об иллюстративности говорить не приходится»[108].
Но Кузьмин не только перевел пушкинский почерк на книжный язык. Он самого «Евгения Онегина» сделал романом о Пушкине. Исходя из знаменитого пушкинского рисунка, где поэт нарисовал себя рядом с Онегиным, иллюстратор сделал поэта главным персонажем романа.
Из 140 рисунков в сорока пяти, как отмечает современный исследователь, присутствует Пушкин[109]. Его, а не Онегина отыскивает глаз читателя. В этом отношении Кузьмин далеко превзошел тех художников, которые совершат попытку ввести поэта на страницы его, поэта, сочинений уже в юбилейные дни. (Через три года, как мы знаем, Н. А. Тырса решится ввести Пушкина в игорный дом и усадить напротив Германна. Фигура Пушкина возникнет и возле «Медного всадника» на картине В. Сварога «Рождение поэмы».)
Так произошел сдвиг пушкинского романа в сторону графического романа о Пушкине. Произошла двойная инверсия, двойная авторизация книги: главным героем романа становился автор, и сами иллюстрации к роману оказались выполненными в манере, близкой к манере автора. Это редкое среди иллюстраторов внимание к авторской графике можно наблюдать у Кузьмина не только в рисунках к «Онегину», оно присутствует и в рисунках к «Маскам» Андрея Белого (1932), исполненных параллельно онегинским («Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком», — писал об этом Кузьмин[110]).
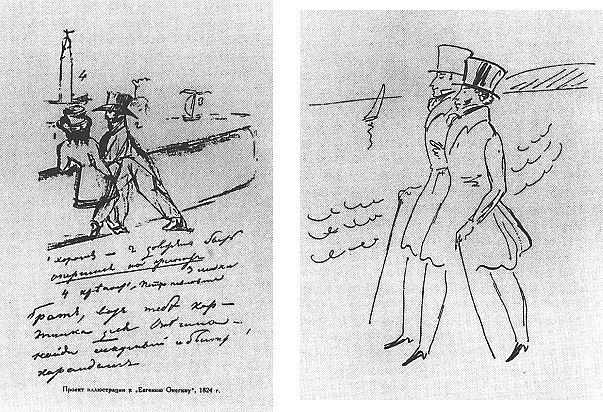
А. С. Пушкин. Проект иллюстрации к «Евгению Онегину». 1824.
Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.
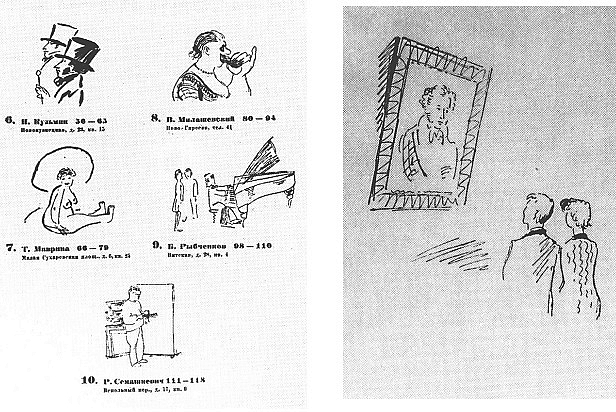
Страница каталога выставки группы «13». М., 1931.
Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.

Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.
К «вольному» обращению с Пушкиным художник пришел не только с ведома пушкинистов, но и с другой, несколько неожиданной стороны. Его первые пушкинские рисунки экспонировались в 1929–1930-х годах на выставке группы «13», которая культивировала образ современного «быстроокого художника», стиль и манеру легкого, живого наброска. Экспонировались рядом с картинками городской жизни со всеми ее современными реалиями. Рядом с «Велосипедистами» Р. Семашкевича, «Цирком» Д. Дарана или «Стоянкой автобуса» того же Кузьмина, пушкинские наброски казались также исполненными на улицах современной Москвы. Это уже был Пушкин «не вчера, не сегодня», а «здесь, прямо сейчас». И такое вольное соседство зрителей выставки в конце 20-х годов вроде еще не смущало.
Иное дело пушкинский текст, прочитанный через семь лет, в дни юбилея. Особое возмущение тогда вызвал один из рисунков Кузьмина, который должен был иллюстрировать строчки из конца 2-й главы «Онегина» («Быть может (лестная надежда!), / Укажет будущий невежда / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был поэт») и на котором художник нарисовал современных юношу и девушку, благоговейно взирающих на портрет поэта. Этот вполне безобидный рисунок был воспринят как «пасквиль» на советского зрителя[111]. Его пришлось убрать из последующих изданий, а художнику — до конца жизни объясняться по этому поводу, объяснять, по существу, за Пушкина, напоминая, что тот и Ленского называл «невеждой» («Он сердцем милый был невежда…») и что в пушкинские времена это слово имело другой смысл[112].
С онегинскими рисунками Кузьмина сложилась парадоксальная ситуация. Они как будто должны были естественно вписаться в юбилейную графику с ее концепцией «живого Пушкина». Однако этого не произошло. Вероятно, слишком игривыми и вольными они показались в торжественной и мрачной атмосфере юбилейных дней 37-го года. «Кузьмин дал все, что мог, в своих иллюстрациях к Пушкину, и все-таки видеть его рядом с Пушкиным почти нестерпимо»[113].
II
Еще более холодно были встречены в юбилейном 37-м году гравюры Фаворского к «Домику в Коломне». Впрочем, они и не предназначались к каким-либо памятным датам.
Календарь пушкинских дат у В. Фаворского свидетельствует о том, что пушкинская тема составляет сквозную тему его творчества, и ставит перед нами и трудноразрешимые вопросы. В самом деле, почему Фаворский за свою долгую жизнь три раза обращался к «маленьким трагедиям» и ни разу — к «Евгению Онегину», хотя и обдумывал план иллюстрирования романа?[114] Почему Фаворский выбрал в 1935 году «Пушкина-лицеиста»? Почему он начинал своего Пушкина с «Домика в Коломне»? Наверное, единственно возможным ответом на эти вопросы будет признание того факта, что встречи художника с Пушкиным происходили не только по юбилейным пушкинским дням, но и по календарю духовной биографии Фаворского. И этот календарь оказывался общезначимым для своего времени.
Так, в начале 20-х годов, когда Фаворский принялся за «Домик в Коломне», это не было случайностью. (Тут у художника оказался неожиданный единомышленник, о чем он, скорее всего, и не подозревал: в 1922 году Игорь Стравинский пишет в Париже оперу «Мавра» на сюжет того же «Домика в Коломне».) В российском духовном климате тех лет, с его безбытностью, склонностью к иронии и гротеску, с его отсутствием романной формы, вряд ли мог возникнуть новый цикл иллюстраций к «Евгению Онегину». Интерес к Пушкину классическому — это уже 30-е годы. Закономерно и то, что гравюрное прочтение «Бориса Годунова» было осуществлено Фаворским только после войны. И последняя его работа в книге, которую он сам избрал, были опять-таки «маленькие трагедии». Это было в самом начале 60-х годов, снова в неюбилейные пушкинские дни.
Однако первым был «Домик в Коломне».

Пушкин А. С. Домик в Коломне. М.: Русское общество друзей книги, 1929.
Обложка — гравюра на дереве В. А. Фаворского.
Работа над гравюрами к «Домику» началась по заказу берлинского издательства «Нева» еще в 1922 году, а была закончена только в 1929 году и выпущена Русским обществом друзей книги тиражом всего 500 экземпляров, большая часть которого ушла за границу, в Москве она появилась годом-двумя позднее. Редкое библиофильское издание. Одна из лучших книг Фаворского, работа над которой растянулась почти на все 20-е годы и вобрала в себя многие принципы его книжной и гравюрной эстетики, которые оказались чуждыми официальному искусству 30-х годов, тем более художественным установкам юбилейной критики. Каких только эпитетов не удостоились эти гравюры. Их называли «сухими», «мертвыми», «тяжелодумными», пригодными лишь для «схоластических комментариев к Талмуду или масонскому трактату», гравюрами, которые «никак не могут ужиться под одним переплетом с легкой, искрящейся поэмой Пушкина»[115].
Но Фаворский иллюстрировал не просто «легкую, искрящуюся поэму». Для него был важен не сюжет поэмы, а заключенный в ней трактат о русском стихе, с которого она и начинается: «Четырехстопный ямб мне надоел, / Им пишет всякий…» Теперь мы читаем поэму по-другому, в последних изданиях несколько октав о стихе переведены в приложения. Фаворский читал «Домик» по другому изданию[116], и читал иначе, чем читали и до, и после него. Нет в его гравюрах и намека на петербургский пейзаж, на Коломну, где жила Параша, а потом белыми ночами будут бродить герои Достоевского. Художника больше интересуют гравюрки на полях, самая возможность перевести пушкинские маргиналии на краткий аллегорический язык гравюры. Вспомним его аллегорические гравюры на обложках сборника «Пушкин» (1924) и «Русская литературная пародия» (1928), где фигурируют та же «Лира», та же «Слава», тот же «Пегас», как будто перелетевшие сюда со страниц «Домика в Коломне». Или — наоборот. (Датировка отдельных гравюр к «Домику» затруднительна и до сих пор не осуществлена.) Вспомним также эпиграфизм раннего Фаворского. Перед «Домиком», когда Фаворский начал его «строить», у него были в книжной гравюре по существу только гравюрные инициалы к «Суждениям аббата Куаньяра» (1918). И его фигурки в «Домике» тоже возникали из буквы, о чем он не раз говорил. Интересно, что первая мысль о гравюре с изображением юного Пушкина, командующего парадом рифм, появляется, как это удалось недавно установить, на черновой странице рукописи трактата самого Фаворского «Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом», который он прочитал осенью 1923 года в Комиссии по изучению искусства книги. В карандашном наброске нарисована головка юного поэта, только голова в профиль, без наполеоновской треуголки, без гусиного пера, без росчерка петель, из которых складывался строй рифм. Все это будет уже в гравюре. Рисунок расположен против слов Фаворского: «И то и другое, т. е. и буквы и иллюстрации, могут входить в книгу и там должны быть объединены»[117]. Почему вдруг именно против этих слов возник набросок юного Пушкина? То ли мысль о нем пришла на ум художнику случайно и он просто воспользовался листом бумаги, который оказался под рукой (обычная прихоть альбомной графики), то ли мысль о единстве шрифта и иллюстрации как-то связалась у художника с размышлениями поэта, которые фигурируют еще в первой октаве «Домика»: «Ведь рифмы запросто со мной живут; / Две придут сами, третью приведут».
Впрочем, все это лишь предположения. Точно соотнести набросок к «Домику» и текст трактата невозможно, как далеко не всегда считывается в пушкинских рукописях текст и лежащий рядом рисунок на полях. Тут интересно другое. Лист рукописи художника схож по композиции с книжной страницей «Домика», тот же узкий столбик текста, большие поля, населенные графическими ремарками. Поэма, таким образом, сохраняет и в книге подобие пушкинской рукописи. Сохраняет некий общий знак творчества, который, согласно строгим законам Фаворского, развернется потом у него в стройную теорию композиции как сложного единства черного и белого, шрифта и иллюстрации, пространства и времени.
Гравюрка с юным Пушкиным оказалась в «Домике» ключевой. По Фаворскому, Пушкин тут и «поэт», и «тема поэта».
Собственно, с изображения Пушкина начинается книга. Он появляется в самом ее начале, еще на фронтисписе. Двойной портрет Пушкина и незнакомца со спины. Фигурка Пушкина уходит вглубь пространства листа, пространства книги, сопровождаемая крупной, по контрасту, фигурой незнакомца[118]. Пушкин оглядывается на нас, и мы узнаем знакомый по автопортретным рисункам профиль поэта, несколько резко, по-гравюрному, приставленный к его фигуре. Пушкин тут и автор, и одновременно персонаж собственной поэмы.
И все же не фронтиспис, а маленькая гравюра с изображением юного поэта, играющего с рифмами, подлинное начало образа Пушкина в гравюрах Фаворского. (Думается, что и хронологически он был исполнен раньше гравюры на фронтисписе.)
III
Как же использует Фаворский в своих гравюрах пушкинские рисунки собственно к «Домику в Коломне»? Он не испытывает к ним тех чувств, которые потом будут воодушевлять Кузьмина в его работе над «Евгением Онегиным». Фаворский не примет во внимание пушкинский шутливый рисунок «Маврушка бреется», исполненный чернилами на отдельном листе рукописи поэмы, а другой набросок, еще на полях рукописного текста, набросок переодетого гвардейца, обратит в черный силуэт.
Проблема «черного силуэта», который присутствует и на переплете «Домика» и — не раз — внутри книги и за который критика будет настойчиво упрекать художника и вовремя и после юбилейного пушкинского года, был расценен ею как «чисто формалистическое сопоставление объемной фигуры и силуэта». «Давая черным силуэтом образ мнимой служанки, — писал в 1937 году журнал „Искусство“, — художник вносит в характеристику этой фигуры элементы какой-то символики, плохо вяжущейся с реалистической ясностью произведений Пушкина»[119]. Мало того, что критика 30-х годов, как видим, оказалась глуха к «Опытам в черном», на которых построены не только гравюры к «Домику», но и последовавшие за ним гравюры к «Рассказам» Бориса Пильняка (1932), она в скрытой форме («элементы какой-то символики») отринула и предреволюционный опыт прочтения пушкинской поэмы, как будет отрицать и какой-либо потаенный смысл в «Пиковой даме».
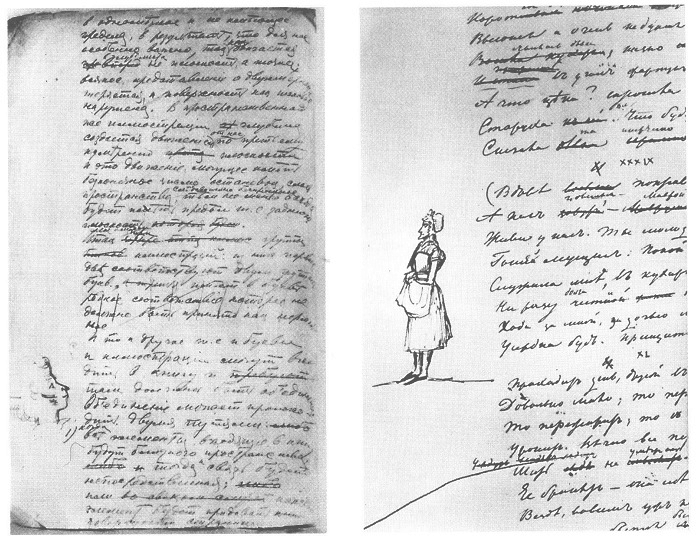
В. А. Фаворский. Набросок статьи «Шрифт, его типы и связь иллюстраций со шрифтом». 1923.
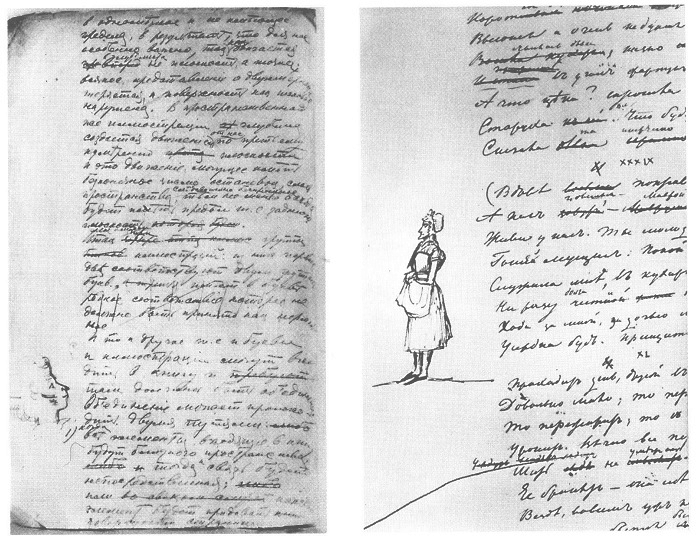
А. С. Пушкин. Страница рукописи «Домик в Коломне». 1830.
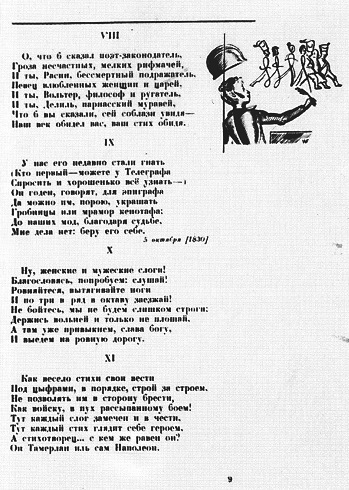
А. С. Пушкин. Домик в Коломне.
Гравюра В. А. Фаворского. 1922–1929.
Мы имеем в виду републикацию в 1912–1913 годах повести Тита Космократова (В. Титова) «Уединенный домик на Васильевском», написанной со слов Пушкина[120]. Факт, который стал сенсацией в литературной жизни 10-х годов. И не столько потому, что вспомнили еще одно произведение, имеющее отношение к Пушкину и некогда напечатанное в альманахе «Северные цветы за 1829 год», сколько потому, что Владислав Ходасевич сумел связать эту повесть с «Медным всадником», «Пиковой дамой» и «Домиком в Коломне» в один петербургский пушкинский текст. Он доказал, в частности, что существует близкая связь между «Домиком на Васильевском» и «Домиком в Коломне», что тема черта, «влюбленного беса» пришла в Коломну, хотя и в снятом виде, с Васильевского острова.
Знал ли Фаворский об этой литературной сенсации? Помнил ли он, делая гравюры к «Домику в Коломне», о «черте» из «Домика на Васильевском»? Все эти вопросы были для нас смутным предположением, пока не получили неожиданного подтверждения от одной из ближайших учениц Фаворского, художницы Ирины Коровай. Ее письмо по этому поводу, публикуемое впервые, представляет для нашей темы столь большой интерес, что мы позволим себе напечатать большой отрывок из него:
«Я усердно стараюсь выполнить Вашу просьбу — припомнить о подробностях, как происходил разговор с Владимиром Андреевичем об „Уединенном домике на Васильевском“. Было это зимой 1951–1952 гг… Лев Ричардович Мюльгаупт дал мне почитать номер „Аполлона“ со статьей В. Ходасевича о петербургской теме у Пушкина[121]. Так я узнала о существовании „Уединенного домика на Васильевском“, поразилась и помчалась обсуждать это открытие с Владимиром Андреевичем… Он сочувственно отнесся к моему изумлению и волнению и рассказал, как все были поражены, когда „Уединенный домик“ был впервые опубликован. Потом мы поговорили о том, что было бы, если бы Титов не записал рассказа, и каково это показалось Пушкину и пр. Мне кажется, что после этого разговор перешел на „Домик в Коломне“ и В. А. сказал, что, делая его, он старался в какой-то мере возвратить Пушкину похищенный у него замысел и под легкомысленную историю подложить таинственную и страшноватую. К сожалению, я не очень точно помню эту часть разговора… Через несколько лет у нас был еще один разговор о „Домике в Коломне“. Рассказывая мне о черном и белом в шрифте, В. А. сказал, что изображения в „Домике“ происходят от буквы, и обратил мое внимание на то, как там важен шрифт набора… В 1964 году в ночь с 28 на 29 декабря я читала Владимиру Андреевичу „Домик в Коломне“. В комнате было полутемно, сидела бесполезная медсестра и висел фиолетовый плакат Тулуз-Лотрека. Утром Владимир Андреевич умер».
(из письма И. Коровай Ю. Молоку от 16 апреля 1981 г.)IV
Если до сих пор мы говорили о произведениях, по самому своему духу не вписавшихся в юбилейную пушкиниану, но так или иначе в ней присутствовавших, то ниже речь пойдет о работах, которые ни в дни 37-го года, ни в канун его, ни сразу после него так и не всплыли на поверхность художественной жизни. И стали известными уже в наше время.
Речь пойдет о «Натюрморте с маской Пушкина»[122] Фаворского — сравнительно большом рисунке кистью черной тушью (43,7 х 36,7), исполненном художником в 1930 году.
Домашний натюрморт, составленный из вещей семейного обихода дома Фаворского. Стаканчик для карандашей, который, по рассказам дочери художника, смастерил он сам, чертежная линейка, черный ручной зажим для бумаги, карандаши. Типичные атрибуты эстетики конца 20-х годов, эстетики числа и циркуля. И маска Пушкина. Маска, долго жившая в его доме, была если и не из числа гальберговских масок первого отлива, то все же из старых масок («Вот возьми, хорошая маска», — говорил Фаворский много лет спустя, передавая ее одному из своих учеников[123]). В этой вроде не очень сложной постановке читается и второй план. В натюрморте пушкинская маска лежит слегка наклонно, как будто откинувшись на мягкую ткань фона, лишь легкие тени пробегают по ней. И черная ручка зажима для бумаги положена здесь не только для контраста, но кажется знаком судьбы, символом роковой дуэли. Трудно достраивать образы Фаворского, его строгое и объективное искусство сдерживает прихотливое воображение зрителя, но трагическая нота реквиема, как это уже было замечено исследователями[124], явно присутствует здесь. И эта нота не была данью памятной дате гибели Пушкина, которая будет отмечаться через семь лет и породит обильную галерею образов поэта, главным образом на тему дуэли. «И если изучение Пушкина так долго заменялось изучением его дуэли, то кто знает, какую роль при этом сыграли все речи и стихи, которые говорились, говорятся и будут говориться в его годовщины»[125]. Это предостережение Ю. Тынянова, сделанное им еще в середине 20-х годов, да и не им одним, было прочно забыто многими художниками, трудившимися на ниве пушкинианы в юбилейные дни[126].

Сочинения Пушкина. Т. 3. СПб.: Издание П. В. Анненкова. 1855.
Из библиотеки В. А. Фаворского.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.
Рисунок. 1930.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.
Рисунок и гравюра на дереве. 1939.
«Натюрморт с маской Пушкина» имел свое продолжение, но тоже в узком домашнем кругу, в работах учеников Фаворского. Нам известны три таких гравюрных натюрморта, один — Т. Рейн 1936 г., другой — Андрея Ливанова, третий — сына Фаворского Никиты (параллельно гравюре он исполнил рисунок на ту же тему)[127]. По существу, это учебные работы, не покидавшие стены мастерской, работы, в которых сам Фаворский выступал как соавтор. Ему принадлежала «постановка натюрморта», поэтому мы можем рассматривать их как продолжение работы Фаворского с пушкинской маской. В этом смысле для нас существенны различия между его собственным натюрмортом 1930 года и натюрмортами его учеников. Дело здесь не только в различии художественных задач. Фаворский ставил натюрморты, руководствуясь желанием научить своих учеников рисовать гийсы (в данном случае — гипсовую голову), перевести ее на плоскость листа или гравюрную доску. Но в самом отборе вещей, в их постановке заметны знаки времени. Маска теперь положена в профиль на старую книгу, и вместо черной дуэльной перчатки перед ней лежит роза. Натюрморты больше теперь напоминают «портрет поэта на смертном одре», как рисовали его после смерти.
Пушкинская маска здесь фигурирует уже не в рабочей домашней обстановке, а в мемориальном контексте. Но и в этих мемориальных гравюрах больше высокого умиротворения и строгого смирения перед неизбежным, чем в траурном хоре юбилейного 37-го года. Тут надо вспомнить, что к этому времени Фаворский и сам рисовал такой «портрет на смертном одре». Рисовал в начале января 1935 года умершего Андрея Белого. Рисунок этот, к сожалению, утрачен, но память о нем сохранилась благодаря стихам Осипа Мандельштама: «А посреди толпы стоял гравировальщик…»
Но вернемся к первому «Натюрморту» 30-го года. В нем уже были заключены реалии двух разных эпох. Характерно, что К. Петров-Водкин работает примерно в это время над тройным портретом: Пушкин, Андрей Белый и сам Петров-Водкин; в конце 30-х годов и В. Татлин рисует Хлебникова на фоне памятника Пушкину. Пушкин становится мерой, общим идеалом. Фаворский это ощутил раньше, глубже и тоньше других. И не только в календарные пушкинские дни.
Примечания
1Работа над рукописью книги велась при содействии РГНФ, грант 96-04-006297.
(обратно)
2Тынянов Ю. Литературный факт // Леф. 1924. № 2. С. 101.
(обратно)
3Гринберг И. Начало романа // Звезда. 1937. № 1. С. 216. В том же номере журнала помещены письма читателей о творчестве А. С. Пушкина и о романе Тынянова «Пушкин».
(обратно)
4См.: Гус М. Пушкин — ребенок и отрок (о романе Ю. Тынянова) // Красная новь. 1937. № 5.
(обратно)
5Либрович С. Ф. Пушкин в портретах. История изображений поэта в живописи, гравюре, скульптуре. СПб., 1890. С. 104.
(обратно)
6Речь идет о картине К. С. Петрова-Водкина «А. С. Пушкин в группе писателей» (1930-е гг.), один вариант которой был уничтожен автором (см.: Епатко Ю. Автопортрете… Пушкиным // Новый часовой. 1998. № 6/7).
(обратно)
7Интересно отметить, что эти стихи участвовали на самой ранней стадии работы над проектом памятника, так, еще на модели работы Н. С. Пименова (1862) предполагалось поместить полный текст стихотворения (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» (Проблемы изучения). Л., 1967. С. 11–12).
(обратно)
8В литературе о памятнике надписи обычно цитируют наоборот, сначала на правой стороне пьедестала, потом на левой, нарушая этим не только порядок пушкинских текстов, но и логику чтения текста памятника, слева направо, аналогичную чтению книжного текста (см.: Суслов И. М. Памятник Пушкину в Москве. М., 1968. С. 42).
(обратно)
9«Стоя перед памятником Пушкину, мы читаем строфу из „Памятника“, и эти замечательные слова участвуют в данном скульптурном произведении — дополняют его, превращаясь, если так можно выразиться, в монументальный плакат» (Фаворский В. А. Мысли о монументальном искусстве <1958> // Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. С. 423–424).
(обратно)
10Маркярон. Памяти Пушкина // Правда. 1880. № 146.
(обратно)
11Письмо И. Н. Крамского П. М. Третьякову от 23 ноября 1880 г. // Крамской И. Н. Письма. М., 1937. Т. 2. С. 211.
(обратно)
12Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве / Сост. В. И. Межов. СПб., 1885. С. 10.
(обратно)
13См.: Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
(обратно)
14Константин Коровин вспоминает… М., 1971. С. 565–566.
(обратно)
15Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 111.
(обратно)
16«Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках „собачья радость“, ботиночках „джимми“» («Двенадцать стульев»).
(обратно)
17«У Петра Великого близких нет никого. Только лошадь и змея, вот и вся его семья» (Там же).
(обратно)
18В статье «Новый русский язык» К. И. Чуковский писал: «Московские негоцианты, назначая друг другу свидания, таки говорят: „Твербуль Пампуш!“ В этом есть что-то малороссийское, смачное, сдобное, пахнущее сметаной и вишнями: Твербуль Пампуш. А на самом деле это — Тверской бульвар» (Жизнь искусства. 1922. 3 мая).
(обратно)
19Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986. С. 345.
(обратно)
20См.: Митинг у памятника поэту // Советское искусство. 1937. 11 февр.
(обратно)
21Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М., 1966. С. 70.
(обратно)
22Много позднее позицию Тынянова, да и свою собственную, несколько прояснил В. Каверин: «Я не помню, что мы с Юрием Николаевичем когда-нибудь говорили о памятнике Пушкину… Впрочем, я несомненно был согласен с Юрием Николаевичем, который полагал, что „статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента“, враждебна представлению о Пушкине. Я высказался более резко… Что касается иконографии Пушкина, мне помнится, что ему больше всех других памятников нравился памятник Пушкину-юноше в Детском Селе, о котором так прекрасно написала Ахматова. Я думаю, что статью Юрия Николаевича в журнале „Звезда“ можно смело связать с его работой над романом о Пушкине. О портрете Кипренского он говорил, помнится, без малейшего восхищения. Очевидно, он думал, что удовлетворяющего его требованиям и его представлению о Пушкине памятника у нас еще нет, я уже не говорю о портретах» (из письма В. Каверина Ю. Молоку от 30 октября 1986 г.).
(обратно)
23Венок на памятник Пушкину. Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции… СПб., 1880. С. 75.
(обратно)
24Шкловский В. «Тише! Чапай думать будет!» <1964> // Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985. С. 173.
(обратно)
25См.: Терновец Б. Н. Памятник Пушкину. Творческие уроки конкурса <1939> // Терновец Б. Н. Письма, дневники, статьи. М., 1977. С. 276–277.
(обратно)
26Памятник Пушкину в Ленинграде по проекту М. Аникушина, установленный перед Русским музеем только в 1957 году, не отвечал ни идеям довоенного конкурса, ни характеру московского памятника. По мнению историка Петербурга Н. Анциферова, в отличие от памятника Пушкину в Москве, который ассоциируется у него со стихотворением «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», аникушинский образ совершенно иной. «Здесь Н. Анциферов сказал, что хорошо подбираются к этой фигуре стихи „Красуйся, град Петров, и стой…“» (Пини О. А. К истории создания памятника Пушкина работы М. К. Аникушина // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 459). Девизом конкурса 1937 году были стихи: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья…».
(обратно)
27Как шутливо о «переезде» памятника говорили старые москвичи, имея в виду тогдашнее административно-территориальное деление Москвы, «он был жителем Советского района, теперь — житель Свердловского» (сообщено В. Глоцером).
(обратно)
28Шмидт И. М. А. М. Опекушин // Русское искусство. Вторая половина XIX в. Т. 2. М., 1971. С. 529.
(обратно)
29Условия конкурса на составление проекта нового памятника Н. В. Гоголю в Москве // Н. В. Гоголь. Материалы к проектированию нового памятника. М.; Л., 1936. С. 5.
(обратно)
30Шутка начала 1950-х гг., см.: Азадовский М., Оксман Ю. Переписка. 1944–1954. М., 1998. С. 322.
(обратно)
31Бассехес А. Выставка скульптуры // Архитектура СССР. 1933. № 2. С. 59.
(обратно)
32Статья Л. Шервуда «Слово скульптора» перенесена нами из дискуссии «Пушкин в изобразительном искусстве» (Литературный современник. 1937. № 1), так как она затрагивает проблему памятника и, по существу, является продолжением выступления Л. В. Шервуда в журнале «Звезда».
(обратно)
33В файле — «Глава III. Иконографические этюды», раздел «Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину» (приложение). — прим. верст.
(обратно)
34В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «В дальнейшем скульптура призвана…»). — прим. верст.
(обратно)
35В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «В дальнейшем скульптура призвана…»). — прим. верст.
(обратно)
36В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «Объявлен конкурс на памятник Гоголю…»). — прим. верст.
(обратно)
37В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «В Горьком, Москве и…»). — прим. верст.
(обратно)
38В файле — примечание № 22. — прим. верст.
(обратно)
39В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (В. В. Козлов. Памятник Пушкину, абзац: «В те годы гражданской войны…»). — прим. верст.
(обратно)
40В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Е. И. Катонин. География памятников, абзац: «Статуя Пушкина в сквере…»). — прим. верст.
(обратно)
41В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «В Горьком, Москве и…»). — прим. верст.
(обратно)
42В файле — «Глава I. Каким должен быть памятник Пушкину», раздел «Комментарии и дополнения» (Памятники великим писателям /от редакции/, абзац: «Объявлен конкурс на памятник…»). — прим. верст.
(обратно)
43В файле — «Глава II. Пушкин в изобразительном искусстве», раздел «К. С. Петров-Водкин, Пушкин и мы». — прим. верст.
(обратно)
44Из общих работ на интересующую нас тему укажем: Слинина Э. Хлебников о Пушкине // Пушкин и современники. Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена. Ученые записки. Псков, 1970. Т. 434; Григорьев В. П. Хлебников и Пушкин // Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. М., 1983; Паперный З. От Пушкина до наших дней… // В мире Маяковского. М., 1984. Кн. 1; Никольская Т. Футуристы и Пушкин // Традиции и новаторство в советской литературе. Рига, 1986; Баран X. Пушкин в творчестве Хлебникова: некоторые тематические связи // Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века / Пер. с англ. М., 1993. Из последних работ укажем на статью: Парнис А. «Мы находимся к Пушкину под прямым углом». Футуристы и Пушкин // Русская мысль. 1999. № 4255, 4256. Основополагающей для нашей темы является статья Р. Якобсона: Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике / Пер. с англ. М., 1987.
(обратно)
45Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930. С. 321, 381.
(обратно)
46Первую редакцию стихотворения см.: Бурлюк Д. Плодоносящие // Стрелец 1. Пг., 1915. С. 57; вторая редакция (под названием «Утверждение вкуса»): Газета футуристов. 1918. Позднее, вспоминая выступление Д. Бурлюка на втором диспуте «Бубнового валета» (Москва, 25 февраля 1912 г.) за три года до публикации этого стихотворения, Б. Лившиц соединяет и пушкинский памятник, и образ Д. Бурлюка, и его эпатажные стихи: «Неуклюжий, в длинном, непомерно широком сюртуке, смахивающем на поповский подрясник и сообщавшем его фигуре сходство с „беременным мужчиной“ на пушкинском памятнике…» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 85).
(обратно)
47Анчар. Неужели пойдут? // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1913. № 13834. 1 нояб. С. 4. Мы только частично указываем газетную критику лекции Д. Бурлюка, более полную библиографию см.: Крусанов А. Русский авангард. СПб., 1996. Т. 1.С. 307 и след.
(обратно)
48Новое время. 1913. № 13524. 4 нояб. С. 4–5.
(обратно)
49Петербургский листок. 1913. № 303. 4 нояб. С. 3.
(обратно)
50Л. В. Пушкин и Хлебников (на лекции Д. Бурлюка) // Речь. 1913. № 302. 4 нояб. С. 5.
(обратно)
51Чудовский В. За осень // Аполлон: Русская художественная летопись. 1913. 10 дек. С. 85.
(обратно)
52Письмо А. А. Кублицкой-Пиотух М. П. Ивановой от 13 ноября 1913 г. // Лит. наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 484.
(обратно)
53Блок А. Запись 10 декабря 1913 г. // Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 198.
(обратно)
54Устные воспоминания Р. О. Якобсона о Маяковском (1967) // Седьмые тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 304.
(обратно)
55Хафиз. Бурлюки // Раннее утро. 1913. № 264. 15 нояб. С. 2. См. в приложении републикацию этого стихотворения.
(обратно)
56Мгебров А. Жизнь в театре. М.; Л., 1932. Т. 2. С. 278–279.
(обратно)
57Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. С. 424.
(обратно)
58В статье «Маршрут шаризны (Закон случайности в искусстве)» (1919) И. Терентьев так объяснял «теорию контрастов»: «Заменяя „красоту“ — „уродством“, „смысл“ — „нелепостью“, „величие“ — „ничтожеством“, футуристы дали борьбе старого искусства с… ветром… летаргии… последнее напряжение мышц. Здесь кончила мучительную жизнь теория контрастов» (Терентьев И. Собр. соч. Болонья, 1988. Р. 233). О чтении Д. Бурлюком стихотворения «Мне нравится беременный мужчина…» в 1914 г. в Казани см.: Родченко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982. С. 53.
(обратно)
59Запись В. Хлебникова в альбоме Л. Жевержеева. 26 окт. 1915 г., см. Харджиев Н. Запись в альбоме // Russian Literature. 1975. № 9.
(обратно)
60Хлебников В. Ка <1916> // Хлебников В. Собр. соч. Л., 1933. Т. 5. С. 133–134.
(обратно)
61П. Митурич утверждал, что среди неизданных и затерянных сочинений поэта была поэма, посвященная памятнику Пушкину (см.: Открытое письмо худ. П. В. Митурича Маяковскому // Альвэк. Нахлебники Хлебникова. М., 1927. С. 19). Однако эти сведения не подтвердились (см.: Силлов В. Шапочный разбор лесов // Новый леф. 1928. № 11. С. 39).
(обратно)
62Несмелов Б. Предисловие <1925> // Крученых А. Четыре фонетических романа. М., 1927. С. 4.
(обратно)
63Шкловский В. Б. Под знаком разделительным // Новый леф. 1928.№ 11.С. 45. Роль «канонизаторов» Шкловский в данном случае отводил Ю. Тынянову и Н. Степанову, авторам вступительных статей к 1-му тому Собрания сочинений Хлебникова (Л., 1928).
(обратно)
64Берковский Н. Велимир Хлебников <1942–1946> // Берковский Н. Статьи о русской литературе. Л., 1985. С. 343.
(обратно)
65Из беседы автора статьи с Н. И. Харджиевым. Начало 1960-х гг.
(обратно)
66Григорьев В. П. Указ. соч. С. 171.
(обратно)
67Яковлев Б. Поэт для эстетов // Новый мир. 1948. № 3; см.: Молок Ю. Неизданный Харджиев // Лит. газета. 1997. 3 сент.
(обратно)
68Тынянов Ю. Пушкин // Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 228.
(обратно)
69Бенуа А. Мои воспоминания в пяти книгах. Кн. 1–3 / Изд. подготовили: Н. И. Александрова, A. Л. Гришунин, А. Н. Савинов, Л. В. Андреева, Г. Г. Поспелов, Г. Ю. Стернин. Предисл. Д. С. Лихачева. М., 1980. С. 654.
(обратно)
70Там же.
(обратно)
71Письмо К. А. Сомова А. А. Сомову от 1/13 января 1899 г. // К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников / Вступ. ст., сост. и примеч. Ю. Н. Подкапаевой и А. Н. Свешниковой. М., 1979. С. 67.
(обратно)
72Там же. Позднее, вспоминая обстоятельства первого этапа своей работы над «Пиковой дамой», А. Н. Бенуа рассказывал: «В Париже появился московский издатель Кончаловский <…>, и он заказал нам (мне, Сомову и Лансере) часть иллюстраций к затеянному им популярному изданию Пушкина <…> для „Пиковой“ же „дамы“ я нарисовал заставку, представляющую графа Сен-Жермена среди игральных карт и сцену смерти старухи графини. Задача этих иллюстраций была не из трудных, но все же она заставила меня с усердием заняться изучением при помощи графических материалов русских нравов пушкинской эпохи, и с этой целью я перерыл в Кабинете эстампов все, что там имелось русского» (Бенуа Л. Мои воспоминания в пяти книгах. Кн. 4/5. С. 248). И дальше художник называет круг источников, далеко выходящих за пределы исполнения заказа и связанных с началом его широких историко-культурных и художественных интересов к Петербургу, что нашло, в частности, отражение в его последующих иллюстрациях не только к «Пиковой даме», но и к «Медному всаднику». Среди упоминаемых Бенуа листов, первыми он замечает раскрашенные от руки оригинальные оттиски типажных гравюр немецкого мастера Х.-Г. Гейслера, с которыми он тогда «впервые познакомился» и которые, по мнению исследователя, Пушкин использовал в «описании просыпающегося Петербурга в „Евгении Онегине“ („встает купец, идет разносчик“ и т. д.)» (Федоров-Давыдов А. Петербург. Образ города в изобразительном искусстве // Федоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. М., 1975. С. 314). Затем Бенуа указывает на офорты английского гравера Т.-В. Аткинсона, от акватинт которого, посвященных России и русским нравам, он был «в совершенном восхищении», так же как и от литографированных видов Петербурга С. Ф. Галактионова, А. Е. Мартынова, К. Ф. Сабата, С. П. Шифляра, А. П. Брюллова.
(обратно)
73Дягилев С. П. Иллюстрации к Пушкину <1899> // С. Дягилев и русское искусство / Сост., вступ. ст. и коммент. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков. М., 1982. Т. 1. С. 98.
(обратно)
74В пушкинском томе «Библиотеки великих писателей» (СПб., 1910. Т. 4), выпускавшейся под редакцией С. А. Венгерова издательством «Брокгауз-Ефрон», рисунки А. Н. Бенуа были дополнены иллюстрацией «Германн наводит на графиню пистолет», принадлежащей пушкинскому времени и исполненной Г. Г. Гагариным для неосуществленного издания повести 1834 года.
(обратно)
75Эфрос А. Эстетика демократической книги // Книжник. 1919. № 1/2. С. 15.
(обратно)
76Бенуа А. Задачи графики // Искусство и печатное дело. 1910. № 2/3. С. 42, 44.
(обратно)
77По наблюдению Ю. М. Лотмана, «противоречие заложено и в заглавии „Пиковой дамы“, которое обозначает и старую графиню, и игральную карту. Уже попеременное превращение графини в карту и карты в графиню активизирует семантический признак живого/неживого, одушевленного/неодушевленного» (Лотман Ю. М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Труды по знаковым системам. VII. Ученые записки Тартуского ун-та. Тарту, 1975. Вып. 365. С. 137, 138).
(обратно)
78Среди экспонатов выставки произведений русских художников (из собрания И. С. Зильберштейна), устроенной в 1985 году (ГМИИ им. А. С. Пушкина), демонстрировался рисунок А. Н. Бенуа ко второму фронтиспису (игральная карта к эпиграфу из «Новейшей гадательной книги»), который в оригинале оказался значительно больше по размеру, чем его воспроизведение в издании «Пиковой дамы».
(обратно)
79Каталог выставки «Мир искусства». М., 1911. С. 5. В частном собрании существует экземпляр каталога с пометами, вероятно посетителя выставки, около перечня иллюстраций к «Пиковой даме»: «Бенуа срисовал свои костюмы с Большого театра».
(обратно)
80Цит. по: Зильберштейн И. С. Лучший иллюстратор Пушкина // Огонек. 1966. № 52.
(обратно)
81См. послесловие А. Враской к факсимильному переизданию «Пиковой дамы» 1911 г. (Л.: Изокомбинат, 1979).
(обратно)
82Надпись А. Н. Бенуа на экземпляре книги «Пиковая дама» (из собрания С. А. Белица), сделанная художником в ноябре 1940 года в Париже, см.: Александр Бенуа размышляет… / Подгот. изд., вступ. ст. и коммент. И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова. М., 1968. С. 540.
(обратно)
83См.: Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. М., 1974. С. 141.
(обратно)
84См.: Известия преподавателей графических искусств. 1912. № 4–5. В 1917 г. «Пиковая дама» с иллюстрациями А. Н. Бенуа была переиздана той же типографией «Р. Голике и А. Вильборг», которая выпустила первое издание.
(обратно)
85Пиковая дама. Киноиллюстрация повести А. С. Пушкина. М., 1916. С. [3]. Фильм был поставлен по эскизам художника В. В. Боллюзека.
(обратно)
86См.: Pouchkine A. La dame de pique. Traduction de J. Schifrin, B. de Schloezer et A. Gide. Illustrations de Vassili Choukhaeff. Paris: Editions de la Pleiade; J. Schifrin, 1923. Тираж — 345 экз. В Гос. музее А. С. Пушкина (Москва) хранится именной экземпляр А. Н. Бенуа (наборный текст на фр. яз.). Как указывает П. Д. Эттингер, «Пиковая дама» занимала первое место в зарубежной иллюстрированной пушкиниане, повесть иллюстрировали Курт Верт (Мюнхен, 1920), Адольф Пропп (Берлин, 1923), А. А. Алексеев (Париж и Лондон, 1928) и др. (см.: Литературное наследство. М., 1934. Т. 16/18. С. 1177).
(обратно)
87Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937. С. 65.
(обратно)
88Девишев А. Иллюстраторы Пушкина // Искусство. 1937. № 2. С. 58.
(обратно)
89Эфрос А. Советские художники на пушкинском юбилее // Советское искусство. 1937. 11 февр.
(обратно)
90Собрание сочинений Пушкина в издании «Academia» // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16/18. С. 1163.
(обратно)
91«„Пушкин“ большого формата, изданный „Academia“, с моей точки зрения, неудавшееся издание. Оно неудобно в пользовании, в отличие от „маленького“ Пушкина <…> Предполагалось дать к нему маленький шкафчик или, точнее, застекленную картонную коробку. Но, конечно, изготовить ручным способом 20 300 коробок оказалось невозможным. Мне удалось приобрести такой шкафчик, и теперь весь Пушкин в 9 томах умещается в шкафчике 25 х 13 см у меня на столе и всегда под рукой» (Фейгина Л. А. Давнее: Из воспоминаний об издательстве «Academia» // Архив М. В. Раца. М.).
(обратно)
92Благой Д. Новое издание Пушкина // Большевистская печать. 1935. № 11. С. 35.
(обратно)
93См.: Кирнарская А. А. Техническое редактирование стихотворений // Техническое редактирование. Сб. 1. М., 1963.
(обратно)
94Фаворский В. А. О композиции // Искусство. 1933. № 1. С. 18.
(обратно)
95Сокольников М. Пушкинские издания «Academia» // Книжные новости. 1936. № 10. С. 21.
(обратно)
96Вышеславцев Н. Портреты Пушкина в графике // Искусство. 1937. № 2. С. 48. Однако журнал не согласился с автором статьи, сделав на сей счет решительное примечание: «Редакция считает такую оценку ошибочной. Этот портрет принадлежит к тем работам Фаворского (к сожалению, еще недостаточно многочисленным в его творчестве), в которых человек перестает быть только „предметом в пространстве“» (Там же. С. 41–42).
(обратно)
97См.: Эфрос Л. М. Портрет Пушкина, рисованный К. Н. Батюшковым // Временник Пушкинской комиссии-1976. Л., 1979.
(обратно)
98Разумовская С. Пушкин в советском искусстве // Искусство. 1937. № 2. С. 24.
(обратно)
99В своей монографии о художнике (см.: Молок Ю. Владимир Михайлович Конашевич. Л., 1968. С. 31) я пишу об этих рисунках как утраченных и с помощью переписки В. Конашевича с Ф. Нотграфом делаю попытку реконструировать замысел календаря. Позднее рисунки к «Пушкинскому календарю» были обнаружены в Эрмитаже в архиве издателя «Аквилона» Ф. Нотграфта и переданы в Русский музей как рисунки неизвестного художника. Впервые экспонировались на выставке В. Конашевича в 1996 г. в Русском музее.
(обратно)
100«Портрет Пушкина» (первое состояние) впервые воспроизведен в кн.: Павлов В. Павел Павлинов. М.; Л., 1933.
(обратно)
101См.: Эфрос А. Советские художники на пушкинском юбилее // Советское искусство. 1937. 11 февр.
(обратно)
102Домогацкий В. Письмо М. Райхинштейну (1927) // Домогацкий В. Теоретические работы. Исследования, статьи. Письма художника. М., 1984. С. 56. Домогацкий также принимал участие в атрибуции прижизненных скульптурных портретов Пушкина (Там же. С. 180–185).
(обратно)
103Ефимов И. Театр и карнавал: Записки // Ефимов И. Об искусстве и художниках. Художественное и литературное наследие. М., 1977. С. 175.
(обратно)
104См. наст. изд., с. 141. (В файле — «Глава II. Пушкин в изобразительном искусстве. Беседа в „Литературном современнике“», раздел «П. Корнилов, Вчера и сегодня». — прим. верст.).
(обратно)
105Кузьмин Н. Давно и недавно. М., 1982. С. 63. Кузьмину принадлежит также специальная статья «Пушкин-рисовальщик» (Новый мир. 1971. № 4). Интересно, что М. Добужинский, также иллюстрировавший в 30-е годы «Евгения Онегина», написал в 1937 г. статью «О рисунках Пушкина» (Новый журнал (США). 1976. № 125).
(обратно)
106Зощенко М. Шестая повесть И. П. Белкина // Звезда. 1937. № 1. С. 26. Повесть опубликована в том же номере журнала, где печаталась дискуссия «Каким должен быть памятник Пушкину».
(обратно)
107Эфрос А. Н. Кузьмин — иллюстратор Пушкина: К выходу «Евгения Онегина» в издании «Academia» // Литературная газета. 1934. 6 апреля.
(обратно)
108Тынянов Ю. Иллюстрации (1923) // Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 506. Об отношении Н. Кузьмина к тыняновским взглядам на иллюстрацию см.: Молок Ю. Три возраста одной статьи Юрия Тынянова // Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 54.
(обратно)
109См.: Павлова Е. А. С. Пушкин в портретах. М., 1983. С. 96.
(обратно)
110Кузьмин Н. Иллюстрируя Андрея Белого // Звезда. 1972. № 5. С. 182.
(обратно)
111Холодовская М. Иллюстраторы «Евгения Онегина» // Искусство. 1937. № 2. С. 92. Следует отметить, что в своей исторической части статья содержит множество интересных наблюдений.
(обратно)
112См.: Кузьмин Н. Давно и недавно. С. 64–65.
(обратно)
113Холодовская М. Указ. соч. С. 93. Традиция критики иллюстраций Н. Кузьмина к «Евгению Онегину» укоренилась в советском искусствознании вплоть до середины 50-х годов, особенно в трудах А. Чегодаева. В частности, он подверг резкой критике не только рисунки Кузьмина, «опошляющие и снижающие священный для всех советских людей священный образ великого поэта», но и критиков, имея, по-видимому, в виду А. Эфроса, одобрительно относившихся к этой работе Кузьмина («Однако до сих пор не перевелись поклонники и защитники… книг, которые формалистической критикой 30-х годов были превознесены до небес как „события“ в советской графике». — Чегодаев А. Пути развития русской советской книжной графики. М., 1955. С. 30). На этот раз в защиту художника выступили в печати известные пушкинисты. См.: Ашукин Н., Благой Д., Богословский Н., Бонди С., Виноградов В., Гроссман Л., Гудзий Н., Измайлов Н., Оксман Ю., Розанов И., Томашевский Б., Цявловская Т. Критика, требующая возражения // Литературная газета. 1956. 14 июля.
(обратно)
114Над декорациями к «маленьким трагедиям» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь») для театра МОСПС В. Фаворский работал в 1937-м, над книжными гравюрами — в 1948 г. для издания «Избранные произведения» (в 3 т.) и в 1961 г. для отдельного издания трагедий. Об иллюстрировании «Евгения Онегина» см.: Фаворский В. О книге // Фаворский В. Рассказы художника-гравера. М., 1965. С. 40–51.
(обратно)
115Девишев А. Иллюстраторы Пушкина // Искусство. 1937. № 2. С. 64.
(обратно)
116При работе над гравюрами к «Домику» В. Фаворский пользовался, в частности, изданием: Гофман М. История создания и текста «Домика в Коломне». Пг., 1922 (экземпляр хранится в семье художника). В послесловии к отдельному изданию «Домика» с гравюрами В. Фаворского (М., 1929) М. Цявловский писал: «Как известно, после выхода в свет издания Брокгауза-Ефрона текстологическими исследованиями М. Л. Гофмана и Б. В. Томашевского установлено, что включать в основной текст „Домика в Коломне“ пропущенные самим поэтом строфы нельзя. Но, как всякий убедится, художнику ломать всю композицию тоже не представлялось возможным. Это служит достаточным оправданием того, что текст поэмы Пушкина в настоящем издании не строго „каноничен“…» Прибавим к этому, что нами разыскан экземпляр верстки этого издания со многими исправлениями М. Цявловского, однако его правка не была учтена. Книга печаталась в Нижнем Новгороде под наблюдением художника Н. Ильина.
(обратно)
117Фаворский В. Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом // Гравюра и книга. 1925. № 1. С. 1. Черновая рукопись статьи с рисунком на полях хранится в семье художника.
(обратно)
118Позднее Е. Кибрик повторит, и не очень удачно, прием такого двойного портрета со спины, но только Пушкина с Грибоедовым на фронтисписе к изданию романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (1932). Повторит сначала в чуждой ему технике гравюры на дереве, что служит прямым доказательством подражания в данном случае гравюре В. Фаворского.
(обратно)
119Кауфман Р., Мальцева Ф. Творчество В. А. Фаворского // Искусство. 1937. № 1.С. 98.
(обратно)
120Повесть В. Титова «Уединенный домик на Васильевском» была напечатана П. Е. Щеголевым в 1912 г. в газете «День» (22–24 дек.) и Н. О. Лернером в 1913 г. в журнале «Северные записки» (№ 1).
(обратно)
121В журнале «Аполлон» (1915. № 3) была опубликована статья В. Ходасевича «Петербургские повести Пушкина». Мюльгаупт Л. Р. — художник, ученик В. Фаворского, в то время регулярно печатал оттиски в его мастерской.
(обратно)
122Рисунок В. Фаворского «Натюрморт с маской» (1930) впервые экспонировался в 1956 г. на выставке в Москве в Доме художника (Фаворский выставлялся там совместно с А. Кардашевым, И. Фрих-Харом и Н. Чернышевым). Ныне находится в собрании Гос. музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Рисунок, по-видимому, был выполнен на Мясницкой, 21, где жил в те годы художник. Ученик В. Фаворского А. Гончаров вспоминал, что там «на стенах висели гипсовая маска Пушкина, портрет матери Владимира Андреевича…» (Фаворский В. А. Воспоминания о художнике. М., 1990. С. 51).
(обратно)
123Из беседы автора с художником Д. Жилинским 27 июля 1986 г.
(обратно)
124См.: Островский Г. Пушкин в творчестве В. А. Фаворского // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 445.
(обратно)
125Тынянов Ю. Промежуток // Русский современник. 1924. № 4. С. 212.
(обратно)
126В альбоме «А. С. Пушкин в изобразительном искусстве» (худож. ред. и коммент. Э. Голлербаха. Л., 1937) воспроизведены три картины — Н. Шестопалова (1929), С. Матросова (1936) и А. Горбова (1936) «Дуэль Пушкина с Дантесом» и другие на ту же тему.
(обратно)
127Гравюра Т. Рейн впервые воспроизведена при публикации ее воспоминаний «Годы учения» (Панорама искусств-11. М., 1988. С. 145). Гравюра А. Ливанова — в кн.: Художник, судьба и великий перелом. ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН — Полиграф-институт / Сост. В. Костин, Т. Рейн. М., 1998. С. 151. Гравюра и рисунок Н. Фаворского впервые экспонировались на его выставке в Москве (ГМИИ, 1991).
(обратно)Оглавление
От автора Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа I. Каким должен быть памятник Пушкину Дискуссия в журнале «Звезда» Комментарии и дополнения II. Пушкин в изобразительном искусстве Беседа в редакции журнала «Литературный современник» Комментарии и дополнения Приложение Из «анкет о Пушкине» Комментарии и дополнения III. Иконографические этюды Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину «Пиковая дама» в русской графике Пушкин-лицеист Листики «неюбилейного» пушкинского календаря (20–30-е годы)
Наш
сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального
закона Российской федерации
"Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995
N 110-ФЗ, от 20.07.2004
N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения
произведений
размещенных на данной библиотеке категорически запрешен.
Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.
|
|
|
Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - электронные книги бесплатно